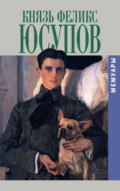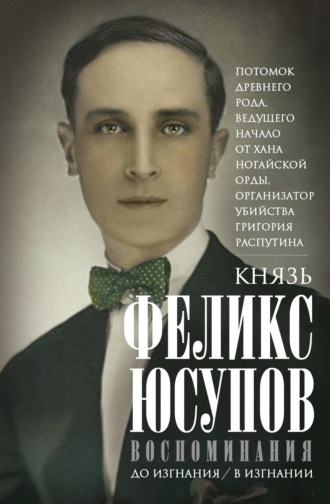
Феликс Юсупов
Воспоминания
В Санкт-Петербурге в числе наших знакомых была одна старая дама, вдова штаб-офицера, постоянно влюбленная в того генерала, кто в данный момент командовал Кавалергардским полком. К этой любви, имевшей столь необычное постоянство, присоединялась ее некрасивость, лишавшая ее всяческих шансов на взаимность. К тому же она усугубляла ситуацию, чрезмерно красясь и нося рыжий парик. Когда мой отец был назначен командиром кавалергардов, он унаследовал эту страсть, неотделимую от должности. Дама неустанно преследовала его знаками внимания, становилась у дверей клуба, куда он ездил после обеда, и слала воздушные поцелуи, как только замечала в окне, свои любовные письма, адресованные ему, она подписывала «Твоя фиалка». Летом она в своей карете следовала за ним на маневры.
Великий князь Николай Михайлович внушил страсть сразу двум сестрам, старым девам, которые ежедневно мерили шагами набережную перед его дворцом. Всегда одинаково одетые, они появлялись в сопровождении слуги в ливрее, который нес, помимо их меховых манто, зонты, калоши и двух облезлых собачонок породы грифон. Всякий раз, когда эта процессия проходила мимо дворца великого князя, эти две старые дуры приседали в глубоком реверансе.
Две другие сестры, столь же богатые, сколь уродливые, жившие в провинции в затянувшемся девичестве, вбили себе в голову войти в петербургское общество. Для своих будущих приемов они приобрели в столице красивый особняк, обставили его в кричащем стиле, наняли превосходного повара, внушительное число слуг, которых нарядили в яркие ливреи, и, закончив это, разослали представления всей аристократии. То, что получили мои родители, гласило: «Дорогие князь и княгиня, вместо того, чтобы есть дома мясо бешеной коровы, приходите лучше на ужин к нам, в эту субботу, к 8 часам». Родители, из любопытства отправившиеся на этот ужин, не удивились, встретив там всех своих друзей.
Надо сказать, что петербургское общество состояло не из одних скоморохов. Все иностранцы, приезжавшие в Россию, согласны в том, что встречали в ней много стоящих людей, образованных умов, приятных и интересных собеседников. А если я знавал немало людей чудаковатых и странных, то только потому, что они забавляли моего отца. Я часто восхищался добротой и терпением матери, которая, видя в своем доме такое количество шутов, всех их принимала одинаково приветливо. При этом должен признаться, что в некоторой степени унаследовал отцовский вкус. Меня всегда привлекали и до сих пор привлекают не только шуты, но и ненормальные и полусумасшедшие. В их дурачествах я нахожу забавляющие меня непосредственность и фантазию, которых многим так не хватает.
Каждый год моя тетка Лазарева приезжала к нам в Петербург на несколько месяцев. Она всегда привозила своих детей: Михаила, Владимира и Ирину; второй сын был примерно моего возраста. Я уже рассказывал о нем, соучастнике и товарище моих проделок. Из-за последней шалости мы расстались на много лет.
Нам было, наверное, лет двенадцать – тринадцать, когда однажды вечером, в отсутствие родителей, мы решили отправиться на прогулку, переодевшись в женское платье. Гардероб моей матери предоставил нам все необходимое для осуществления этого замечательного проекта. Одевшись, накрасившись, обвешавшись драгоценностями и закутавшись в накидки, слишком длинные для нас, мы вышли по потайной лестнице и отправились к парикмахеру моей матери, который согласился одолжить нам парики, якобы для маскарада, как мы объяснили.
В таком облачении мы вышли в город. На Невском проспекте, месте сосредоточения всех петербургских проституток, нас очень быстро заметили. Чтобы избавиться от подкатывавших к нам мужчин, мы отвечали на французском «Нас уже сняли» и с достоинством продолжали путь, рассчитывая окончательно отделаться от них, зайдя в модный тогда ресторан «Медведь». Не подумав оставить накидки в гардеробе, мы сели за столик и заказали ужин. Было ужасно жарко, мы задыхались в наших мехах. Нас с любопытством рассматривали. Какие-то офицеры прислали записку, приглашая нас поужинать с ними в отдельном кабинете. Шампанское ударило мне в голову; сняв с себя жемчужные бусы, я превратил их в лассо, которое стал пытаться накинуть на людей, сидевших за соседним столиком. Как и следовало ожидать, нитка, к огромной радости присутствующих, разорвалась, и жемчужины рассыпались по полу. Встревоженные тем, что стали объектом всеобщего внимания, мы сочли разумным исчезнуть. Собрали большую часть жемчужин и направились к выходу, но тут метрдотель представил нам счет. Поскольку денег у нас не было, пришлось идти к директору и во всем ему признаваться. Этот милейший человек проявил большую снисходительность. Наше приключение его сильно повеселило, и он даже одолжил нам деньги на извозчика. Вернувшись на Мойку, мы обнаружили, что все двери заперты. Я постучал в окно моему верному Ивану, который хохотал до слез, увидев нас в наших одеяниях. Но утром дела испортились. Директор «Медведя» прислал отцу остальные жемчужины, найденные в его ресторане… и счет за ужин!
Владимир и я были на десять дней заперты в своих комнатах с запретом выходить из них. Вскоре после этого тетушка уехала вместе со своими детьми, и прошло много лет, прежде чем я вновь увидел моего кузена.
Глава VIII
Москва. – Наша жизнь в Архангельском. – Художник Серов. – Таинственное явление. – Несколько окрестных домов. – Село Спасское
Я любил Москву больше, чем Санкт-Петербург. Москвичи, будучи меньше затронуты иностранным влиянием, оставались русскими в душе. Москва являлась подлинной столицей царской России.
Старые дворянские фамилии вели ту же патриархальную жизнь в своих прекрасных городских усадьбах, что и в пригородных резиденциях. Пропитанные старыми традициями, они очень мало контактировали с Санкт-Петербургом, который считали чересчур космополитичным.
Богатые купцы, которые все были крестьянского происхождения, образовывали в Москве совершенно отдельный класс. В их домах, красивых и просторных, нередко встречались действительно ценные произведения искусства. Большинство купцов по старинке носили русские рубашки-косоворотки, широкие штаны и большие сапоги, в то время как их жены украшали себя великолепными драгоценностями, а их туалеты соперничали в элегантности с теми, которые носили петербургские дамы высшего общества.
Московские дома были открыты для всех. Пришедшего сразу вели в столовую, к столу, постоянно заставленному многочисленными закусками и графинами с разными сортами водки. Вне зависимости от того, который час, непременно следовало выпить и закусить.
Большинство богатых семей имело поместья недалеко от города; там жили по обычаям древней Московии и практиковали легендарное гостеприимство. Друзья, заехавшие на несколько дней, запросто могли остаться на всю жизнь, а после них их дети, и так несколько поколений.
Москва, словно Янус, двулика: с одной стороны, священный город с многочисленными церквями, покрашенными в яркие цвета, с позолоченными куполами, с часовнями, где перед иконами горели тысячи свечей, с высокими стенами монастырей и толпой верующих, теснящейся во всех церковных зданиях; с другой – город веселый, шумный и оживленный, город роскоши и удовольствий, даже разврата. Разношерстная толпа двигалась вдоль улиц, по которым тренькали колокольчики троек: стрелой пролетали лихачи, шикарные пролетки, всегда запряженные превосходными лошадьми, управляемые молодыми, хорошо одетыми возницами, нередко причастными к галантным приключениям своих седоков.
Эта смесь благочестия и распутства, религии и разврата очень характерная черта Москвы. Москвичи без удержу предавались своим страстям и прихотям, но, нагрешив, так же страстно молились.
Москва, крупный промышленный центр, была и не менее крупным интеллектуальным и артистическим центром.
Оперная и балетная труппы Большого театра могли посоперничать с петербургскими. Драматический и комедийный репертуар Малого театра был приблизительно таким же, как в Александринке, а игра бесподобна. Поколения артистов сменялись, сохраняя его прекрасные традиции. В конце прошлого века Станиславский создал Художественный театр. Гениальный директор и режиссер, он заручился поддержкой таких талантливых людей, как Немирович-Данченко и Гордон Крейг. Несравненный дар готовить артистов позволил ему создать первоклассную труппу и даже самые незначительные роли поручать выдающимся актерам. В актерской игре и в режиссуре не было никаких условностей: это было отражение самой жизни.
Я был завсегдатаем московских театров, постоянным и страстным. А еще я часто ездил к цыганам в рестораны «Яр» и «Стрельна». Они были намного лучше петербургских. Имя Вари Паниной сохранится в памяти всех тех, кому посчастливилось ее слышать. Вплоть до зрелого возраста эта очень некрасивая, всегда одетая в черное женщина зачаровывала слушателей своим низким волнующим голосом. В последние годы жизни она вышла замуж за восемнадцатилетнего юнкера. На смертном одре она попросила своего брата сыграть на гитаре «Лебединую песню», которая была одной из самых знаменитых в ее репертуаре, и отдала душу с последним аккордом.
Наш московский дом был построен в 1551 году царем Иваном Грозным. В то время его окружал лес, и служил он охотничьим домиком. Многокилометровое подземелье соединяло его с Кремлем. Его архитекторами были Барма и Постник, которым Москва обязана знаменитым собором Василия Блаженного. Дабы быть уверенным, что они нигде больше не построят подобное чудо, Иван Грозный в благодарность двум архитекторам приказал отрезать им языки, отрубить руки и выколоть глаза. За приступами жестокости этого безжалостного государя всегда следовали угрызения совести и суровые покаяния; впрочем, он был при этом человеком редкого ума и великим политиком.
Царь никогда не жил подолгу в этом доме. Он устраивал там пышные празднества и по подземному ходу возвращался в Кремль. В этом лабиринте потайных коридоров имелось много выходов, что позволяло ему появляться там и тогда, где и когда его меньше всего ждали.
Он владел уникальной библиотекой, равной которой не было в мире, и, чтобы уберечь ее от частых в те времена пожаров, приказал замуровать в подземелье. От историков известно, что она и сейчас находится там, но произошедшие с тех пор обвалы делают тщетными любые попытки отыскать ее следы.
После его смерти дом был заброшен почти на полтора века. В 1729 году Петр II подарил его князю Григорию Юсупову.
Во время реставрационных работ, предпринятых моими родителями в конце прошлого века, был обнаружен вход в знаменитое подземелье. Когда в него проникли, то увидели впереди длинный коридор с целым рядом прикованных к стенам скелетов.
Дом в старомосковском стиле был покрашен в яркие тона. Одной стороной он выходил на парадный двор, другой на сад. Все залы были сводчатыми и украшенными живописью; в самой большой хранилась коллекция очень красивых ювелирных изделий; стены были украшены портретами царей в резных рамах. Остальное: множество небольших комнат, темные переходы, крохотные лестницы, ведущие в подвальные помещения. Толстые ковры заглушали все звуки, и эта тишина усиливала ощущение таинственности.
Все в этом доме напоминало о страшном царе. На третьем этаже, на том самом месте, где была часовня, некогда находились зарешеченные ниши со скелетами. Мне казалось, что души этих несчастных продолжают обитать в этом месте, и в детстве меня часто преследовал страх, что появится призрак одного из замученных.
Мы не любили этот дом, в котором трагическое прошлое было слишком живучим, и не задерживались в Москве надолго. Когда моего отца назначили генерал-губернатором, мы жили в пристройке, соединенной с главным зданием зимним садом. Сам дом служил лишь местом проведения праздников и приемов.
Среди москвичей попадались большие оригиналы. Мой отец любил окружать себя странными людьми, общество которых его развлекало. В большинстве своем они были членами различных обществ, почетным председателем которых он являлся: собаководства, виноделия и, особенно, пчеловодства, где состояли члены очень распространенной в России секты кастратов – скопцов. Один из них, старик Мочалкин, возглавлявший центр пчеловодства, часто приходил к отцу. Он всегда внушал мне некоторый страх своим старушечьим лицом и тонким голоском. Но все обернулось совсем иначе, когда отец повез нас на пчеловодческую выставку. Встречать его там собралось человек сто. Нам подали обильный обед, за которым последовал очень хороший концерт, который дали эти мужчины с женскими голосами. Вообразите себе сотню старух, переодетых мужчинами и поющих детскими голосами народные песни. Это было одновременно трогательно, смешно и грустно.
Еще один занятный персонаж – толстый лысый человек по фамилии Алферов. Прошлое его было довольно мутным.
Он был пианистом в борделе и продавцом птиц. Последняя профессия стала причиной его неприятностей с полицией, когда он продал под видом экзотических обычных домашних птиц, раскрашенных в яркие цвета.
Он всегда демонстрировал по отношению к нам величайшее почтение, приходя, даже становился на колени и поднимался лишь после появления хозяев дома. Однажды, когда прислуга забыла доложить нам о его приходе, он целый час прождал на коленях в центре зала. Когда за столом кто-нибудь из нас обращался к нему, он всегда вставал и, лишь ответив на наши вопросы, садился вновь. Для меня это стало игрой, которая мне никогда не надоедала. Идя к нам, он одевался в старый фрак, когда-то давно бывший черным, но потерявший от времени свой цвет, очевидно, тот самый, который надевал, когда играл перед дамами невысокой морали. Очень высокий жесткий воротничок частично скрывал его уши; на шее у него висела огромная серебряная медаль в память о коронации Николая II. Другие медали, помельче, закрывавшие его грудь, были наградами, полученными на конкурсах, где он выставлял так называемых экзотических птиц.
Иногда отец брал нас с собой к какому-то попу, в комнате которого к потолку были подвешены бесчисленные клетки с соловьями. Хозяин птиц провоцировал их пение при помощи инструментов собственного производства, которыми стучал одним о другой. Он дирижировал своими певцами, словно оркестром, останавливая их и заставляя начинать сначала и даже по очереди. Я никогда не слышал ничего подобного.
В Москве, как и в Петербурге, мои родители держали открытый стол. Мы знавали одну особу, чья скупость была знаменита, которая устраивала себе приглашения на обед то к одному другу, то к другому каждый день недели, за исключением субботы. Она преувеличенно пылко благодарила хозяйку дома за великолепную кухню, а в конце просила разрешения забрать остатки блюд, которые всегда были обильными. Даже не дожидаясь ответа, она подзывала лакея и приказывала ему отнести остатки еды в карету. Когда же наступала суббота, она приглашала к себе друзей и угощала объедками того, что ела у них в течение недели.
На лето мы уезжали в Архангельское. Многочисленные гости следовали за нами туда, и многие оставались на весь сезон.
Мои симпатии к ним различались в зависимости от их интереса к этой великолепной усадьбе. Я терпеть не мог людей, которые, равнодушные к ее красотам, ездили туда только есть, пить и играть в карты. Их присутствие казалось мне надругательством. Чтобы избавиться от их общества, я убегал в парк и бродил среди деревьев и фонтанов, не уставая любоваться пейзажем, в котором искусство столь счастливо дополняло природу. Его безмятежность прогоняла мои сомнения, успокаивала тревоги, укрепляла надежды. Часто я доходил до театра. Сидя в почетной ложе, я воображал себе спектакль, в котором лучшие артисты играли, пели и танцевали для меня одного. Я представлял себя в облике прапрадеда, князя Николая, абсолютным владыкой нашего прекрасного Архангельского. Порой я поднимался на сцену и сам пел перед воображаемой публикой. Порой воображение заводило меня так далеко, что я начинал верить, будто меня внимательно слушает зал. Когда я выходил из мечтаний, мне казалось, что я раздваиваюсь и одна часть меня насмехается над этой ерундой, а другая грустит из-за разрушенного волшебства.
Архангельское нашло друга и почитателя по моему вкусу в лице художника Серова, приезжавшего туда в 1904 году писать наши портреты.
Это был очаровательный человек. Из всех художников, которых я встречал в России и в других странах, именно о нем у меня остались самые дорогие и самые сильные воспоминания. С первого же его визита я проникся к нему дружескими чувствами. Восхищение Серовым Архангельским, открыв мне его чувствительность, стало основой нашей дружбы. В перерывах между позированиями я водил его в парк. Сидя на одной из моих любимых скамеек, мы вели откровенные беседы. Его передовые идеи оказали некоторое влияние на развитие моего ума. Между прочим, он считал, что если бы все богатые люди походили на моих родителей, революция была бы не нужна.
Серов не торговал своим искусством и принимал заказы только тогда, когда модель ему нравилась. Так, он отказался писать портрет одной светской дамы, занимавшей видное место в петербургском обществе, потому что ее лицо его не вдохновляло. В конце концов он уступил настойчивым уговорам той дамы; но, едва завершив последний сеанс позирования, снова взялся за кисть и увенчал голову дамы огромной шляпой, на три четверти закрывающей ее лицо. Когда модель запротестовала, Серов дерзко ответил, что именно в шляпе и заключается весь интерес картины[45].
Он был слишком независим по характеру и слишком бескорыстен, чтобы скрывать свои мысли. Он рассказывал мне, что, когда писал портрет царя, императрица изводила его своими бесконечными замечаниями. В конце концов, потеряв терпение, он передал ей палитру и кисточки и предложил завершить работу вместо него.
Этот портрет, лучший из портретов Николая II, был изорван в клочья во время революции 1917 года, когда обезумевшая толпа ворвалась в Зимний дворец. Один офицер, мой друг, принес мне несколько лоскутов, подобранных им во дворце и благоговейно сохраненных.
Моим портретом Серов остался очень доволен. Дягилев просил его у нас для выставки русской живописи, организованной им в 1907 году, но известность, которую мне это принесло, не понравилась моим родителям, попросившим Дягилева убрать портрет с выставки.
Каждое воскресенье, после церковной службы, наши крестьяне со своими семьями собирались во дворе усадьбы. Дети получали лакомства, а их родители подавали прошения и жалобы, которые всегда благожелательно выслушивались и редко когда оставались неудовлетворенными.
В июле проходили большие народные праздники, важное место на которых занимали песни и пляски. Эти праздники доставляли радость всем. Мой брат и я активно в них участвовали и каждый год с нетерпением ждали их повторения.
Простота наших отношений с крестьянами, свидетельство братского духа, не исключавшего с их стороны почтения, всегда поражали наших иностранных гостей. Особенно поражен ею был художник Франсуа Фламан, посетивший Архангельское. Ему так понравилось пребывание там, что на прощанье он сказал моей матери: «Обещайте мне, княгиня, когда моя карьера живописца завершится, взять меня в Архангельское почетной свиньей!»
В один год, ближе к концу каникул, мы, мой брат и я, стали свидетелями странного явления, загадка которого так никогда и не разрешилась. Мы должны были сесть в Москве в поезд на Санкт-Петербург. После ужина мы попрощались с родителями и сели на тройку, которая должна была отвезти нас в Москву. Дорога шла через называемый Серебряным бором лес, протянувшийся на несколько километров; в нем нет ни жилищ, ни каких бы то ни было следов пребывания человека. Стояла великолепная светлая лунная ночь. Внезапно посреди этого леса лошади встали на дыбы, и мы увидели поезд, бесшумно пронесшийся между деревьев. Вагоны были освещены, и мы могли различить людей, сидящих в них. Наши слуги перекрестились. «Нечистая сила!» – пробормотал один из них. Николай и я застыли в изумлении: через лес никакой железной дороги не проходило, но мы все четверо видели промчавшийся таинственный поезд.
Мы часто общались с великим князем Сергеем Александровичем и великой княгиней Елизаветой Федоровной, владевшими имением Ильинское, соседним с нашим Архангельским. Их дом был обустроен со вкусом, в стиле английских деревенских усадеб: кресла, обитые ситцем, множество цветов. Свита великого князя жила в павильонах, разбросанных по парку.
В Ильинском я, еще ребенком, встретил великого князя Дмитрия Павловича и его сестру великую княжну Марию Павловну. Оба они жили у дяди с тетей. Их мать, греческая принцесса Александра, умерла, когда они были совсем маленькими, а отец, великий князь Павел Александрович, был вынужден покинуть Россию из-за морганатического брака с госпожой Пистолькорс, впоследствии княгиней Палей.
Двор великого князя был очень разношерстным и полным всяких неожиданностей. Одним из самых забавных персонажей в нем была княгиня Васильчикова, дама гренадерского роста, в сто кило весом, изъяснявшаяся басом на солдатском жаргоне. Ничто не веселило ее больше, чем демонстрация своей силы, которой позавидовали бы многие мужчины. Оказывавшийся в пределах ее досягаемости рисковал быть схваченным и поднятым на воздух, точно новорожденный младенец, что сильно смешило всех окружающих, за исключением разве что самого пострадавшего. Моему отцу, которого княгиня часто выбирала своей жертвой, очень не нравились шутки такого рода. Граф и графиня Олсуфьевы были очень милой пожилой парой. Она, в ту пору обергофмейстерина двора, походила на маркизу XVIII века; ее муж был маленьким человечком, лысым и кругленьким, глухим, как тетерев. Когда Олсуфьев облачался в свою генеральскую гусарскую форму, он надевал саблю, почти с него ростом, которая с жутким грохотом волочилась за ним. Из-за шума, учиняемого этой злосчастной саблей, великая княгиня всегда опасалась, что он явится с нею на церковную службу. К тому же генерал был совершенно неспособен стоять на одном месте: он начинал обход икон, очень многочисленных в русских церквях, и целовал каждую, при этом крестясь. Тем, до которых не мог дотянуться, он посылал воздушные поцелуи. Не заботясь об уважении к святому месту, он пронзительным голосом окликал присутствующих, даже отправляющих службу священников. Все, включая священников, смеялись, а для великой княгини это было пыткой.
Еще одно соседнее имение принадлежало Голицыным, чьи предки продали моему прапрадеду Архангельское. Княгиня Голицына была сестрой моей бабки по отцовской линии[46]. У нее было много детей, и она рано овдовела[47]. Она всегда сидела на террасе в кресле, полная достоинства и важности. Даже в деревне она носила туго зашнурованный корсет, украшенные дорогими кружевами платья, маленький чепчик и душилась восхитительными духами. Приезжая ее проведать, я любил брать ее руку и долго вдыхал этот чудесный аромат.
Две сестры были совершенно не похожи, и между ними часто вспыхивали споры. Моя бабка была, как я уже рассказывал, оригиналкой, чуть-чуть богемной. Ее сестра постоянно делала ей замечания относительно небрежного вида и манер уличного мальчишки, а бабка в ответ называла ее старой мумией.
Князь и княгиня Щербатовы, тоже жившие по соседству с нами, всегда принимали гостей с большим радушием. Их дочь Мария, красивая, умная и очаровательная, впоследствии вышла за графа Чернышева-Безобразова. Она осталась одним из самых ближайших наших друзей. Ни годы, ни пережитые несчастья нисколько не умалили ее достоинств.
На некотором расстоянии от Архангельского стоял на холме замок, словно перенесенный из долины Рейна, совершенно не сочетавшийся с окружавшей его природой. Хозяйка, обладавшая фигурой богини и лицом похожим на задницу, носила прозвище affe popo, что можно перевести как «обезьянья задница». Она любила рассказывать, что каждое утро принимает ванну с лепестками роз.
Останкино и Кусково принадлежали графам Шереметевым, последним потомкам одной из древнейших русских фамилий. Прошедшие века совершенно не повредили великолепию обоих имений. Усадьбы, ценная мебель, почтенного возраста деревья, большие пруды с дремлющей водой оставались такими же, как и во времена их давних хозяев.
Возле Москвы находилось еще одно из старинных имений моей семьи – село Спасское. Именно там жил князь Николай Борисович до приобретения Архангельского.
Я так никогда и не узнал, почему это имение было заброшено. Сам я познакомился с ним лишь в свой приезд в 1912 году.
С опушки соснового бора я заметил стоящий на холме большой дворец, украшенный колоннадой. Дом великолепно вписывался в прекрасный пейзаж. Но когда я подъехал, пришел в ужас от открывшегося мне зрелища: от дома остались одни развалины! Двери и окна исчезли; я шел по обломкам обрушившегося потолка. Там и тут мне попадались осколки былого великолепия: куски изящной лепнины, живопись, точнее, следы живописи. Я ходил по анфиладам залов, один прекраснее другого, где на полу, словно отрезанные руки и ноги, валялись куски мраморных колонн; фрагменты деревянной обшивки – черного дерева, розового, фиолетового, украшенные тонкой резьбой, позволяли мне представить, каким был их декор.
По залам гулял ветер, завывая вокруг толстых стен, будя эхо разрушенного дворца, словно утверждая, что ныне он единственный владыка этого места. Совы, взгромоздившиеся на балки, уставив на меня круглые глаза, словно говорили: «Посмотри, что стало с домом твоих предков».
Я ушел с тяжестью на сердце, размышляя о непростительных ошибках, которые могут совершить люди, имеющие слишком большое богатство.