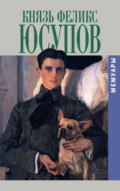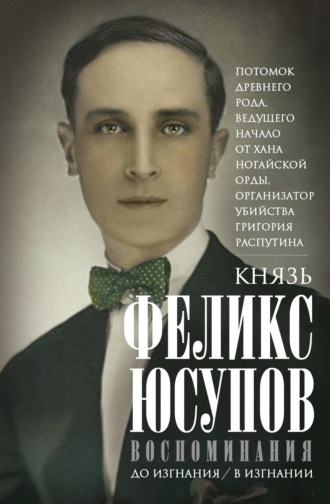
Феликс Юсупов
Воспоминания
Глава XII
Переезд. – Спиритизм и теософия. – Вяземская лавра. – Последняя поездка с братом за границу. – Его дуэль и смерть
В 1906 году моего отца назначили командиром лейб-гвардии Кавалергардского полка, и мы переехали из нашего дома на Мойке на Захарьевскую, на квартиру в расположении полка. Николай и я были огорчены этим переездом, лишившим нас нашего петербургского дома и каникул в Архангельском. Вилла, где мы жили летом, в Царскосельском военном лагере, не стала для нас достаточной компенсацией. Наши родители постоянно принимали в ней офицеров полка и их жен. Некоторые из них были симпатичными, но ни брату, ни мне не нравилась военная атмосфера, и мы только и думали о том, как бы поскорее сбежать оттуда в Архангельское или за границу. В ту пору мы стали неразлучны. По окончании каникул Николай возвращался к занятиям в университете, а я – в гимназии Гуревича. Зимой мы, хоть и жили вместе с родителями, все свободное время проводили на Мойке, где по вечерам к нам часто присоединялись наши друзья.
Среди них был князь Михаил Горчаков, называемый в нашем кругу Мика, красивый парень восточного типа, очень умный, со вспыльчивым характером и золотым сердцем. Видя, какое огорчение мои выходки доставляют родителям, он предложил попытаться вернуть меня на праведный путь. Он не только понапрасну потратил время, но я вдобавок еще подверг его терпение такому жестокому испытанию, что он заработал себе нервную болезнь, лечить которую пришлось за границей. Позже он женился на графине Стенбок-Фермор, очаровательной женщине, очень доброй по характеру, которая сумела сделать его счастливым. Он не обижался на меня за то, что я его так бесил, и мы продолжаем дружить до сих пор.
Однажды вечером мы отправились всей компанией к цыганам, я выпил больше, чем следовало, товарищи доставили меня мертвецки пьяного на Захарьевскую, раздели и уложили в кровать. Вскоре после их ухода я очнулся, но еще далеко не протрезвел. В ярости от того, что меня бросили, я вскочил с постели и босиком, в пижаме, выскочил на двор казармы. Караульные, видя меня бегущим босиком по снегу, не без труда поймали и, узнав, стали громко хохотать. Они разбудили нашего швейцара, чтобы передать меня ему. Однако и бег по снегу не прогнал алкогольные пары: возвращаясь в свою комнату, я ошибся этажом и вломился к генералу Воейкову, адъютанту и личному другу царя. Меня нашли на следующий день, растянувшегося под столом и спящего сном праведника.
В подростковом возрасте мне часто случалось разговаривать во сне. Накануне поездки в Москву родители, зайдя в мою комнату, пока я спал, услышали, как я четко и настойчиво произнес слова: «Крушение поезда… крушение поезда». На них это произвело такое сильное впечатление, что они отменили намеченную поездку. Получилось так, что поезд, на котором они должны были ехать, действительно сошел с рельсов и были многочисленные жертвы. Этого оказалось достаточно, чтобы приписать мне дар прорицательства, который я стал эксплуатировать в своих интересах. Родители поверили в мою игру и руководствовались моими предсказаниями вплоть до того дня, когда разоблачение хитрости положило конец моей карьере пророка.
В то время мой брат и я сильно увлекались спиритизмом. Во время сеансов, устраивавшихся нами вместе с несколькими друзьями, мы стали свидетелями довольно удивительных явлений. Но в тот день, когда увидели, как мраморная статуя отделилась от пьедестала и рухнула к нашим ногам, мы решили отказаться от этих практик. Тогда же мы дали друг другу обещание, что тот из нас, кто умрет первым, явится другому.
Хотя я и отказался от спиритических сеансов, но продолжал интересоваться всем, что связано с потусторонними тайнами. Бог, загробная жизнь, духовное совершенствование постоянно занимали меня. Один священник, которому я открылся, ответил: «Не философствуй слишком много. Не ломай себе голову над этими вопросами. Просто верь в Бога». Но этот мудрый совет не утолял моей жажды знаний. Я ударился в изучение оккультных наук и теософии. Я плохо понимал, как можно заслужить вечное блаженство за короткое время нашей земной жизни, чему учит христианская доктрина. Мне казалось, что теория реинкарнации лучше отвечает на особо занимающий меня вопрос. Я изучил некоторые практики управления телом и духом, способные развить в человеке божественную сущность и постепенно привести к господству над собой и другими. Проникнувшись идеей, что являюсь носителем божественного принципа, я занялся йогой. Ежедневно делал по утрам специальную гимнастику и бесчисленное количество разнообразных дыхательных упражнений. Одновременно я учился концентрировать мысли и развивать волю. Очень скоро я заметил в себе ощутимые перемены: мой мозг стал яснее, улучшилась память, значительно развилась сила воли. Многие мне говорили, что у меня изменился даже взгляд.
Я и сам замечал, что кое-кому стало трудно его выдерживать, и сделал из этого вывод, что приобрел нечто вроде гипнотической силы. Чтобы проверить, до какой степени я могу управлять физической болью, я попытался держать руку над пламенем свечи. Опыт был, конечно, болезненным, но, когда я убрал руку, по комнате уже распространился запах горелой плоти.
Когда мне предстояло перенести весьма болезненное лечение зубов, я поразил дантиста, отказавшись от обезболивающего.
Восхищенный властью, приобретенной над самим собой, я не сомневался в том, что могу использовать ее над другими.
Николай и я познакомились с молодым, симпатичным и очень талантливым актером Блюменталь-Тамариным, которого звали Вова[54]. Тогда в Александринке давали «На дне» Горького.
Вова посоветовал нам посмотреть эту пьесу, в которой Горький изобразил жизнь петербургских бездомных, живущих в квартале, называемом Вяземской лаврой. У меня появилось огромное желание посетить этот квартал, и я попросил Вову нам в этом помочь. Поскольку у него были обширные связи в театральной среде, он без труда добыл для нас соответствующую одежду.
В назначенный день, переодетые нищими, мы втроем отправились в путь пустынными улочками, чтобы избежать встреч с полицией. Тем не менее нам пришлось пройти мимо театра «Буфф» в момент, когда закончился спектакль. Доводя свою роль до конца и желая испытать, что чувствует тот, кто протягивает руку, я остановился на углу и стал просить милостыню. Хотя и был ненастоящим нищим, все-таки я с возмущением смотрел на увешанных драгоценностями и закутанных в меха красивых дам и на нарядных господ с толстыми сигарами, проходивших мимо, не удостоив меня даже взглядом. Я понял, что чувствуют настоящие бедняки.
Когда мы подошли к лавре, Вова посоветовал нам молчать, чтобы не выдать себя. В ночлежке мы сняли три места на нарах, с которых, притворяясь спящими, могли обозревать окрестности. Зрелище было ужасным. Окружавшие нас настоящие человеческие отбросы обоего пола лежали полуголые, грязные и пьяные. Со всех сторон слышались звуки выбиваемых пробок; люди залпом выпивали бутылку водки, а потом бросали ее в соседа. Эти жалкие создания ссорились, осыпали друг друга ругательствами, совокуплялись, блевали друг на друга. Вонь была жуткой. Нам стало настолько противно, что мы поспешили выйти.
Оказавшись на улице, я полной грудью вдыхал свежий ночной воздух. Мне с трудом верилось в реальность увиденного. Как в наше время правительство может допускать, чтобы люди были низведены до существования в столь отвратительных условиях! Воспоминания об этих жутких картинах еще долго преследовали меня.
Должно быть, в гриме и лохмотьях у нас был тот еще вид, потому что нам пришлось постараться, чтобы не узнавший нас швейцар все-таки впустил в наш собственный дом.
Во время нашего пребывания в Париже летом 1907 года Николай познакомился с модной куртизанкой того времени, Манон Лотти, в которую безумно влюбился. Она была очень красивой женщиной, очень элегантной, и жила в большой роскоши: собственный особняк, великолепные экипажи, роскошные драгоценности, даже карлик, которого она считала своим талисманом, и т. д. и т. п. Она часто брала с собой бывшую кокотку, а теперь немощную старуху, по имени Биби, которая гордилась своей давней связью с великим князем Алексеем Александровичем.
Николай совершенно потерял голову и проводил у Манон все дни и ночи. Время от времени он вспоминал о моем существовании и приглашал сопровождать его в походе по ночным заведениям. Но роль статиста меня утомляла, и я не замедлил сам вступить в связь с одной любезной особой, менее роскошной, чем Манон, но все же очень привлекательной. Она курила опиум и однажды вечером предложила мне тоже попробовать испытать это опьянение. В китайской курильне на Монмартре, куда она меня привела, нас встретил старый китаец, проводивший в подвал. Меня поразили специфический запах опиума, а еще царящая в этом месте тишина. На циновках лежали полуголые люди, все, казалось, спящие крепким сном. Перед каждым курильщиком горела маленькая масляная лампа.
Нашего прихода как будто никто не заметил. Мы легли на свободную циновку, и молодой китаец приготовил трубки. Я выкурил несколько штук, и голова у меня уже начала кружиться, как вдруг зазвенел звонок и кто-то крикнул: «Полиция!»
Все те, кто казались спящими, вскочили на ноги и торопливо поправили одежду. Моя спутница, хорошо знавшая это место, потащила меня к потайной дверце, через которую мы смогли свободно уйти. Я с трудом добрался до своего номера и рухнул на кровать. На следующий день, страдая от жуткой головной боли, я поклялся никогда больше не курить опиума, впрочем, клятву эту нарушал при всяком удобном случае.
После этого приключения мы с братом вернулись в Россию.
В Петербурге снова пошла беззаботная веселая жизнь, и Николай быстро забыл свою парижскую любовь. Как это бывает со всеми богатыми молодыми людьми, его преследовали мамаши, ищущие зятя, но он слишком дорожил свободой, чтобы думать о женитьбе.
К несчастью, он встретил девушку, очень красивую и обворожительную, внушившую ему сильнейшую страсть[55]. Ее мать и она вели очень веселую жизнь, и собрания у них бывали частыми и оживленными.
Когда мой брат познакомился с этой девушкой, она уже была помолвлена с офицером одного из гвардейских полков[56]. Но это не остановило Николая в его желании жениться на ней. Наши родители не дали согласия на этот брак, который не одобряли. Я тоже слишком хорошо знал эту юную особу, а потому разделял их взгляд на нее, однако вынужден был скрывать свои чувства, чтобы сохранить дружбу и доверие брата, которого все еще надеялся отвратить от безумного проекта.
Однако дата свадьбы постоянно откладывалась. Устав от отсрочек, жених потребовал ее окончательно назначить. Николай был в отчаянии; девушка плакала и заявляла, что лучше умрет, чем выйдет за нелюбимого. Я узнал, что она позвала моего брата на последний ужин накануне свадьбы. Не сумев уговорить его не ходить туда, я решил отправиться с ним. Среди приглашенных был Вова. Возбужденный алкоголем, он разразился импровизацией, призывая влюбленных соединиться, не заботясь ни о чем, кроме их любви. Поскольку заливавшаяся слезами невеста умоляла Николая бежать вместе с ней, я поспешил известить ее мать, которую, не без труда, уговорил последовать за мной. Когда я вернулся с ней в ресторан, дочь упала ей на руки. Я воспользовался ситуацией, чтобы чуть ли не силой увести Николая домой.
Свадьба состоялась на следующий день, и новобрачные отправились за границу. Дело, казалось, заглохло, к огромному облегчению моих родителей. Поведение Николая, вернувшегося к прежнему образу жизни, окончательно успокоило мать. Но меня это демонстративное равнодушие не обмануло.
В то время в Париже выступала русская опера с Шаляпиным. Брат заявил, что хочет ее послушать. Родители, прекрасно понимая, что Шаляпин – это только предлог, попытались его отговорить, но ничто не могло остановить Николая.
Тогда родители отправили в Париж меня с поручением держать их в курсе поведения брата. Когда я узнал, что он снова встретился с той молодой женщиной, сразу телеграфировал им, чтобы они приехали ко мне.
Однако Николай оставался невидимым и не давал нам о себе знать. В конце концов я отправился к двум знаменитым тогда ясновидящим: госпоже де Теб и госпоже Фрайя. Первая предупредила меня об огромной опасности, нависшей над одним из членов моей семьи, которому угрожает смерть на дуэли. Вторая сказала примерно то же самое и добавила предсказание относительно меня самого: «Через несколько лет вы примете участие в политическом убийстве, переживете страшные испытания, но в конце концов преодолеете их».
До нас доходили противоречивые сведения. Почти наверняка мужу было известно об отношениях Николая с его женой, но в то время, как одни уверяли, что дуэль неизбежна, другие придерживались мнения, что все разрешится простым разводом. В конце концов мы узнали, что офицер действительно вызвал моего брата на дуэль, но секунданты сочли мотивы недостаточными для поединка. Тем временем муж молодой женщины нанес нам визит. Он сообщил, что помирился с Николаем, главной виновницей считает свою жену и собирается потребовать развода. Мы испытали огромное облегчение, узнав, что дуэли удалось избежать, но весьма тревожились относительно того, что последует за разводом.
Очень скоро тревожные новости вызвали нас в Санкт-Петербург: офицер, очевидно, по подстрекательству сослуживцев, вернулся к мысли о дуэли.
Из Николая, замкнувшегося в полном молчании, не удалось ничего вытянуть. Тем не менее он все-таки сказал мне, что дуэль состоится в самое ближайшее время. Я тут же предупредил родителей, которые вызвали его. Ему удалось их успокоить, уверяя, что ничего не случится.
В тот же вечер я нашел у себя на столе записку от матери, в которой она просила как можно скорее зайти к ней, и другую от Николая, приглашавшего меня на ужин к «Констану». Это приглашение показалось мне хорошим знаком, поскольку впервые после нашего возвращения из Парижа он звал меня провести с ним вечер.
Сначала я направился к матери. Она сидела перед зеркалом, и горничная убирала ее волосы на ночь. Я, как сейчас, вижу выражение ее лица и светящиеся от счастья глаза. «Все эти слухи о дуэли ложны, – сказала мне она, – твой брат заходил ко мне сегодня поговорить. Все улажено. Представляешь, как я счастлива? Я так боялась этой дуэли, ведь Николаю на днях исполняется двадцать шесть лет». Вот тогда я и узнал о странном роке, тяготеющем над родом Юсуповых: из всех наследников мужского пола только один в поколении переступал рубеж двадцатишестилетнего возраста. Мать, родившая четырех сыновей, из которых выжили только Николай и я, постоянно дрожала за нас обоих, по очереди. Приближение двадцатишестилетия брата, совпадавшее с угрозой дуэли, вызывало у нее ужасную тревогу. Я поцеловал мать, плакавшую от радости, и отправился в ресторан, в котором Николай назначил мне встречу. Не найдя его там, я принялся искать его по всему городу и вернулся сильно обеспокоенный. После сделанных мне предсказаний и откровений матери исчезновение Николая усиливало мою тревогу. Он сам говорил, что дуэль состоится в ближайшее время. Вероятно, хотел провести последний вечер со мной. Какое непредвиденное обстоятельство ему помешало? Терзаясь мрачными мыслями, я все-таки заснул.
Утром меня разбудил запыхавшийся Иван, мой камердинер: «Вставайте скорее, ужасная беда приключилась!..» Охваченный страшным предчувствием, я вскочил с кровати и бросился к матери. На лестнице я столкнулся с несколькими слугами, лица их были искажены, но ни один не отвечал на мои вопросы. Из кабинета отца доносились душераздирающие крики. Я вошел и увидел его, страшно бледного, перед носилками, на которых лежало тело Николая. Мать, стоявшая возле них на коленях, казалось, потеряла рассудок…
Нам с большим трудом удалось оторвать ее от тела ее ребенка и уложить на кровать. Когда она немного успокоилась, приказала позвать меня, а увидев, приняла за моего брата. Это была жуткая сцена, заставившая меня похолодеть от волнения и ужаса. Потом мать впала в глубокую прострацию. Когда же наконец пришла в себя, ни на секунду не отпускала меня.
Тело моего брата положили в часовне. Начались длинные и утомительные похоронные церемонии, приезжали родственники и друзья. Через несколько дней мы выехали в Архангельское, где должно было состояться захоронение в семейном склепе.
Среди друзей, встречавших нас на вокзале в Москве, была великая княгиня Елизавета Федоровна, поехавшая с нами в Архангельское.
На заупокойную службу собралось много наших крестьян. Большинство из них плакали; все трогательно выражали свою скорбь.
Великая княгиня побыла некоторое время с нами. Ее присутствие, благотворное для всех, стало особенно большим подспорьем для матери, чье горе было безмерно. Отец, замкнутый от природы, скрывал скорбь, но чувствовалось, что он просто уничтожен. Что же касается меня, я был одержим жаждой мести, которая наверняка довела бы меня до какой-нибудь крайности, если бы великой княгине не удалось меня успокоить.
Я узнал обстоятельства дуэли, состоявшейся рано утром в имении князя Белосельского, на Крестовском острове. В качестве оружия были выбраны револьверы, расстояние установлено в тридцать шагов. Когда был дан сигнал, Николай выстрелил в воздух. Противник выстрелил в него, но промахнулся, и тогда он потребовал сократить расстояние до пятнадцати шагов. Николай снова выстрелил в воздух. Офицер прицелился и убил его наповал. Это была уже не дуэль, а убийство. Позднее, разбирая бумаги брата, я нашел переписку, раскрывшую тайную роль, сыгранную в этом деле неким Шинским, очень известным оккультистом. Из писем следовало, что Николай находился под его полным влиянием. Он писал брату, что является его ангелом-хранителем и что его направляет божественная воля; он представил ему его брак с той девицей как необходимость, а позднее побуждал последовать за ней в Париж. Во всех письмах он расхваливал ее и ее мать, а в отношении наших родителей и меня советовал соблюдать осторожность.
Перед отъездом великая княгиня заставила меня пообещать навестить ее в Москве, как только матери станет лучше, чтобы поговорить о моем будущем. Но это произошло не скоро. Здоровье матери улучшилось, но она так никогда и не оправилась от смерти моего брата.
Вернувшись как-то с прогулки, я поднялся по лестнице последней террасы и остановился наверху, чтобы полюбоваться огромным парком со статуями и беседками, просторным домом, хранилищем бесценных сокровищ. Я подумал, что однажды все это будет моим, и это лишь крохотная частичка состояния, которое должно перейти ко мне. Мысль о том, что когда-нибудь я стану одним из богатейших людей России, пьянила. Я вспоминал времена, когда тайком пробирался в театр и представлял себя своим предком, великим меценатом в царствование Екатерины II. Я снова видел мавританский зал на Мойке, где, возлежа на златотканых подушках, облаченный в восточные одежды, украшенный бриллиантами матери, царствовал среди своих рабов; богатство, роскошь и власть – иначе я не представлял себе жизнь. Посредственность и уродство внушали мне ужас… Но что будет, если война или революция лишат меня состояния? Я вспоминал оборванцев из Вяземской лавры. Возможно ли, чтобы я стал подобным им? Одна эта мысль была мне невыносима. Я быстро вернулся. Проходя мимо моего портрета работы Серова, остановился и внимательно рассмотрел его. Серов был великолепным психологом, лучше кого бы то ни было схватывавшим характер своих моделей. На лице молодого человека с портрета я мог прочитать тщеславие, гордыню и сердечную черствость. Разве мог я не измениться после страшного испытания, каковым стала для нас гибель моего брата? Разве мог и дальше замыкаться в своем эгоизме? Я почувствовал такое отвращение к себе, что на мгновение даже подумал о том, чтобы покончить жизнь самоубийством. И лишь мысль о горе родителей удержала меня от этого крайнего решения.
Я вспомнил, что великая княгиня советовала мне навестить ее, и решил воспользоваться улучшением состояния здоровья матери, чтобы отправиться в Москву.
Глава XIII
Великая княгиня Елизавета Федоровна. – Ее благотворное влияние. – Моя деятельность при ней в Москве. – Планы на будущее
Я не претендую на то, чтобы сообщить что-то новое о великой княгине Елизавете Федоровне. Ее чистый и благородный образ уже хорошо известен всем, кто читал различные работы о царском режиме, опубликованные в последние годы. Но в своих мемуарах я не могу коротко не рассказать о той, которая сыграла в моей жизни столь важную и одновременно положительную роль, о той, которую я с самого детства любил, словно вторую мать.
Все знавшие ее воздают должное как совершенной красоте, так и благородству души этой необыкновенной женщины. Высокая, стройная, с ласковым и глубоким взглядом светлых глаз, с тонкими и чистыми чертами, она соединяла с этими внешними достоинствами редкий ум и еще более редкую душевную щедрость. Она была дочерью герцогини Гессен-Дармштадтской Алисы, сестрой правящего герцога Эрнеста Гессенского, внучкой королевы Виктории и старшей сестрой нашей молодой императрицы. Другими ее сестрами были принцесса Виктория Баттенбергская, позднее маркиза Милфорд-Хэвен, и принцесса Ирэна, жена прусского принца Генриха. Она вышла замуж за великого князя Сергея Александровича, четвертого[57]сына царя Александра II.
Первые годы брака она провела в Санкт-Петербурге, устраивая многолюдные приемы в своем дворце на Невском проспекте, ведя блестящую жизнь, как того требовало ее положение, но которая уже в то время ей не нравилась. В 1891 году ее муж был назначен московским генерал-губернатором, и очень скоро она приобрела большую любовь на новом месте его службы. Она и там вела ту же активную жизнь, что в Санкт-Петербурге, деля время между светскими обязанностями и многочисленными делами благотворительности.
17 февраля 1905 года, когда великий князь ехал по Кремлю, на Сенатской площади террорист бросил в его карету бомбу, разорвавшую его на куски.
Великая княгиня занималась в этот момент в мастерской, организованной ею в Кремле, чтобы шить теплую одежду для войск в Маньчжурии. При звуке взрыва она выскочила на улицу даже не надев пальто. На месте она увидела раненого кучера и двух убитых лошадей. Фрагменты тела великого князя валялись на снегу. Она собрала их своими руками и приказала отнести в часовню своего дворца. Сила взрыва была такой, что пальцы великого князя, на которых еще были надеты кольца, нашли на крыше соседнего дома. Все эти подробности мне сообщила сама великая княгиня. Известие о трагедии застало нас в Санкт-Петербурге, и мы немедленно примчались в Москву.
Всех восхитили самообладание и хладнокровие великой княгини. Несколько дней до похорон она провела в молитвах, черпая в своей христианской вере силы для поступка, поразившего все ее окружение: она пришла в тюрьму, где содержался убийца, и попросила допустить ее к нему в камеру.
– Кто вы такая? – спросил он.
– Вдова человека, которого вы убили. Почему вы совершили это преступление?
Продолжение их беседы достоверно не известно. Ходили разные, в той или иной мере фантастические версии. Некоторые уверяли, будто после ухода посетительницы убийцу застали рыдающим, закрыв лицо руками.
Зато точно известно, что великая княгиня написала императору, прося помиловать заключенного, и что Николай II наверняка исполнил бы ее просьбу, если бы убийца не продолжал упрямо отказываться от подачи прошения о помиловании. Он даже написал великой княгине, отрицая, что проявил перед ней какое бы то ни было раскаяние, поскольку его не испытывал, и заранее отвергал милость, испрашиваемую ею для него.
Великая княгиня ходила в больницу к смертельно раненному кучеру. Увидев ее, несчастный, от которого скрывали гибель его господина, спросил:
– Как себя чувствует его императорское высочество?
– Это он прислал меня справиться о твоем здоровье, – ответила она.
После смерти мужа она по-прежнему оставалась в Москве, но совершенно удалилась от светской жизни и полностью сосредоточилась на делах духовных и благотворительности. Она раздарила близким часть своих драгоценностей, а остальные продала. Моя мать купила у нее великолепную черную жемчужину. Даря ее свояченице, царь сказал:
– Теперь у тебя будет жемчужина, почти такая же красивая, как «Перегрина» Зинаиды Юсуповой.
Раздав все свое имущество, великая княгиня купила участок земли в Москве, на Ордынке, в Замоскворечье. В 1910 году она приказала возвести там монастырь Марфы и Марии, настоятельницей которого стала. Последней заботой модницы, всегда демонстрировавшей утонченный вкус, было заказать эскиз рясы московскому художнику Нестерову: жемчужно-серая ряса из тонкой шерсти, белая хлопчатобумажная накидка, окаймляющая лицо, и белая шерстяная длинная вуаль, ниспадающая крупными складками. Монахини не были заперты в монастыре, они занимались помощью бедным и уходом за больными. Они ездили по провинциям, чтобы основывать там новые благотворительные центры. Эта организация быстро развивалась; в несколько лет во всех крупных городах России появились аналогичные учреждения. Тот, что на Ордынке, тоже расширился: пристроили церковь, больницу, рабочие и учебные мастерские, школы. Настоятельница жила в маленьком, очень просто меблированном домике из трех комнат; спала на деревянной кровати без матраса, подкладывая под голову подушку, набитую сеном. Она спала всего по несколько часов в сутки, а то и вообще проводила всю ночь у постели больного или в часовне у гроба; клиники и госпитали присылали ей безнадежных больных, за которыми она ухаживала лично. Так, однажды к ней привезли женщину, опрокинувшую на себя зажженную керосиновую лампу. Ее одежда вспыхнула, и теперь все тело представляло собой одну сплошную рану; начиналась гангрена, и врачи сочли ее обреченной. С ласковым и отважным самоотречением великая княгиня взялась за ее лечение. Перевязки каждый день занимали больше двух часов, а вонь от ран была такой, что многие санитарки падали в обморок. Тем не менее больная в несколько недель поправилась, и это выздоровление сочли чудом.
Великая княгиня не позволяла обманывать умирающих относительно их состояния; напротив, она старалась подготовить их к смерти и внушить веру в вечную жизнь.
Во время войны 1914 года она еще больше расширила свою благотворительную деятельность, сосредоточив сбор пожертвований в пользу раненых и создавая новые отделения своей организации. Хотя она знала истинное положение вещей, но никогда не занималась политикой: была слишком поглощена своей работой, чтобы думать о чем-то другом. Ее популярность росла день ото дня. При ее прохождении толпа, крестясь, опускалась на колени, целовала ее руки и одежду, когда она выходила из кареты.
Несмотря на все то добро, что она делала, нашлось немало людей, критиковавших ее новый образ жизни. Некоторые доходили до того, что утверждали, будто, оставив свой дворец и раздав имущество нищим, сестра царицы нанесла урон императорскому достоинству. Сама императрица была недалеко от того, чтобы разделить это мнение. Две сестры совершенно не ладили. Перейдя в православие, обе они отличались горячей набожностью, но каждая понимала нашу религию по-своему. Императрица любила выбирать трудные и опасные пути: она ударилась в экзальтированный мистицизм, чем погубила себя. Великая княгиня избрала единственный истинный путь гуманизма и любви; ее вера была простой, как у ребенка. Но главной причиной их раздора была слепая вера царицы в Распутина. Великая княгиня, видевшая в нем лишь проходимца и приспешника Сатаны, не скрывала от сестры своих мыслей. Их отношения становились все холоднее и, наконец, прекратились вовсе.
Революция 1917 года не поколебала душевной твердости великой княгини. 1 марта отряд революционных солдат окружил монастырь. «Где немецкая шпионка?» – кричали они. Настоятельница вышла и совершенно спокойно ответила: «Здесь нет немецких шпионок. Это монастырь, а я его настоятельница».
Поскольку они все-таки настаивали на том, чтобы увести ее, она сказала, что готова последовать за ними, но прежде хочет попрощаться с сестрами и получить благословение священника. Солдаты поставили условие, что при церемонии будет присутствовать делегация от них.
Когда она, окруженная вооруженными солдатами, вошла в часовню, все собравшиеся с плачем упали на колени. Поцеловав крест, протянутый ей священником, она повернулась к солдатам и предложила им сделать то же самое: все исполнили, а потом, потрясенные спокойствием великой княгини и тем почитанием, которым она была окружена, молча вышли, сели в свои грузовики и уехали, оставив ее на свободе. Через несколько часов члены Временного правительства принесли ей свои извинения. Они признались, что не могут усмирить анархию, охватывавшую всю страну, и умоляли великую княгиню переселиться обратно в Кремль, где она будет в безопасности. Она поблагодарила, но отклонила их предложение. Сказала, что добровольно покинула Кремль, и даже революция не загонит ее обратно; она решила, если на то будет Божья воля, остаться с сестрами и разделить их судьбу. Кайзер через посредничество шведского посла неоднократно предлагал ей укрыться в Пруссии, поскольку Россия стояла на пороге страшных событий. Он лучше кого бы то ни было знал это, поскольку сам был причастен к беспорядкам, сотрясавшим нашу страну. Но великая княгиня велела ему передать, что никогда по собственной воле не покинет ни свой монастырь, ни Россию.
После первой тревоги община получила на некоторое время передышку. Взяв власть, большевики предоставили всем проживающим в обители на Ордынке разрешение жить там по-прежнему. Даже прислали какое-то продовольствие. Но в июне 1918 года великая княгиня была арестована вместе со своей верной служанкой Варварой и увезена в неизвестном направлении. Патриарх Тихон употребил все свое влияние, чтобы попытаться отыскать и спасти их, но тщетно. Наконец стало известно, что она заточена в городке Алапаевск Пермской губернии вместе со своим кузеном великим князем Сергеем Михайловичем, князьями Иоанном, Константином и Игорем, сыновьями великого князя Константина Константиновича, и сыном великого князя Павла Александровича князем Владимиром Палеем.
В ночь с 17 на 18 июля, через сутки после убийства царя и его семьи, все они были сброшены живыми в шахту. Местные жители, издалека наблюдавшие за бойней, рассказывали, что после того, как большевики уехали, они приблизились к шахте, откуда доносились стоны и церковные песнопения. Но никто не решился помочь жертвам.