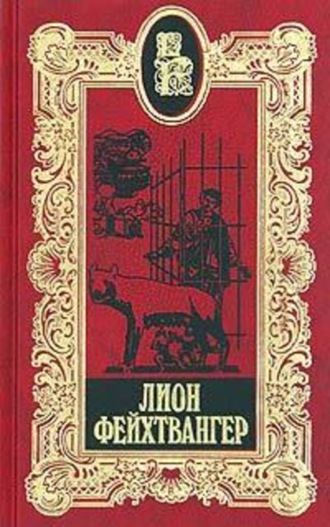
Лион Фейхтвангер
Настанет день
Но это неправда! Все это не больше, чем выдумки недовольного сенатора, упрямого республиканца, ненависть заставляет его делать из мухи слона, и ненависть Финея тоже добавляет свое.
Ну, а если бы даже и правда, что из того? Разве она все еще любит Иосифа?
Конечно, любит. И всегда любила. И была дурой, что ушла от него. А теперь вместо Иосифа у нее Анний. А Иосиф, хитроумный, сын удачи, променял ее на Луцию. Нет, он даже и не хитроумен, он и не хотел этого, он хотел только ее, Дорион, а она сама вынудила его искать замену, сама загнала его в объятия Луции.
Но нет. Она этого не потерпит. Этому не бывать. Она и не подумает смиренно отступить в сторонку. Она ему испортит всю игру.
– А Домициан? – спрашивает она вдруг.
Финей взглянул на Дорион в упор, злобный, хитрый, ненавидящий, доверительный огонек сверкнул в его глазах. Он хотел, чтобы она задала этот вопрос. Ни на йоту не отступил он от темы и вел свою речь с большим искусством: надо было подвести ее к этому вопросу, план должен был возникнуть в ее голове. Как тогда, с университетом в Ямнии, он снова отыскал у противника слабое, уязвимое место; приходится, правда, идти окольными путями, зато место очень уязвимое, и есть все основания надеяться, что на этот раз он наконец нанесет Иосифу, ненавистному, смертельную рану.
И он отвечает:
– Да, Домициан… В том-то все и дело: как допускает это Домициан?
Так же медленно, как Финей, Дорион проговорила своим тонким, ровным голосом:
– Он очень подозрителен. Он часто видит даже то, чего на самом деле нет. Как же он мог не раскрыть то, что есть?
Но Финей возразил:
– Кто способен заглянуть в душу императора? Он еще более непроницаем, чем еврей Иосиф.
– Удивительно, – задумчиво продолжала Дорион, – что он оставил Иосифа безнаказанным после этого чтения. Может быть, тут существует какая-то связь. Может быть, DDD что-то знает и просто не хочет принимать к сведению.
И Финей осторожно предложил:
– Вероятно, можно было бы заставить императора принять к сведению, что его супруга находится в скандально близких отношениях с евреем Иосифом.
Но Дорион, – и теперь в ее глазах цвета морской воды сверкали такие же едва заметные злые огоньки, как у Финея, – ответила:
– Как бы там ни было, благодарю вас, мой Финей. В вашем многословном сообщении вы не так далеко уклонились от темы, как мне показалось вначале.
С этого времени ходившие по Риму слухи о связи императрицы с евреем зазвучали громче, и вскоре их можно было уже услышать на каждом перекрестке.
Норбан, помня, как разгневался император, когда он пересказал ему остроту Элия, спросил у Мессалина совета, докладывать ли DDD об этих толках.
– Луция в Байах, – вслух рассуждал Мессалин, – еврей Иосиф провел в Байах несколько недель. Я не вижу никаких оснований скрывать это от DDD.
– DDD удивится, зачем ему об этом докладывают. И в самом деле, что странного, если еврей Иосиф хочет быть поблизости от своего сына, в Байах? DDD сочтет нелепым, что у кого-то по этому поводу могут возникнуть предосудительные мысли.
– Да, это нелепо, – подтвердил своим мягким голосом слепой. – И все-таки, пожалуй, было бы уместно осведомить DDD, что императрица покровительствует еврею и его сыну и что это вызывает всеобщее недовольство.
– Вполне уместно, – согласился Норбан, – но только дело уж очень щекотливое. Может быть, вы возьмете его на себя, Мессалин? Вы бы оказали услугу всей Римской империи.
– Пусть DDD обо всем узнает сам, – предложил Мессалин. – И мне кажется, друг мой Норбан, это входит в круг ваших обязанностей устроить дело так, чтобы DDD обо всем узнал сам.
– Если даже он и придет сам к такой мысли, – не сдавался Норбан, – Луции стоит только засмеяться, и эта мысль исчезнет, но зато останется в высшей степени опасное озлобление против человека, натолкнувшего его на эту мысль.
– Нехорошо, – поучительным тоном заметил Мессалин, – что владыка и бог Домициан так сильно и глубоко привязан к женщине. И все-таки, друг мой Норбан, вам придется, пожалуй, рискнуть и внушить ему помянутую нами мысль. Как-никак, а это входит в круг ваших обязанностей, и вы окажете важную услугу государству.
Норбан долго раздумывал над этим разговором. Он любил императора, он был ему предан, он считал его величайшим из римлян, и он ненавидел Луцию – по многим причинам. Он чувствовал безошибочно, что она из другого теста, чем он, что она выше, благороднее, и приветливое равнодушие, с которым она при случае над ним подтрунивала, жестоко его озлобляло. Насколько было бы лучше, если бы она ненавидела его и старалась восстановить против него DDD! И потом, его задевало, что женщина, которую владыка и бог Домициан удостоил своей любви, по всей видимости, недостаточно ценит эту любовь. Он был искрение убежден, что ее влияние приносит вред императору и империи. То, что она возится с евреем, унижает DDD, подрывает его авторитет, и вдобавок, уж не спит ли она в самом деле с этим евреем? От Луции вполне можно этого ожидать.
Но как тут поступить ему, Норбану? Мессалину легко советовать: «Внушите императору, натолкните императора…» Как прикажете это сделать? Как поставить императора перед необходимостью предпринять наконец решительные действия против еврея и собственной супруги?
Однажды, меж тем как он терзался этими думами, он обнаружил, разбирая корреспонденцию, секретное донесение губернатора Иудеи Фалькона с отчетом о положении в провинции. В донесении, между прочим, сообщалось, что губернатор нашел в своем архиве список так называемых «отпрысков царя Давида». В свое время его предшественники получали в Риме строгий наказ держать этих людей под особым надзором, но в последние годы, по-видимому, дело это предано забвению. Все же он вновь произвел розыски и установил, что в Иудее из потомков древнего царя ныне остались в живых только двое – некий Иаков и некий Михаил. В последнее время вокруг обоих (к слову говоря, оба называют себя не иудеями, а христианами, или минеями) опять поднялась подозрительная возня. Поэтому он распорядился арестовать обоих и, считая полезным, чтобы они хоть какой-то срок побыли за пределами страны, доставить морем в Италию: пусть на Палатине займутся ими повнимательнее и решат их судьбу.
Так называемые «отпрыски Давида» Иаков и Михаил находились, стало быть, на пути в Рим.
Читая донесение губернатора Фалькона, Норбан все время отчетливо видел изящный летний павильон в альбанском парке и перед ним неуклюжие фигуры богословов из Ямнии; и вдруг он сообразил, что ведь еврей Иосиф – тоже так называемый отпрыск Давида, и, следовательно, по верованиям иудеев, и он сам, и его сын Маттафий могут притязать на господство над миром. И сразу же в совершенно ином, гораздо более опасном свете открылся министру полиции «Псалом мужеству», который Иосиф с небывалою дерзостью прочитал, обращаясь прямо к императору; равным образом и дружба Иосифа и его сына с Луцией сразу приобрела совсем иное, гораздо более угрожающее значение. Это было объявлением войны императору и империи. Широкое, квадратное лицо Норбана расплылось в улыбке, открывшей его крупные, здоровые, желтые зубы. Он нашел средство, как, не подвергая опасности себя самого, указать своему владыке на опасность, которою чреваты отношения Иосифа и Луции. Если напомнить ему о еврейских предрассудках, связанных с потомками Давида и мессией, мысли императора, бесспорно, примут то же направление, что и его собственные. Стоит лишь назвать или, лучше, показать ему обоих «отпрысков», Иакова и Михаила, и DDD непременно вспомнит, что то же звание носят Иосиф и его сын, а потом, осторожный, подозрительный, он непременно задумается, и глубоко задумается, о еврее Иосифе, о его сыне и об отношениях их обоих к Луции.
Он послал в Альбан гонца с запросом, соблаговолит ли владыка и бог Домициан допустить его в ближайшие дни пред свое лицо.
Владыка и бог Домициан снова проводил большую часть времени в Альбане, в полном одиночестве. Стояло раннее лето, погода была прекрасная, но императора ничто не радовало. Он праздно лежал в своих оранжереях, стоял перед клетками своего зверинца, но не замечал ни плодов, поспевших раньше срока благодаря искусству садовника, ни пантеры, которая сонно щурилась на него из угла клетки. Он пытался заставить себя работать, но мысли разбегались. Он звал своих советников и прислушивался к их речам краем уха, а потом и вовсе переставал слушать. Он звал женщин и отпускал их, даже не притронувшись к ним.
Он не забыл дерзости еврея Иосифа и, разумеется, вовсе не собирался простить ему его преступление. Но наказание нужно как следует обдумать. Ибо то, что еврей открыто и громогласно объявил войну ему, его миру и его богам, – этот чудовищный поступок он совершил, не только следуя порыву собственного сердца, но и как посланец своего бога. И то, что Луция уговорила его прийти на чтение, случилось не просто по злой ее воле, нет, за плечами императрицы, вероятно, неведомо для нее самой, стоял его заклятый враг – бог Ягве. Императора удивляет и озадачивает, – даже вне всякого личного интереса к Луции, – как удалось Ягве привлечь эту женщину на свою сторону и отвратить ее от Юпитера, которому она принадлежит в силу самого своего рождения. Он необыкновенно хитрый бог, этот Ягве, и Домициан должен с величайшею осмотрительностью рассчитать каждый свой шаг.
Он заранее отметает всякое подозрение, что Луцию и еврея может связывать постель. Если бы тут была замешана плотская похоть, оба старались бы скрыть свои отношения. А вместо этого еврей, – несомненно, ослепленный своим богом, – перед всем Римом и с одобрения императрицы бросил ему вызов.
Проще всего, разумеется, было бы стереть в порошок всех: еврея Иосифа, его приплод – мальчишку Маттафия и Луцию вместе с ними. Но Домициан, к сожалению, слишком хорошо знает, что это простое средство действует совсем не так радикально, как можно было бы надеяться. Слишком многие отравлены ядом еврейского сумасбродства, и смерть нескольких отравленных остальных не пугает, напротив, делает их еще более жадными к яду. Суеверие, если за него умирают, приобретает не горечь, но сладость.
Как ему искоренить восточное безумие? Всякое средство сгодилось бы – лукавство, любовь, угрозы. Но где найти хоть какое-нибудь средство? Он не находит никакого!
Он собирается с мыслями, идет в домашнее святилище, он просит совета у своей богини, богини ясности, у Минервы. Он льстит ей, угрожает ей, снова льстит. Погружается в нее. Большими, выпуклыми, близорукими глазами он впивается в большие, круглые, совиные очи богини. Она не поддается, она не отвечает, безмолвно и мрачно смотрит она на него своими глазами хищной птицы. Но он молит снова, собирает все силы, заклинает ее. И наконец добивается своего, она отверзает уста, она говорит.
– О мой Домициан, – произносит она, – мой брат, мой самый любимый, моя забота, зачем ты заставляешь меня говорить? Ведь я должна сказать то, чего не хотела бы сказать ни за что, и сердце в груди у меня разрывается от боли. Но Юпитер и Судьба запрещают мне молчать. Итак, внемли и мужайся. Я должна покинуть тебя, я не могу больше давать тебе советы, мое подобие здесь, в твоем домашнем святилище, будет впредь пустою и мертвою оболочкой. О, как мне тяжко, Домициан, мой любимый. Но я должна быть вдали от тебя отныне, мне не дозволено больше заботиться о тебе.
У Домициана ослабели ноги, перехватило дыханье, все тело покрылось холодным потом, он прислонился к стене, чтобы не упасть. Он твердил себе, что это не был голос его Минервы; его враг, бог Ягве, вещал из ее статуи – коварно, вероломно, чтобы запугать его. Это был сон наяву, наваждение вроде тех, что так часты в земле Ягве, – ему рассказывал о них его солдат Линий Басс. Но утешения не помогали, бледный, холодный страх не проходил.
Его ненависть к людям и подозрительность усилились. Он приказал своему гофмаршалу и своему префекту гвардии обставить доступ к нему всеми возможными препятствиями и еще строже обыскивать любого, кто входит во дворец. Он поручил своим архитекторам облицевать жилые покои и приемные залы на Палатине и в Альбанском имении металлическими зеркалами, чтобы отовсюду, где бы он ни стоял, прогуливался или лежал, видеть всякого, кто приближается к нему.
Так проводил император свои дни в Альбане, когда его навестил министр полиции. Он был рад увидеть Норбана. Он был рад вырваться из мира своих снов в мир фактов. С любопытством и благосклонностью, даже с некоторой нежностью глядел он в верное, грубое и хитрое лицо своего Норбана и, по обыкновению, испытал удовольствие, увидев, как модные завитки иссиня-черных, густых волос небрежно и нелепо падают на лоб, венчающий это топорное лицо.
– Ну, а теперь, – усаживаясь поудобнее, обратился он к министру, – я хочу услышать во всех подробностях, что нового в Риме.
И Норбан исполнил желание своего господина, он сделал обстоятельный доклад о последних событиях в городе и в империи, и его твердый, сильный голос действительно развеивал пустые фантазии императора и возвращал его к трезвой реальности.
– А какие вести из Бай? – спросил император, помолчав.
Норбан заранее решил как можно меньше говорить о Луции, Иосифе и Маттафии, – пусть император нащупает связи сам.
– Из Бай? – переспросил он осторожно. – Императрица, насколько мне известно, чувствует себя хорошо. Охотно занимается спортом, плавает, хотя лето еще только началось, устраивает гребные состязания в заливе. Вокруг нее много людей, самых разнообразных людей, она интересуется книгами. – Он сделал коротенькую паузу, потом все-таки не смог удержаться и добавил: – Вот, например, еврей Иосиф читал ей вслух из своей новой книги. Мои люди доносят, что это пылкая защита еврейских суеверий, – впрочем, без малейшего нарушения дозволенных границ.
– Да, – откликнулся император. – Это сильная и очень патриотическая книга. Когда мой еврей Иосиф выступает так открыто, он мне больше по душе, чем когда проповедует свою римско-греко-иудейскую премудрую мешанину. А вообще, – размышлял он, точь-в-точь как раньше сам Норбан, – нет ничего удивительного, если мой еврей Иосиф проводит время в Байах, – ведь императрица взяла его сына к себе в свиту. – И так как Норбан молчал, он добавил: – Я слышал, что она очень довольна этим юным сыном Иосифа.
Норбан охотно высказал бы все, что думает об Иосифе и его юном сыне, но он решил не делать этого и остался верен прежнему решению. Он промолчал.
– А что еще? – спросил Домициан.
– Да, собственно, все, – отвечал Норбан. – Разве что вот… Я бы мог предложить владыке и богу Домициану маленькое развлечение. Ваше величество, вероятно, помнит, как во время одной забавной встречи с еврейскими богословами мы выяснили, что евреи видят в потомках некоего царя Давида кандидатов на вселенский престол. В ту пору мы составили список таких претендентов.
– Помню, – кивнул император.
– Ну, так вот, – продолжал Норбан, – губернатор Фалькон сообщает мне, что в его провинции Иудее осталось только двое этих «отпрысков Давида». В последние месяцы вокруг обоих началась подозрительная возня. Тогда Фалькон отправил их в Рим, чтобы мы здесь решили их судьбу. Вот я и хотел спросить владыку и бога Домициана, может быть, он пожелает позабавиться и взглянуть на обоих претендентов. Речь идет о некоем Иакове и некоем Михаиле.
Предложение Норбана, – именно так, как он рассчитывал и предвидел, – пробудило в душе Домициана бесчисленные думы, надежды и страхи, которые только того и ждали, чтобы их кто-нибудь пробудил. Домициан и в самом деле забыл, что страшный и презренный еврей Иосиф и его сын были в глазах известной группы людей потомством царя и, следовательно, ровнею ему, императору. Но теперь, когда Норбан освежил в его памяти ту примечательную беседу с богословами и выводы, которые были из нее сделаны, мысль, что этот Иосиф и его сын действительно претенденты, соперники, всплыла вновь с необыкновенною живостью. Как ни смешны притязания этих людей, они все же существуют и все же опасны. И совершенно очевидно, что потомки Давида именно теперь считают наиболее своевременным снова заявить свои притязания. Этими притязаниями, смысл которых ему открылся во время доклада Норбана, этим мнимым своим происхождением от древнего восточного царя – вот чем пленил Иосиф воображение Луции, вот как он добился того, что она взяла к себе на службу его юного и нелепого сынка. И по той же причине, кичась правами царского отпрыска, он осмелился бросить ему в лицо свои стихи о мужестве. Значит, он, Домициан, был прав, чувствуя за всем этим своего великого врага – бога Ягве.
Раздумья императора не продолжались, впрочем, и пяти секунд. Правда, лицо его краснеет, как всегда, когда он бывает встревожен и растерян, но ничто в его поведении не выдает этой тревоги.
– Дельное предложение, – объявляет он весело. – Хорошо, покажите мне этих людей. И поскорее.
На следующей же неделе потомки Давида Иаков и Михаил были доставлены в Альбан.
Фельдфебель императорской гвардии ввел их в небольшой, роскошно убранный зал. Там они и остались ждать – коренастые, крепко сбитые, неуклюжие, посреди всего этого великолепия. То были люди крестьянской наружности, в длинной галилейской одежде из грубой ткани, большие бороды обрамляли их спокойные лица, Михаилу было с виду лет сорок восемь, Иакову – сорок четыре. Они говорили мало; непривычная обстановка внушала им, по-видимому, чувство неловкости, но не страха.
Деревянною походкой вошел император в сопровождении Норбана и еще нескольких господ, а также переводчика: оба «отпрыска» говорили только по-арамейски. Когда появился император, они что-то произнесли на своем тарабарском наречии. Домициан спросил, что они сказали; переводчик объяснил, что это приветствие. «Почтительное приветствие?» – осведомился Домициан. Переводчик чуть смущенно ответил, что это приветствие, с каким обыкновенно обращается равный к равному.
– Гм, гм, – пробормотал император.
Он обошел их кругом. Обыкновенные люди, крестьяне, грубого сложения, с крестьянскими лицами; и запах от них шел мужицкий, хотя, уж конечно, их вымыли, прежде чем допустить к нему.
Своим высоким, резким голосом Домициан спросил:
– Так, значит, вы из рода Давида, вашего царя?
– Да, – отвечал Михаил бесхитростно, а Иаков пояснил:
– Мы в родстве с мессией, мы его правнучатные племянники.
Выслушав переводчика, Домициан непонимающе уставился на них выпуклыми близорукими глазами.
– Что они имеют в виду, эти люди? – повернулся он к Норбану. – Если они в родстве с мессией по нисходящей линии, то, очевидно, принимают за истину, что мессия уже давно пришел. Спросите их! – приказал он переводчику.
– Что это значит, что вы правнучатные племянники мессии? – спросил переводчик.
Михаил терпеливо пояснил:
– Мессия звался Иошуа бен Иосиф, он умер на кресте ради спасения человеческого рода. Он был Сын человеческий. У него был брат по имени Иуда. От этого брата мы и происходим.
– Вы все понимаете, господа? – обратился Домициан к своей свите. – Мне это не вполне ясно. Спросите их, – приказал он, – наступило ли уже в таком случае царство мессии.
– И да и нет, – ответил Иаков. – Иошуа бен Иосиф умер на кресте, но воскрес, и это начало царства мессии. Но он воскреснет еще раз и только тогда явится во всей своей славе судить живых и мертвых и воздать каждому по делам его.
– Занятно, – сказал император, – очень занятно. А когда это будет?
– Это будет в конце времен, в день Страшного суда, – объяснил Михаил.
– Дата не слишком точная, – заметил император, – но, мне кажется, он хочет сказать, что это дело еще не завтрашнего дня. А кто будет править в царстве мессии? – продолжал он свои расспросы.
– Мессия, конечно, – ответил Иаков.
– Какой мессия, – спросил император, – мертвый?
– Воскресший, разумеется, – откликнулся Михаил.
– И он будет назначать губернаторов? – спрашивал Домициан. – Наместников? А кого он пригласит на эти должности? Без сомнения, своих родственников, в первую очередь. Скажите мне, что же это все-таки будет за царство?
– Насчет губернаторов мы ничего не знаем, – отклонил Иаков вопрос императора, но Михаил продолжал упорно:
– Это будет не земное, а небесное царство.
– Дурацкие фантазеры, – сказал император. – С ними невозможно разговаривать. Так, стало быть, вы из рода Давида? – пожелал он удостовериться еще раз.
– Да, из рода Давида, – подтвердил Иаков.
– Сколько вы платите налога? – спросил император.
– У нас маленький хутор, всего тридцать девять плетров[100], – дал точную справку Михаил. – На доходы с этой земли мы и живем. Мы возделываем ее с помощью двух рабов и одной батрачки. Твой мытарь оценил все имение в девять тысяч денариев.
– Невелики прибытки для потомков великого царя и претендентов на царства и провинции, – рассуждал Домициан. – Покажите-ка мне ваши руки, – приказал он вдруг. Они показали, Домициан внимательно их осмотрел – заскорузлые, мозолистые мужицкие руки. – Накормить их досыта, – объявил император свое решение, – и отправить обратно, но только на самом обыкновенном судне: смотрите – не избалуйте мне их.
Когда они ушли, он сказал Норбану:
– Что за нелепый народ эти евреи – видеть претендентов на престол в таких вот людишках! Не правда ли, оба были ужасно смешны в своей простодушной гордыне…
– Да, эти были смешны, – ответил Норбан, делая ударение на слове «эти».
Домициан густо покраснел, потом побледнел, потом снова покраснел. Ибо Норбан был прав: эти двое были смешны, но другие потомки Давида, Иосиф и его сын, отнюдь не смешны, и страх перед Иосифом и его богом Ягве вновь проснулся в душе императора.
До этих пор свидание с потомками Давида оказывало именно такое воздействие, какое предвидел Норбан. Но тут мысли императора приняли направление, отнюдь не желательное для министра полиции. Как всегда подозрительный, Домициан вдруг сказал себе, что Норбан, быть может – и скорее всего так оно и есть! – умышленно вызвал в нем эти опасения. Потому-то, видимо, Норбан с самого начала придавал столько значения этим потомкам Давида из Иудеи, хотя, конечно, так же точно, как он сам, с первого взгляда убедился, до чего они безвредны.
С другой стороны, Норбан, очевидно, с самого начала распознал, насколько опасен Иосиф, и, обратив внимание императора на опасность, он лишь выполнил свой долг преданного слуги, и, кстати говоря, выполнил с таким тактом, какого он, Домициан, не ожидал от этого неуклюжего человека. И все-таки трудно смириться с тем, что Норбан так безошибочно угадал его думы; подданный дерзнул предписать думам бога Домициана их ход и движение – да это граничит с мятежом! Он чересчур близко подпустил к себе этого Норбана. Теперь на свете есть человек, который знает его слишком хорошо. Вот какого рода чувства волнуют императора; это еще не мысли, – он не дает своему замешательству зайти столь далеко и принять отчетливую форму, – но он не в силах сдержать себя, и его взгляд, испытующе останавливаясь на лице министра полиции, выражает недоверие, чуть ли не страх. Впрочем, это длится лишь какую-то долю секунды; ибо лицо, на которое он смотрит, – энергичное, надежное, жестокое, – морда верного пса, – как раз такое, какое должно быть у его министра полиции.
Норбан доставил ему приятную забаву, привезя сюда потомков Давида, дал ему случай сделать утешительные наблюдения. Он признателен своему министру полиции и даже высказывает ему свою признательность, но отпускает его быстро, почти внезапно.
Он размышляет наедине с самим собой. Что делает его борьбу против Ягве такой невероятно трудной, так это полное одиночество в этой борьбе, – по сути дела, он никому не может довериться до конца. Норбан предан ему, но он слишком груб душой, чтобы до конца постигнуть нечто столь сложное и бездонное, как вражда этого невидимого, неосязаемого Ягве; да к тому же император и не позволит Норбану заглянуть в свое сердце еще глубже. Марулл и Реши, пожалуй, смогли бы понять, за что идет борьба. Но даже если бы он – ценою немалых усилий – сумел объяснить им все, что толку? Оба – старики, вялые, терпимые, снисходительные, совсем не борцы, каких требует эта борьба, борьба не на жизнь, а на смерть. Хорошим борцом был бы Анний Басс, но он, разумеется, слишком простодушен для столь хитрого и увертливого врага. Остается Мессалин. Этот достаточно умен, чтобы понять, кто враг и где он скрывается, достаточно мужествен и силен; и верен. Но память о той неприятной минуте, когда ему пришлось признать, что Норбан видит его насквозь, не покидает Домициана. Он обратится к Мессалину, однако лишь тогда, когда надежда найти выход без чужой помощи изменит ему окончательно.
Нет, он все-таки найдет выход. Он сидит за письменным столом, он достал навощенные таблички. Он мрачно раздумывает. Он пытается сосредоточиться. Напрасные усилия. Мысли разбегаются. Правда, острие стиля что-то чертит на воске таблички, но это не буквы и не слова – только круги да круги механически выводит его рука. И он со страхом замечает, что это глаза Минервы; вот что выводит его рука – большие, круглые, совиные глаза, теперь пустые, потухшие, безучастные.
И вдруг он чувствует: угроза, так часто над ним сгущавшаяся, угроза гибели от рук заговорщиков, которую так часто предрекают ему его противники, – уже более не бесплотная абстракция, какою для цветущего человека его лет бывает смерть, ожидаемая в отдаленном будущем, но нечто осязаемое, конкретное, близкое. Страха он не испытывает. Однако его покинуло ощущение совершенной безопасности, наполнявшее его до сих пор, пока он знал, что находится под покровом и охраною своей богини. Смерть, столь далекая прежде, стала близкой, она требует внимания и раздумий.
Когда ему придется вознестись к богам, когда он исчезнет с лица этой земли, – он, эта плоть и эти кости человека по имени Домициан, – что станет тогда с его идеей, что станет с идеей Рима, которую он постиг глубже и отчетливее, чем его предшественники? Кому предназначено, когда его уже не будет, оберегать и нести дальше Эту идею?
Идея Рима, как понимает ее он, Домициан, неотделима от господства Флавиев. В самой глубине души, втайне даже от самого себя, он все еще надеялся на потомство от Луции. Но цепляться за эту призрачную надежду и впредь, когда гроза уже собралась над его головой, было бы безумием. Долой надежду, прочь ее!! Жалко, что он испугался дерзкого злословия своих недоброжелателей и не дал появиться на свет своему ребенку, которого носила Юлия. Как это было бы замечательно, если бы он мог назначить своим преемником сына, зачатого от его семени.
Но это невозможно. Судьба династии Флавиев зависит теперь от двух мальчиков, близнецов Константа и Петрова. По крайней мере, мальчики – чистокровные Флавии и по отцовской и по материнской линии. И хорошо, что он пресек вредные влияния, которые могли бы испортить их обоих, что он казнил Клемента и сослал Домитиллу на Балеарские острова. Теперь его «львята» в надежных руках, они растут под присмотром истинного римлянина Квинтилиана и отторгнуты от бога Ягве.
Впрочем, совсем отторгнуть их от Ягве ему не удалось. На эти жаркие месяцы Луция взяла мальчиков к себе, в Байи, она не хотела, чтобы близнецы, потрясенные участью родителей, оставались в опустевшем доме, в доме убитого отца и сосланной матери, и он, Домициан, согласился с нею. Как мог он согласиться? Разумеется, это снова коварная уловка бога Ягве, это он внушил Луции желание принять участие в сыновьях казненного Клемента. Как знать, не замешан ли тут и наш Иосиф, посланец Ягве. Уму непостижимо, как он не разгадал всего этого с самого начала! Правда, он двоюродный дядя этих мальчиков, он испытывает к ним родственную привязанность, он не хотел быть с ними чересчур строг – для него была важна, для него важна и теперь любовь близнецов. Но прежде всего – надо быть откровенным с самим собой! – он не хотел выглядеть слишком черствым и жестоким в глазах Луции.
Теперь он положит этому конец. И он уже знает как. Он осуществит свое давнее намерение усыновить близнецов. Он призовет их к своему двору, и тем самым они будут спасены от мглы, разливаемой Иосифом и его сыном Маттафием. Тогда он сделает все от него зависящее, чтобы оставить идее Рима новых защитников, если сам, покинутый Минервой, будет вынужден уйти из этого мира.
Нахмуренное лицо светлеет, он улыбается. Удачная находка. Когда он усыновит мальчиков, у него появится совершенно естественный повод призвать к себе и Луцию. А когда Луция будет здесь, рядом, многое станет яснее. Несмотря ни на что, несмотря на ослепление, которым поразил ее Ягве, она всегда его понимала, потому что она римлянка. Он, римлянин, будет говорить с римлянкой, он ощущает в себе силы отвоевать Луцию у врага.
Он улыбается. И, оставшись без защиты Минервы, он не признает себя побежденным. Нет худа без добра. Если бы опасность, которой грозит ему Ягве, не встала вновь с такой очевидностью, он откладывал бы усыновление еще и еще. А так, этим скорым усыновлением он достигает двух целей разом. Он не только опять оградит щитом будущее своей идеи Рима, но и, по всей вероятности, отобьет у этого Ягве его недавно приобретенную союзницу – Луцию. Луция римлянка с головы до ног, Луция любит его – это бесспорно, – хотя и на свой гордый, строптивый лад. Бог Ягве затмил ее рассудок. Но ему, богу Домициану, удастся рассеять зловещий туман, которым окутал ее восточный бог, и она снова будет видеть так же ясно, как он сам.
Не откладывая, Домициан берется за работу, делает необходимые приготовления. И в тот же день пишет подробное письмо Луции. Он не диктует, он пишет собственной рукой, старается придать каждой фразе как можно более теплое, личное звучание. Ради продолжения династии, писал он, и поскольку теперь уже едва ли он может ждать потомства от нее, Луции, он счел своим долгом усыновить детей Флавия Клемента, отца которых, к сожалению, вынужден был казнить. Близнецы дороги его сердцу, и он с удовольствием отмечает, что, по-видимому, и ей они небезразличны. Поэтому он надеется, что она одобрит это решение. Он медлил с ним непозволительно долго, зато тем скорее намерен теперь его исполнить. Одновременно с этим письмом он посылает указание Квинтилиану прибыть вместе с мальчиками к нему в Альбан. Он полагает целесообразным сразу же после усыновления облачить мальчиков в мужскую тогу, невзирая на их слишком юный возраст. Обе церемонии – усыновление и совершеннолетие – он желает справить с подобающей торжественностью. Пусть римляне твердо усвоят, что он прививает династии новые, свежие побеги. И для него было бы большою радостью, если бы она согласилась поднять значение намечаемого акта своим присутствием.







