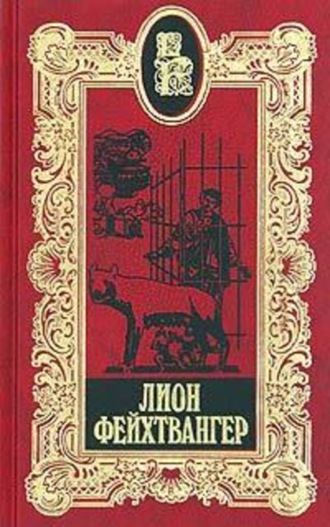
Лион Фейхтвангер
Настанет день
И, сама благосклонность, он отпустил слепого.
Вечером, когда сделалось прохладнее, император долго стоял перед клетками в своем зверинце. Хорошо, если бы мальчик Маттафий провинился! Хорошо, если бы у него, Домициана, нашелся повод покарать мальчика! Хорошо, если бы мальчика не было больше на этом свете! Воспоминание о грудном, низком голосе мальчика мучило императора сильнее, чем воспоминание о звеневшем металлом голосе брата – Тита.
Это был бы тяжелый удар для еврея Иосифа, если бы он потерял своего щедро одаренного сына. Он помчится к Луции, он будет выть и стонать. Император Домициан представляет себе, как будет выть и стонать еврей Иосиф. Приятная картина! Хорошо, что умелые руки уже плетут сеть для этого красивого, воспитанного мальчика Маттафия, Давидова отпрыска!
Император заметил, что звери томятся от зноя, и приказал принести им воды.
Случилось вскорости после этого, что Луция дала своему адъютанту Маттафию поручение, которое его очень обрадовало.
Город Массилия[102], чьей покровительницей была Луция, поднес ей редкой красоты и тончайшей работы коралловое украшение, и императрица хотела послать городу достойный ответный дар. Маттафию предстояло вручить этот дар и заодно исполнить еще несколько мелких поручений, какие обыкновенно возлагают лишь на близких, доверенных людей. Старик Хармид, глазной врач императрицы, по глубокой своей старости боялся поездки в Байи, и Маттафий должен был убедить его все же пуститься в путь. Потом он должен был раздобыть для Луции какие-то косметические средства, которые лишь в Массилии делали так, как того желала императрица. И, наконец, она дала ему письмо, чтобы через верного человека в Массилии он отправил его дальше, за Балеарское море.
Маттафий был счастлив и полон сознания собственной значительности. Больше всего его радовало, что путь лежит через море и что помчит его в Массилию личная яхта императрицы «Голубая чайка». Так как поручение было спешное и не терпело отлагательств, Маттафию пришлось попрощаться с отцом заочно, письмом, – чтобы его слишком долгое пребывание в Банях не вызывало кривотолков, Иосиф вернулся в Рим. Ответ отца пришел как раз перед выходом яхты в море. Иосиф просил Маттафия поискать в Массилии как можно более верную копию «Океанографии» Пифея Массильского[103], которая обычно встречалась лишь в испорченных списках.
Итак, увидеть отца он уже не мог, но зато счастливая случайность позволила ему попрощаться с девочкой Цецилией. Маттафий давно не виделся с Цецилией. Разыскивать ее специально ему было бы неловко перед самим собой, и все же он часто бродил по тем местам, где мог бы с нею встретиться; то же самое, впрочем, делала и она. Как бы то ни было, но оба просияли, когда накануне его отъезда они наконец столкнулись лицом к лицу.
Цецилия держалась резко и чуть насмешливо – как всегда.
– Так, значит, вы получили почетное поручение, мой милый Маттафий, – сказала она, – вы должны доставить госпоже Луции духи. Но мне кажется, ее личный парикмахер выполнил бы это поручение нисколько не хуже, а может быть, даже и лучше.
Маттафий ласково взглянул в миловидное лицо девочки и сказал спокойно:
– Зачем вы говорите такой вздор, Цецилия? Вы же отлично знаете, что я еду в Массилию не только за духами.
– Я была бы немало изумлена, – воинственно настаивала Цецилия, – если бы дело и впрямь касалось чего-то более важного. Вы кое-чему научились от ваших павлинов и поднимаете страшный шум всякий раз, как представляется возможность покрасоваться.
Все с тем же спокойствием Маттафий отвечал:
– Неужели мне надо хвастаться перед вами, Цецилия? Надо бахвалиться перед вами тем, что пользуюсь благоволением императрицы? – Он подошел ближе к девочке; настойчиво глядя ей в лицо своими юными, глубокими, невинными глазами, он сказал: – Будь я полным ничтожеством, каким вы любите меня выставить, – разве вы сами проводили бы со мною время так часто? Поговорим серьезно, Цецилия. Дела в Массилии, пусть даже самые незначительные, разлучат нас надолго. Позвольте же мне увезти с собою образ той Цецилии, какою она бывает в свои лучшие часы. – И, подойдя совсем вплотную, приглушив свой низкий голос, он дал наконец волю горячему, бьющему через край чувству: – Ты прекрасна, Цецилия! Какое чудное у тебя лицо, когда его не искажают злоба и насмешка!
Цецилия разыграла недоверие.
– Это все одни слова, – сказала она кокетливо. – По-настоящему ты любишь только ее, императрицу.
– Ее невозможно не любить! – возразил Маттафий. – Но это не имеет никакого отношения к нам двоим. Я уважаю императрицу, я люблю ее, как люблю отца. То есть, – честно поправился он, – не совсем так же. Но наподобие этого. А тебя, Цецилия…
– Знаю, знаю, – ревниво и безрассудно перебила его Цецилия, – меня ты не уважаешь. Надо мной ты смеешься. Я маленькая глупая девчонка. Вы, евреи, все такие гордые и надменные. Гордость нищих!
– Оставим сейчас в покое евреев и римлян, – попросил Маттафий.
Он взял ее руку, белую, детскую ручку; он поцеловал руку, поцеловал открытое плечо. Она отбивалась, но он не унимался, он был много выше ее, он обнял ее, почти оторвал ее от земли, она пыталась вырваться, но потом вдруг сразу обессилела и вернула ему поцелуй.
– Не уезжай, Маттафий! – взмолилась она слабым, глухим голосом. – Пусть кто-нибудь другой поедет за этими духами! Пошли другого еврея!
– Ах, Цецилия! – только и смог ответить он и обнял ее еще крепче, еще жаднее. Сперва она не сопротивлялась, потом, внезапно разняла его руки.
– Потом, когда вернешься… – пообещала она. И потребовала: – Возвращайся скорее!
Вскоре после этого Мессалин снова просил доложить о себе в Альбане. Он передал императору копию письма.
Письмо гласило:
«Луция – своей любезной Домитилле.
Вы скоро узнаете, моя дорогая, о счастье, которое выпало на долю Вашим замечательным сыновьям. Но, быть может, радость Ваша будет омрачена мыслью, что домом для мальчиков отныне станут лишь Палатин и Альбан. Пишу Вам, чтобы избавить Вас от этой заботы. В свое время я обещала Вам уберечь мальчиков от чрезмерного латинского влияния, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы суровый воздух Палатина не иссушил их сердец. Впрочем, дорогая Домитилла, я надеюсь – и не без оснований, – что после усыновления мальчиков Вы вскорости сможете вернуться и сами. Прошу Вас только об одном: откажитесь от каких бы то ни было попыток воздействовать с Вашего острова на судьбу детей. Лучше соблюдайте полное спокойствие, дорогая, не тревожьтесь о Ваших сыновьях, хотя они и зовутся теперь Веспасианом и Домицианом.
Верьте Вашей Луции и прощайте».
Император прочел письмо медленно, внимательно. Нестерпимая ярость охватила его. И не потому бушевал в нем гнев, что Луция завязывает отношения с Домитиллой у него за спиною, – ничего другого он и не ждал и, может быть, даже хотел этого. Но та фраза о «сердцах, которые иссушает суровый воздух Палатина», – вот что возмутило его до глубины души! И это осмелилась написать Луция – Луция, которая его знает. Осмелилась написать после всех ночей, которые она с ним провела.
Он перечитал письмо несколько раз.
– Прочел ли владыка и бог Домициан послание? – спросил наконец своим мягким, спокойным голосом слепой.
В холодном бешенстве, не отвечая, император спросил, в свою очередь:
– Зачем ты принес мне эту пакость? Хочешь очернить Луцию в моих глазах? Осмелишься уверять меня, что слова на этой вонючей бумажонке – слова моей Луции?
– Я принес вашему величеству эту копию, – проговорил своим ровным голосом Мессалин, – не для того, чтобы навлечь подозрения на лицо, которое написало или могло бы написать оригинал. Но ваше величество недавно удостоило меня некой беседы, и из нее я осмелился заключить, что владыка и бог Домициан в какой-то мере интересуется нарочным, принявшим поручение доставить тайком подлинник этого письма адресату.
Домициан стремительно шагнул к Мессалину и посмотрел ему в лицо таким настойчиво-вопрошающим взглядом, словно слепой мог увидеть этот взгляд. От радостного предчувствия захватило дух.
– Кто этот малый? – спросил он и услышал ответ Мессалина:
– Младший адъютант императрицы, Маттафий Флавий.
Домициан задышал шумно, с облегчением. И все же постарался не выдать своего глубокого, счастливого, позорного удовлетворения.
– Что вы сделали с оригиналом? – деловито спросил он Мессалина.
– Оригинал, – доложил слепой, – был у нас в руках всего полчаса – ровно столько, чтобы снять точную копию. Потом мы снова подложили его юному Маттафию, так что тот ничего не заметил. Письмо, как и было задумано, отправилось по назначению с яхтою «Голубая чайка», теперь оно, видимо, на пути к Балеарским островам, а может быть, уже и прибыло туда.
Домициан – и на сей раз голос его дрогнул – спросил:
– А этот Маттафий? Если я верно осведомлен, императрица послала его в Массилию. Где же он теперь, этот Маттафий?
– Юного Маттафия Флавия, – сообщил Мессалин, – ее величество осчастливили множеством мелких поручений. Он должен разыскать для нее какие-то косметические средства, должен найти прославленного глазного врача Хармида и, если окажется возможным, привезти его с собою, – у него много всяких дел в Массилии. Я полагал, что дела императрицы требуют величайшей осмотрительности и добросовестности, и принял меры к тому, чтобы Маттафий Флавий задержался в Массилии подольше.
– Занятно, мой Мессалин, очень занятно, – сказал император каким-то отсутствующим, как показалось Мессалину, тоном, – Массилия… – продолжал он задумчиво, точно обращаясь к самому себе, и все тем же отсутствующим тоном произнес краткое, не имеющее прямого отношения к разговору слово о городе Массилии. – Занятная колония, пытливому юноше там есть что поглядеть, не мудрено, если он и задержится подольше. Мой добрый город Массилия, он насадил дух эллинства в Галлии. Два прекрасных храма – Артемиды Эфесской и Аполлона Дельфийского. Подлинный остров чистого эллинства посреди варварского мира. К тому же, если память мне не изменяет, там сохранились занятные старинные обычаи.
Так он болтал и болтал без всякой цели, а Мессалин молча слушал. Он знал наверное, что императору и не нужно никакого ответа, что императору нужно только скрыть свои мысли и что, конечно, не достопримечательными обычаями города Массилии заняты его мысли.
И правда, мысли императора, пока он произносил свое краткое слово о Массилии, были далеко от этого города. «Луция, – думал он, – Луция… Я стольким ради нее поступился, я согрешил перед Юпитером и перед моими новыми сыновьями, я обещал ей вернуть эту Домитиллу, и вот как она мне отплачивает за все. Палатин и близость ко мне иссушает сердца – вот что она написала». И вдруг, совершенно неожиданно он оборвал себя и принялся тихонько насвистывать, очень фальшиво и немелодично, но изумленный Мессалин все-таки узнал мелодию – это была популярная песенка из нового фарса:
И плешивому красотка не откажет нипочем,
Если он красотке деньги сыплет щедрою рукой.
По-прежнему Мессалин не собирался нарушать ход мыслей императора, но Домициан вдруг очнулся от задумчивости. Он забылся, он дал себе волю. Хорошо еще, что слепом не может ничего прочесть по его лицу. Он взял себя в руки и, как ни в чем не бывало, словно не было ни отступления о Массилии, ни долгой паузы, спросил, возвращаясь к сути дела:
– Ты совершенно уверен в этих сведениях?
– У меня нет глаз, и я ничего не вижу, – отвечал Мессалин, – но, насколько может быть уверен слепой, я в них уверен.
Конечно, этот Мессалин понимает, как поразил он его, Домициана, своим сообщением; хоть он и слеп, он видит глубоко в сердце императора, глубже и опаснее, чем Норбан, но удивительное дело – к нему император не испытывает никакой ненависти, не чувствует себя униженным его проницательностью. Наоборот, он ему благодарен, он ему искренне благодарен, и даже не скрывает этого.
– Прекрасно сработано, – говорит он, – благодарю тебя.
Радости Мессалина нет предела. Он удаляется. Домициан, в одиночестве, раздумывает над тем, что услышал. Удивительное дело – он не ощущает в себе настоящей злобы против Луции, напротив, он почти благодарен ей за то, что она сделала. Ведь теперь уже невозможно установить, вмешивалась или не вмешивалась Домитилла в жизнь его «львят», а он обещал отменить приговор об изгнании лишь в том случае, если будет представлено неопровержимое доказательство ее благонамеренности. Из письма с полной очевидностью явствует, что и сама Луция, покровительствуя Домитилле, все же считает ее способной оказывать на мальчиков нежелательное ему, императору и цензору, воздействие. Но тем самым он освобожден от своего обещания – перед Луцией, перед самим собой, перед богами. Что же касается самой Луции, он не забудет ей ее умыслов, он только не станет пока расследовать и выяснять обстоятельства дела. Луция – это Луция: она, если угодно, вообще не несет никакой ответственности за свои поступки. Более того, сознание, что он ее помиловал, что у него всегда, в любой момент будут наготове улики против нее, доставляло ему какую-то радость. Нет, он ей не скажет того, что знает о ней. Он скроет все у себя в сердце. Никто не должен знать, как он, бог, был обманут этими троими – Луцией, Домитиллой и мальчишкой Маттафием, – обманут и предан, он, такой милосердный, такой великодушный. Достаточно и того, что слепой знает. Он питает к слепому глубокую симпатию. По сути вещей, Луция и слепой – единственные люди, которые ему дороги. Пусть же Луция и дальше тешит себя ложною, беспочвенною, наивною радостью, воображая, будто провела Домициана; на самом деле он проведет ее. И пусть слепой, преданнейший из слуг, которому он многим обязан, греется в своей ночи утешительной мыслью, что разделяет тайну с властителем мира.
Но как быть с двумя остальными – с Домитиллой и с юношей, который взял на себя тайком переправить письмо на Балеарские острова? Они должны исчезнуть с лица земли, это бесспорно, но возмездие пусть приступит к ним украдкою, из мрака, дабы ни одна душа не проникла в истинную связь событий.
Домитилла. Ссыльная. Его отец Веспасиан однажды позволил уговорить себя и скрепя сердце вернул из ссылки одного ссыльного; то был Гельвидий Старший, отец. Но Веспасиану, всегда такому везучему и дальновидному, повезло и тут: весть о помиловании уже не застала Гельвидия в живых. Вот и он, Домициан, еще раз докажет свое везение и свою дальновидность. Он помилует Домитиллу, он во всеуслышание объявит об этом Луции и целому миру. Ну, а если бедная Домитилла уже не узнает о своем счастье – что ж поделаешь, он тут ни при чем.
И юного Маттафия тоже постигнет злая судьба, ни в коем случае не кара. Правда, Иосифу он, быть может, объяснит, что вынудило его расправиться с мальчиком: бог Ягве и его служитель не должны думать, будто он поднял руку на мальчика без всяких оснований, только из вражды к Ягве. Но никто, кроме еврея Иосифа, Мессалина и его самого, не узнает истинной связи событий. Несчастный случай, который унес красивого пажа императрицы, – вот чем останется это для всех остальных.
Нептуналии[104] не были празднеством первостепенной важности. Только государь, который так благоговейно чтил традиции, как Домициан, был способен, не щадя сил и трудов, сменить ради этого праздника прохладу своей летней резиденции на знойную духоту города.
Три дня справлял император священные обряды. Потом, на четвертый, он пригласил Иосифа на Палатин.
Словно громом поразило Иосифа приглашение императора. Если так много времени потребовалось ему, чтобы приготовить свою месть за то чтение – какою же страшной будет эта месть! Тяжелый час ждет Иосифа, все свое мужество должен он теперь собрать, изо всех уголков души. Бывали времена, когда он жаждал гибели, когда он страстно желал собственной смертью засвидетельствовать нерушимость своего дела. Но оказаться повергнутым в самом расцвете счастья – эта мысль приводила его в трепет.
Впрочем, император встретил его с невозмутимым спокойствием, он не обнаружил ни гнева, ни той жуткой приветливости, которой все, кто его знали, боялись куда больше, чем ярости и бешенства. На этот раз он казался настроенным благодушно и несколько рассеянно.
– Ну, как ваш Маттафий? – спросил он спустя несколько времени.
Иосиф сообщил, что владычица и богиня Луция отправила мальчика в Массилию.
– Верно, – вспомнил император, – на яхте «Голубая чайка». Массилия… Красивый город… – И он снова принялся описывать достопримечательности Массилии и лишь с трудом сдержал себя, чтобы не пуститься в беспредметные разглагольствования, как недавно перед Мессалином. – Во всяком случае, мой Иосиф, – поймал он наконец прерванную мысль, – я рад, что вашему Маттафию представилась возможность повидать свет. И поручения, которые дала ему императрица, не слишком его обременят. Он должен купить ей духи и косметические средства и еще должен заманить на яхту врача Хармида. Важные поручения.
Иосиф не понимал, почему властелин мира так подробно осведомлен обо всех мелких обязанностях, возложенных на его Маттафия.
– Удивительно, с каким вниманием следит взор вашего величества за моим Маттафием, – пошутил он. – Это великая милость.
– Вы видели его перед отъездом? – спросил император.
– Нет, – ответил Иосиф.
– Вообще-то он должен был проехать через Рим и сесть на корабль в Остии[105], – заметил Домициан. – Но императрица, как видно, считала свои дела в Массилии совершенно неотложными. Кстати, она очень привязана к вашему Маттафию, я сам тому свидетель. Он, действительно, славный мальчик, с приятными манерами, он мне понравился. Должно быть, это у нас семейное, что мы, Флавии, и вы… что мы все вновь и вновь оказываемся так тесно связанными друг с другом.
И в самом деле, поразительно, до чего тесно связаны Флавии с Иосифом и его родом. Но он не знал, как должно ему понимать речи императора, не находил, что ответить, сердце его сжималось.
– Ты, конечно, очень любишь своего сына Маттафия? – продолжал император.
Иосиф коротко подтвердил:
– Да, я люблю его. – И добавил: – Я думаю, теперь он уже снова в море, на возвратном пути в Италию. Я жду не дождусь, когда увижу его снова.
– Какая удача, – медленно проговорил император и своими выпуклыми глазами мечтательно взглянул в лицо Иосифу, – что мы как раз теперь справляли Нептуналии и что я сам принял участие в празднестве. Мы сделали, таким образом, все от нас зависящее, чтобы Нептун даровал ему счастливый путь домой.
Иосиф решил, что император шутит, и уже готов был усмехнуться, но император смотрел таким серьезным, почти мрачным взглядом, что смешок застрял у него в горле.
Впрочем, за столом император снова держал себя непринужденно и приветливо. Он заговорил о книге Иосифа «Против Апиона». Эта книга показывает, что Иосиф наконец расстался со своей лживой, напыщенной космополитской беспристрастностью по отношению к собственному народу.
– Разумеется, – пояснил император, – все ваши доводы в пользу евреев так же бездоказательны и субъективны, как и все, что пишут против тех же самых евреев ваши ненавистные греки и египтяне. И все-таки поздравляю вас с этой книгой. Ваши прежние идеи слияния народов и всемирного гражданства – не что иное, как бессмыслица, мираж. Я, император Домициан, предпочитаю здоровый национализм.
Хотя высокомерно-снисходительные замечания императора звучали скорее издевкой, чем похвалой, они обрадовали Иосифа. Он с облегчением вздохнул, когда император заговорил о книгах, оставив в покое его сына.
Император продолжал разговор о литературе и после обеда. Лениво развалясь на диване, он изрекал свои мнения. Иосиф напряженно ждал. Чего, собственно, хочет от него император? Он говорил себе: коль скоро ты прождал столько времени, так уж, верно, сможешь подождать еще час, – но смятение все росло и росло. И тут наконец совсем неожиданно Домициан попросил, чтобы Иосиф еще раз прочел ему свою оду о мужестве.
Иосиф помертвел от страха. Сомнений не оставалось: император позвал его, чтобы отомстить за ту дерзость.
– Вы ведь понимаете, мой Иосиф, – пояснил император, – тогда я просто не ждал, что вы будете читать стихи. К тому же стихи несколько необычные, и с первого раза я не все понял. Вот почему я был бы вам признателен, если бы вы дали мне возможность услышать их еще раз.
Но все в Иосифе восстает против этого требования. Как бы ни замышлял поступить с ним этот римлянин, он, Иосиф, не хочет сейчас повторять свои стихи о мужестве. Он их не чувствует сегодня, сегодня они кажутся ему чужими, и вообще недостойно и подло играть шутовскую роль, которую навязывает ему теперь этот злой человек.
И он ответил:
– Ваше величество так явно показали мне тогда, что вам не нравится моя ода о мужестве. Зачем же снова тревожить слух вашего величества?
Но Домициан не уступал. Он твердо решил еще раз услышать наглые слова из уст этого раба Ягве; ведь то было объявление войны, вызов, брошенный богом Ягве владыке и богу Домициану, – ему надо было вспомнить текст дословно.
Нетерпеливо, упрямо он приказал:
– Прочти мне стихи!
Иосифу не оставалось ничего иного, как повиноваться. Он прочитал стихи – с яростью, но без всякого воодушевления, с неверием в сердце; теперь это были одни слова, пустые, лишенные содержания.
И я говорю:
Слава мужу, идущему на смерть
Ради слова, что уста ему жжет…
И я говорю:
Слава тому, кого не принудишь
Сказать то, чего нет.
Он видел устремленный на него взгляд императора, испытующий, задумчивый, злой; он хотел уклониться от этого взгляда и тогда увидел собственное лицо в зеркальной облицовке стен, повсюду видел он собственное лицо и лицо императора, глаза императора и свой рот, то раскрытый, то сомкнутый. И он показался себе комедиантом на подмостках, и комедиантством показался ему его «Псалом мужеству». К чему возглашать истину перед миром, который не желает ее слушать? Тысячелетиями люди возглашают миру истину, и ничего в нем не изменили, и только накликали беды на себя самих.
Домициан слушал до конца с неослабным вниманием. Потом проговорил мечтательно:
– Благо человеку, который возглашает истину. Как так: благо ему? Боги открывают истину только в мистериях[106], значит, им не угодно, чтобы истина возглашалась всегда и всем подряд. То, о чем ты вещаешь в своих стихах, мой любезный, звучит вполне мило и занятно, но если вдуматься поглубже, так это бессмысленная чушь. – Он окинул Иосифа пристальным взглядом, словно зверя в одной из своих клеток. – Странно, – проговорил он и покачал головой, – как могут прийти человеку такие вздорные идеи. – И он еще и еще раз медленно покачал головой. И вдруг: – Стало быть, ты любишь своего Маттафия? – вернулся император к прежнему разговору.
«Псалом мужеству»… Маттафий… Чудовищный страх стиснул сердце Иосифа.
– Да, люблю, – вымолвил он с усилием.
– И, конечно, надеешься вознести его высоко? – расспрашивал Домициан. – Полон честолюбивых надежд? Хочешь сделать из него большого, очень большого человека?
Иосиф отвечал осторожно:
– Я знаю, что недостоин милостей, которыми осыпали меня владыка и бог Домициан и его предшественники. Но жизнь бросает меня то вверх, то вниз. И сына мне бы хотелось от этого уберечь. Что бы мне хотелось оставить в наследство сыну – так это безопасность.
И он не лгал. Ибо мечты о блеске и славе, которыми он окутывал своего сына Маттафия, отлетели в эту жестокую минуту, и он хотел вернуть мальчика сейчас, немедленно, и немедленно увезти его прочь из Рима – в Иудею, где безопасность и мир. И он возопил в душе к богу своему, да ниспошлет он ему силы в этот тяжкий миг, чтобы найти верные слова и спасти сына.
– Занятно, очень занятно, – продолжал между тем Домициан. – Вот, стало быть, о чем ты мечтаешь для своего Маттафия – о покое и безопасности. Но неужели ты думаешь, что учение при дворе – наивернейший путь к такой цели?
Иосифа поразило в самое сердце, что враг так безошибочно открыл его слабое место, его преступление. Да, ведь именно в том он и согрешил, что наставил сына на этот опасный путь. Он мучительно искал ответа.
– Императрице понравился мой мальчик, – нашелся он наконец. – Мог ли я сказать «нет», когда госпожа Луция предложила мне отдать сына к пей на службу? Я бы никогда не отважился на такую непочтительность.
Но Домициан, нащупав однажды слабое место своего врага – прислужника Ягве, уже не разжимал когтей.
– Если бы ты сам этого не хотел, – объявил он и укоряюще поднял палец, а в зеркальной обшивке стен поднялось множество пальцев, – ты бы нашел подобающие извинения. Но ты честолюбивый отец, – настаивал он, – признайся, будь откровенен.
– Конечно, каждый отец честолюбив, – согласился Иосиф и ощутил в себе слабость и пустоту.
– Вот видишь, – удовлетворенно сказал Домициан и запустил когти поглубже в рану. – Ты мне как-то говорил, что ты из рода Давида. Коль скоро ты сам признаешься в отцовском честолюбии, неужели тебе никогда не приходила мысль, что именно он, твой сын, мог бы оказаться избранником, вашим мессией?
У Иосифа побелели губя, пересохло в горле.
– Нет, – отвечал он, – об этом я не думал.
Объяснение с евреем представлялось сперва Домициану трудной задачей, задачей, которую он берет на себя лишь ради того, чтобы оправдаться перед Ягве. Но теперь, когда он видел лицо Иосифа, это худое, измученное лицо, – теперь тягостного бремени уже не было и в помине, наоборот, императора охватило огромное, дикое, свирепое желание увидеть, что станет делать этот человек, как поведет себя, как изменится в лице, какие слова он произнесет, когда узнает, что случилось с его сыном. Глаза императора жаждали это увидеть, его уши жаждали услышать вопль раненого врага, ненавистного врага, который бросил свои дерзкие речи прямо ему в лицо и полюбился его Луции.
И вот осторожно, вдумчиво, с удвоенной вкрадчивостью и коварством, взвешивая каждое слово, он продолжал:
– Если ты никогда не внушал своему сыну мысль, что он может оказаться избранником вашего Ягве, ты, видно, каким-либо иным образом разжег в нем честолюбие, или же он тебя неверно понял, или же, наконец, ваш бог с самого начала наградил его очень честолюбивым сердцем.
Иосиф с мучительным волнением следил за словами императора.
– Видно, я очень глуп, – сказал он, – или, по крайней мере, сегодня туго соображаю, но я не могу понять, что имеет в виду ваше величество.
Все с тою же неумолимою вкрадчивостью Домициан заметил:
– Во всяком случае, хорошо, что именно покоя и безопасности просишь ты у небес для своего Маттафия.
Боль сдавила сердце и голос Иосифа, он взмолился:
– Я был бы бесконечно благодарен вашему величеству, если бы вы говорили с испуганным отцом такими словами, которые он способен понять.
– Ты очень нетерпелив, – упрекнул его Домициан, – ты настолько нетерпелив, что нарушаешь приличия, к каким обязывает тебя беседа с августейшим другом. Но я привык прощать, и, может быть, чаще других пользовался плодами моей снисходительности ты, пусть же будет так и на сей раз. Слушай, неугомонный! Вот в чем дело: твой Маттафий пустился в одно крайне честолюбивое предприятие. Я полагаю, я надеюсь, я вижу по твоему лицу, я убежден, наконец, что ты об этом ничего не знал. Рад за тебя. Ибо предприятие было очень опасное, и ему не повезло, твоему сыну. К сожалению, оно было не просто опасным, но и преступным.
– Сжальтесь! – молил Иосиф чуть слышно, в смертной муке. – Сжальтесь надо мною, владыка мой и бог Домициан! Что с моим Маттафием? Скажите мне! Умоляю вас!
Домициан следил за ним с тем серьезным, деловитым любопытством, с каким разглядывал зверей у себя в зверинце и растения у себя в оранжереях.
– Он выполнил в Массилии поручения императрицы – как ему и было наказано, – сказал император, – хорошо выполнил, даже слишком хорошо.
– А теперь он где? – спросил Иосиф не дыша. – Он уехал из Массилии?
– Он сел на корабль, – ответил император.
– А когда он вернется? – настаивал Иосиф. – Когда я снова его увижу? – И так как император только улыбнулся медленной, мягкой, сожалеющей улыбкой, Иосиф забыл о всякой почтительности, лишь чудовищный, бессмысленный страх говорил в нем. – Значит, он не вернется? – спросил он, не сводя с императора застывшего взора, и подступил к Домициану почти вплотную, так что даже коснулся императорского одеяния.
Домициан, который всегда брезгливо избегал чужих прикосновений, видя в них самую дерзкую и гнусную непочтительность, мягко отстранил его.
– Ведь у тебя есть еще дети, – сказал он, – не правда ли? Вот теперь и докажи, мой еврей, что твои стихи о мужестве – не пустой звук.
– У меня был только один сын, и его больше нет, – сказал Иосиф и с бессмысленным упорством повторил: – Значит, он не вернется?
Он так заикался, что едва можно было разобрать слова, но император все же разобрал, и наслаждением было для него видеть этого растоптанного противника.
– С ним приключилась беда, – сообщил он дружелюбным, сочувствующим тоном. – Он упал. Они стали играть с каким-то юнгой – состязались, кто скорее взберется на мачту, так мне помнится, – и он упал. А отходить его не смогли. Он сломал себе шею.
Иосиф стоял неподвижно, глаза его все с тем же напряжением были прикованы к губам императора. Император ждал вопля, но вопля не последовало, вместо этого лицо Иосифа внезапно обмякло, и он как-то странно зажевал губами, размыкая и снова смыкая челюсти, будто пытался заговорить и не мог вымолвить ни слова.
А Домициан упивался своим триумфом. Перед ним стоял человек, которого сразили боги, все боги, даже его собственный, даже его Ягве. А стало быть, он, Домициан, действовал правильно, он выиграл великую битву против бога Ягве – его же собственным оружием, хитростью, и вместе с тем безукоризненно честно, так что этот бог ни в чем не может его упрекнуть или же повредить ему. Доверительно и очень отчетливо, наслаждаясь каждым своим словом, он продолжал:
– Ты должен знать правду, мой Иосиф. Несчастье, которое приключилось с твоим сыном, – не случайность. Это наказание. Но я не злопамятен: теперь, когда его больше нет, я прощаю ему все. А потому пусть не узнает никто, что он умер в искупление своей вины. Пусть все думают, будто с ним приключилось несчастье, с твоим красивым и юным сыном Маттафием Флавием. И чтобы окончательно убедиться в моей благосклонности – слушай дальше: пусть похоронят его так, словно он и в самом деле был избранником, – как принца пусть похоронят его, словно в Риме правил ваш царь Давид.
Но убедиться, какое впечатление окажет на противника его гордыня и его великодушие, императору не довелось. Ибо Иосиф, по всей очевидности, уже не услыхал его кротких и возвышенных слов. Пустым, бессмысленным взглядом упирался он в императора, губы его все жевали, а потом внезапно мешком осел на пол.







