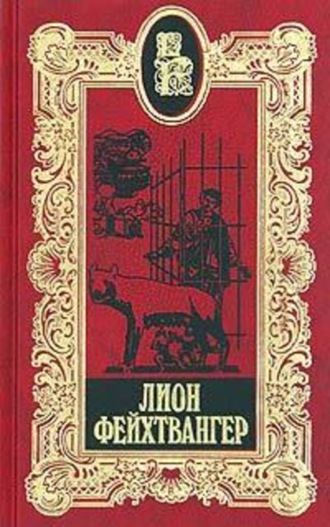
Лион Фейхтвангер
Настанет день
Дорион ответила задумчиво, насмешливо, но ее насмешка звучала так, словно она готова была согласиться с любым опровержением:
– Вы так рассуждаете, мой Финей, словно души евреев вам известны не хуже, чем улицы города Рима. Не объясните ли вы подробнее, почему именно эта Ямния имеет для них такое значение?
– Охотно. – И Финей начал поучать ее с торжествующей невозмутимостью: – Я никогда не стал бы говорить так уверенно о моем плане сломить Иосифа и его евреев, если бы предварительно не проверил, в чем суть дела с этой Ямнией. Я расспрашивал сведущих лиц, чиновников и офицеров из администрации и из оккупационных войск в Иудее, прежде всего, конечно, губернатора Сальвидия, и тщательно сопоставлял мнения этих людей. Дело обстоит так: этот нелепый университет не обладает никакой властью, да и не ищет ее. Это действительно всего-навсего нелепая школка для подготовки богословов. Но во всей провинции не найдется ни одного еврея, который бы не делал взносов, точно установленных в соответствии с его средствами, на этот университет, и ни одного, кто бы не подчинялся его решениям. И обратите внимание – все это добровольно. Они повинуются государственной власти, но лишь по необходимости, а вот власти своей Ямнии они повинуются добровольно. Они приходят со своими тяжбами – не только религиозными, но и гражданскими – не в императорские суды, а к богословам Ямнии и подчиняются их решениям и приговорам. Бывали случаи, когда богословы приговаривали обвиняемого к смерти, мне со всей очевидностью доказали, что такие случаи бывали нередко. Разумеется, эти приговоры не имеют законной силы, они носили чисто академический характер и являлись заключениями теоретическими, ни для кого не обязательными. Но вы знаете, что сделали евреи, приговоренные таким способом к смерти? Они умерли. Действительно умерли. Мне об этом рассказывал губернатор Сальвидий, а Невий, верховный судья, подтвердил, и капитан Опитер тоже. Как эти евреи умерли – сами ли они себя прикончили или их прикончили, – этого я установить не смог. Но ясно одно: достаточно им было отдаться под защиту римлян, и они могли бы преотлично жить дальше в назидание всем. Но они предпочли умереть.
Дорион молчала. Словно застыв, сидела она, неподвижная, смуглая, узкая, как фигуры на древних суровых и угловатых египетских портретах.
– Уверяю вас, Дорион, – продолжал Финей, – университет в Ямнии – это крепость евреев, надежная крепость, она неприступнее, чем был Иерусалим и храм; наверное, это самая неприступная твердыня на свете, и взять ее невидимые стены труднее, чем самые хитроумные ворота, построенные нашим Фронтином. Господа римляне этого не знают, губернатор Лонгин не знает, император не знает. А я, Финей, знаю, – оттого что я ненавижу Иосифа и его евреев. Маленький дурацкий университетик в Ямнии, семьдесят один богослов – вот центр провинции Иудеи! Отсюда правят евреями, а вовсе не из губернаторского дворца в Кесарии. И если нашего Павла еще трижды пошлют против евреев и если перебьют сто тысяч «Ревнителей грядущего дня», все будет бесполезно. Иудея остается жить, она живет в этом университете!
Дорион слушала с волнением. Ее дерзко выступавший на нежном надменном лице большой рот был полуоткрыт, придавая ей почти глупое выражение, мелкие зубы белели, глаза не отрывались от губ Финея.
– Значит, вы уверены, – медленно заговорила она, подводя итог, обдумывая каждое слово, – что центром еврейского сопротивления, так сказать, душой еврейства, является университет в Ямнии? – Госпожа Дорион была на вид очень хрупкой; но сейчас она взвешивала его слова, ее узкая каштановая голова и желтоватое лицо с выступающими надбровными дугами, тупым, слегка приплюснутым носом и приоткрытыми губами – все в ней казалось жестким, недобрым, даже опасным. – И сразить и обезвредить еврейство и Иосифа можно только тогда, когда будет разрушен университет в Ямнии, – закончила она свою мысль.
Глубоким, звучным голосом Финей согласился с нею и, стараясь скрыть мстительное и радостное волнение, подтвердил сухим, бесстрастным тоном:
– Разрушен, истреблен, уничтожен, растоптан, раздавлен, сровнен с землей.
– Благодарю вас, – сказала Дорион.
Университет в Ямнии, который в Риме до тех пор и по названию-то знали немногие, вдруг стал излюбленной темой разговоров, и люди яростно спорили, действительно ли центром непокорной провинции Иудеи является Ямния.
И побежали среди евреев смутные слухи о невыразимой, надвигавшейся на них беде. То, что, видимо, задумал Рим, было страшнее всего, что могли себе вообразить самые боязливые, изо всех мыслимых ужасов это было самое ужасное. До сих пор враги нападали на тела евреев, на их землю, их добро и имущество, на их государство. Они разрушили царство Израиля, они разрушили царство Иуды и храм Соломона. Веспасиан разрушил второе царство[32], а Тит – храм Маккавеев и Ирода. Планы, которые вынашивает третий Флавий, идут глубже, они направлены против самой души иудейства, против Книги, против Учения. Ибо носителями и хранителями Учения были богословы. Только коллегия в Ямнии не дает ему испариться и вернуться на небо, откуда оно пришло. Учение давало внутреннюю спаянность, и если угроза была направлена против коллегии в Ямнии, – тем самым ставились под угрозу душа и смысл иудаизма.
Однако до сих пор всегда находились великие и разумные мужи, которым удавалось спасти учение. Поэтому и сейчас все взоры устремились на человека, возглавлявшего коллегию и университет в Ямнии, на Гамалиила, верховного богослова. Верховный богослов был посланцем Ягве на земле, главою евреев не только в провинции Иудее, но и во всем мире. Стоявшие перед ним задачи были трудны и многообразны. Он должен был представлять перед римлянами свой народ и учение, сводить к единству разноречивые мнения богословов, должен был, не обладая внешними признаками власти, оберегать еврейские законы перед лицом масс. Его положение требовало энергии, такта, быстрых решений.
Гамалиил, рожденный и воспитанный для роли властителя, в очень молодых годах принял на себя наследственный сан и достоинство некоронованного царя Израильского; теперь ему как раз минуло сорок. Он оправдал возложенные на него надежды в борьбе с губернаторами Сильвой, Сальвидием, Лонгином. Мудро лавируя, он уберег корабль учения и от тех, кто старался ввести его в гавань космополитического мессианизма. Уверенно и четко отсек он Закон от идеологии эллинства – с одной стороны и от верований минеев – с другой. Гамалиил достиг цели, только рисовавшейся Иоханану бен Заккаи, основателю коллегии в Ямнии: он укрепил единство иудеев законами об обрядах, в которых не допускал ни сомнений, ни колебаний. Власть погибшего государства он заменил властью обычаев и учения. Верховного богослова Гамалиила многие ненавидели, иные любили, и все уважали.
Он сразу понял, что судьба Ямнии, а тем самым и всего еврейства, будет решена не губернатором в Кесарии, но самим императором в Риме. Уже много лет лелеял Гамалиил план поехать в Рим и выступить перед императором в защиту своего народа. Но обрядовые законы запрещали путешествовать в субботу, и он, страж этого закона, не мог пуститься в путешествие, которое принудило бы его плыть по морю в субботний день. Он подумывал о том, чтобы поставить перед своей коллегией вопрос – не будет ли ему разрешено теперь, когда учению и всему еврейству угрожает опасность, все же преступить закон о субботе, как это допускается во время сражения. Однако богословы примутся, как обычно, спорить на этот счет, и спор затянется на несколько лет. А дело было срочное, и верховный богослов, не боясь вызвать их ропот, все решил единовластно, приказал некоторым из этих господ сопровождать его, и вот всемером – число священное – они отплыли в Рим.
Торжественным и пышным было его прибытие в Рим. Иоанн Гисхальский отыскал для него дворец. Здесь когда-то иудейский царь Агриппа и принцесса Береника принимали приветствия римской знати. И здесь теперь остановился верховный богослов.
Из этого дома в Риме он правил теперь всеми евреями земного круга. Гамалиил не выставлял напоказ ни себя, ни своих целей. Он не давал блестящих празднеств, был приветлив без высокомерия. И все же он выглядел величественно, даже царственно, и сейчас, когда он находился в Риме, вдруг стало ясно, что еврейство, хоть и лишенное политической силы, все-таки оказывает воздействие на жизнь всего мира. Министры, сенаторы, художники, писатели искали встреч с Гамалиилом.
Но Домициан молчал. Верховный богослов доложил о себе, как полагалось на Палатине, и просил гофмаршала Криспина дать ему возможность выразить императору верноподданнические чувства евреев и их сокрушение по поводу безумия тех, кто дерзнул восстать против его гарнизона.
– Вот как? Он действительно этого хочет? – спросил император и усмехнулся.
Однако ответа не дал, не вспоминал и потом о верховном богослове и ни со своими доверенными советниками, ни с Луцией или с Юлией, ни с кем-либо еще не обмолвился больше ни словом ни о Гамалииле, ни о коллегии в Ямнии.
Тем более интересовались присутствием верховного богослова принц Флавий Клемент и его жена Домитилла.
Дело в том, что среди минеев города Рима, все чаще называвших себя теперь христианами, приезд Гамалиила вызвал большое волнение. Где бы этот человек ни появился, пояснил Иаков из Секании, вождь минеев, своему покровителю принцу, где бы Гамалиил ни появился, христианам и их учению начинает грозить опасность. Он хитростью принудил их проклясть в молитве самих себя, и хотя они очень хотели остаться евреями, изгнал их из общины и таким образом расколол еврейство на последователей старого и нового учения.
Принц Клемент внимательно слушал. Он был на два года старше императора, но казался моложе; волевого подбородка Флавиев у пего не было, а приветливое лицо, бледно-голубые глаза и белокурые волосы придавали ему юношеский вид. Домициан любил высмеивать его и уверял, что он ленив духом. А на самом деле Клемент просто соображал медленнее других. Вот и сегодня он хотел, чтобы ему снова объяснили, в чем же, собственно, разница между старым иудейским учением и учением христиан, и хотя он спрашивал уже в третий или четвертый раз, Иаков из Секании терпеливо принялся ему объяснять.
– Гамалиил будет утверждать, – сказал он, – что мы не евреи, если верим, будто мессия уже явился, ибо такая вера есть «отречение от принципа». Но главная причина не в этом. Главная причина кроется в его желании сузить учение, сделать убогим и скудным, чтобы его можно было легко охватить одним взглядом. Он желает, чтобы верующие были как единое большое стадо, которое ему легко обозреть. Поэтому-то он и хочет запереть учение в стойло, в свой закон об обрядах. – Глядя на этого скромного бритого человека, скорее похожего на банкира или юриста, трудно было поверить, что его занимали почти исключительно вопросы религии. – Мы и сами вовсе не отрицаем этого закона, – продолжал он. – Мы протестуем только против утверждений верховного богослова, будто вся истина содержится в этом законе. А ведь там лишь половина истины, если же половина выдает себя за всю истину, то она хуже лжи. Каждый подлинный слуга Ягве считает своим священным долгом проповедовать дух Ягве среди всех народов, а не среди одних евреев. Но об этом Гамалиил умалчивает; и не только умалчивает, он борется против этого. Когда несколько лет назад ваш двоюродный брат Тит запретил производить обрезание над неевреями, мы были поставлены перед вопросом: от чего нам следует отказаться – от внешнего признака принадлежности к еврейству, от обрезания, или же от мировой миссии еврейства, от распространения его вероучения? Верховный богослов высказался за обрезание, за свой закон об обрядах, за национализм. Мы же, христиане, предпочитаем отказаться от обрезания, но хотим, чтобы весь мир приобщился к Ягве. Верховный богослов отлично знает, что, по сути дела, мы – лучшие из евреев, ибо бог вдохнул в него острый ум и силу познания. Но так как он встал на сторону зла, он ненавидит нас и натравливает на нас римлян. Гамалиил уверяет, что причиной постоянных раздоров между Римом и евреями – наша страсть обращать людей в свою веру.
– Но ведь вы действительно стараетесь проповедовать ваше учение на всех углах и перекрестках, – задумчиво возразил принц Клемент.
– Да, верно, – согласился Иаков. – Так как верховный богослов из духовной скупости хочет, чтобы Ягве принадлежал только ему и его евреям, мы не можем допустить, чтобы изнемогли от духовной жажды те, кто ищет истины. Разве смею я сказать, например, вам, принц Клемент: нет, вы не можете приобщиться к Ягве, мессия умер не за вас? Имею ли я право скрыть от вас истину только потому, что императорский закон запрещает вам обрезание?
Иаков из Секании говорил хорошо, убежденность придавала жар его словам, хоть он их произносил очень спокойно, и Домитилла не отрывала взгляда своих серо-голубых, жестковатых и все же фанатичных глаз от его губ. Однако она была из рода Флавиев, а потому недоверчива.
– Почему же, – спросила она, – если вы владеете истинным Ягве, евреи идут за верховным богословом, а не за вами?
– Нет, и среди евреев все больше людей начинают понимать, где правда, – возразил Иаков, – они замечают, что богословы стремятся недозволенным образом неразрывно соединить Ягве с государством. А Ягве разрушил государство, допустил поражение евреев и во время последнего восстания, и это свидетельствует, что государство ему неугодно, и среди евреев все растет число тех, кто не закрывает глаза на это свидетельство, растет число евреев, присоединяющихся к нам. Они больше не хотят государства, они хотят иметь только побольше бога. И они отвергают хитроумные и лицемерные рассуждения богословов, которыми те пытаются воскресить государство в законе об обрядах. Ибо этот закон – всего-навсего искусное прикрытие, а за ним стоит все то же старое государство, подчиненное священникам.
Домитилла, хотя и не противилась захватившей ее силе убеждения, с какой говорил Иаков, однако тотчас поспешила из мира абстракций перейти к близкой действительности, к сегодняшнему Риму. Она раскрыла тонкие губы и деловито подытожила:
– Значит, вы считаете верховного богослова своим злейшим врагом?
– Да, – ответил Иаков. – Так же точно враждуют между собой истина и ложь. Наш Ягве – Ягве пророков, он бог всего мира. Его Ягве – бог судей и царей, битв и завоеваний, это тень Ваала, которая всегда продолжала жить в Иудее.[33] Гамалиил – человек умный, и он ловко спрятал своего Ваала. Но он служит Ваалу и ненавидит нас, ведь слуги Ваала неизменно преследовали слуг Ягве.
– И вы полагаете, – педантично настаивала Домитилла, упорно не желая покидать область конкретных фактов, – что верховный богослов воспользуется своим пребыванием здесь, в Риме, и постарается вам навредить?
– Конечно, постарается, – ответил Иаков. – Он будет спасать свой университет в Линии и свой закон об обрядах и приложит все усилия, чтобы император перенес свои подозрения на нас, христиан. Таким способом он действовал всегда. Изображал себя и своих евреев невинными агнцами; а бунтовщики – это мы. Мы проповедуем свою веру, мы хотим отвлечь римлян от Юпитера, пусть его заменит Ягве. В Кесарии он не раз добивался своего у губернатора, прибегая к такого рода доводам; почему бы ему не испробовать тот же способ и с самим императором?
– Я знаю его, – отозвалась Домитилла, – знаю «этого». – Даже теперь она тоже назвала дядю, императора, «этот». – Я знаю «этого», – сказала худая, белокурая, жесткая и фанатичная молодая женщина. – Конечно, он будет защищать Юпитера, своего Юпитера, Юпитера, как он его понимает. И, конечно, он таит злые замыслы против Ягве. Перед тем, как нанести удар, он привык медлить, вероятно, он не делает различия между вами и евреями, и ему все равно, поразит ли удар верховного богослова и его Ямнию или вас. Но руку он уже занес и наверняка ударит. Все дело в том, на кого сейчас направлено его внимание.
Клемент внимательно слушал свою жену, как добросовестный, но медленно соображающий ученик.
– Если я тебя правильно понял, – сказал он, словно размышляя вслух, – то нам следовало бы, раз мы хотим спасти нашего Иакова и его учение, привлечь внимание DDD к университету в Линии. Надо, чтобы он нанес удар по верховному богослову и но университету.
Бледно-голубые глаза принца потемнели от волнения. Домитилла также ожидала, что ответит Иаков.
Но тот не хотел, чтобы его упрекнули, будто он затаил в душе жажду мщения. Если он идет против Гамалиила, то не из ревности, а лишь потому, что не видит иного способа спасти свою собственную веру.
– Я не питаю ненависти к верховному богослову, – произнес он спокойно и задумчиво. – Мы ни к кому не питаем ненависти. И если к нам относятся враждебно, то не потому, что мы враждебны. Мы вызываем вражду уже тем, что существуем.
– Так согласны вы или нет, что лучшее средство спасти вас – это запрещение университета в Ямнии и его деятельности? – настаивала Домитилла.
– К сожалению, это, вероятно, лучшее средство, – все так же задумчиво ответил Иаков.
Единственный доступный для Домитиллы путь к тому, чтобы заставить «этого» наложить запрет, вел через Юлию.
А в отношениях между Юлией и Домицианом произошли перемены. Сначала все сложилось так, как Юлия и опасалась: после возвращения Луции DDD стал с племянницей очень холоден. Он был весь полон Луцией, а на Юлию бросал иронические, даже ненавидящие взгляды. Когда она перед его отъездом на войну пришла к нему попрощаться, он, несмотря на спокойный характер Юлии, своими язвительными замечаниями довел ее до бешенства. Женщина с таким умом, как у нее, издевался Домициан, не способна постигнуть подлинное величие, и, наверное, она, несмотря на его запрещение, все-таки спала с этой хромой задницей, с Сабином, она носит под сердцем ребенка от Сабина и пусть не воображает, что Домициан когда-нибудь усыновит ее балбеса. Но Юлия действительно не спала с Сабином, не могло быть сомнения и в том, что ребенка она ждет от Домициана, и его злобное недоверие оскорбляло ее тем сильнее, что ей бывало отнюдь не легко, когда муж терзался возле нее, беспомощный и униженный. Для этой обычно столь спокойной дамы было крайне тягостно все время, пока отсутствовал император, жить рядом с укоризненно молчавшим Сабином, она день и ночь мучилась тем, что не в силах рассеять нелепые подозрения DDD, и, когда незадолго до возвращения Домициана наконец родила мертвого ребенка, она приписала это тем волнениям, которым ее подвергал император своей низкой подозрительностью и человеконенавистничеством.
И вот, по возвращении из дакийского похода, Домициан увидел совсем другую Юлию. Она была уже не такой пышнотелой, ее белое, спокойно-надменное лицо казалось менее вялым, более одухотворенным. С другой стороны, и Луция встретила его не так, как он ожидал. Она не желала признавать в нем овеянного славой победителя, и он никак не мог ей внушить, что дакийская война, которая все еще тянулась, оказалась для римлян успешной. Его раздражала ее манера весело и снисходительно посмеиваться над ним; раздражало, что она догадывается почти обо всех его маленьких слабостях; что она столь многое, чем он гордится, ничуть в нем не ценит; что благодаря привилегиям, которые она так хитро у него выманила, ее кирпичные заводы приносят большие деньги, в то время как его казна опустошена войной. Поэтому Домициан иначе, более приветливо стал поглядывать на Юлию. Теперь он верил, что ребенка она родила от него, верил, что его несправедливые упреки послужили причиной смерти ребенка, и он снова желал ее; и оттого, что опечаленная и ожесточившаяся женщина не шла ему навстречу с былой ленивой ласковостью, еще более разгорались его желания.
Домитилла знала, что ее невестка и кузина Юлия снова пользуется благосклонностью императора. Иаков не раз внушал Домитилле, что если хочешь добиться победы правого дела, то нужно быть кроткой, как голубь, и мудрой, как змий.[34] Она решила представить Юлии это дело с университетом в Ямнии так, чтобы Юлия приняла его близко к сердцу.
И ей удалось осторожно связать создание университета с завистью Домициана к Титу. Отец Юлии, Тит, захватил и разрушил Иерусалим, он был победителем Иудеи. Но с его славой «этот» не мог примириться. Он непременно желал доказать себе, Риму и миру, что Тит все же не справился со своей задачей, не победил Иудею, и ему, Домициану, осталось еще сделать немало – до конца подавить мятежную провинцию. И если Домициан, например, допускает, чтобы этот дурацкий верховный богослов Гамалиил здесь, в Риме, так важничал и задавался, то лишь из желания еще раз доказать всему городу, что евреи по-прежнему остаются определенной политической силой, что Тит не сломил их и покончить с ними – задача, предназначенная богами ему, Домициану.
Вот какие мысли мудрая Домитилла внушала Юлии, и когда Юлия оставалась потом одна, то продолжала разматывать их нить в том направлении, в каком хотелось Домитилле. Совершенно ясно, что DDD только по злобе, только чтобы умалить память ее отца Тита, разрешает главному еврейскому попу столь дерзко разгуливать по улицам Рима. И то, что Домитилла подняла вопрос о запрещении университета в Ямнии, совсем неплохо. После всех обид, нанесенных ей DDD, она, Юлия, имела право на ощутимую милость. Она потребует, чтобы впредь он оставил те ловкие интриги, которые плел, желая опозорить память ее отца Тита. Пусть наложит запрет на Ямнию. И Домитилле удалось то, чего она добивалась, – сама того не ведая, Юлия стала защитницей минеев.
Когда Домициан в следующий раз пригласил ее к себе, она особенно тщательно занялась своей наружностью. Над белым лицом семью рядами локонов, перевитых драгоценными каменьями, вздымались, подобно башне, ее чудесные пшеничного цвета волосы. Она чуть тронула краской свой энергичный чувственный рот – рот Флавиев, – чтобы он стал еще алее. Десятки раз проверяла она, как лежит каждая складка ее голубой одежды. Долго советовалась со своими служанками, какие из бесчисленных духов ей выбрать.
В пышном наряде явилась Юлия к Домициану. Он был хорошо настроен, приветлив. Она избегала, как обычно за последнее время, всяких фамильярностей; взамен она принялась рассказывать ему светские сплетни, как бы между прочим упомянула и о еврейском верховном жреце. Она находит его поведение здесь, в Риме, просто скандальным, он держится точно независимый государь. Считает свой дурацкий университет, – наверное, что-нибудь вроде сельской школы, где учат всяким суевериям, – центром земли, а так как среди римских снобов любое мнение тем скорее находит приверженцев, чем оно сумасброднее, то если никто этого еврейского попа не остановит, дело кончится тем, что молодые римляне еще будут ездить в Ямнию учиться.
Все это Юлия выложила со скрытой иронией. Но недоверчивый Домициан сейчас же заподозрил, что за ее спиной стоят его ненавистные кузены. И он ответил с кривой усмешкой:
– Итак, вы хотели бы, кузина Юлия, чтобы я показал этому еврейскому жрецу, кто здесь хозяин?
– Ну да, – ответила Юлия как можно равнодушнее, – мне кажется, это было бы полезно, а меня позабавило бы.
– Рад слышать, племянница Юлия, – ответил с подчеркнутой вежливостью Домициан, – что вы так заботитесь о престиже дома Флавиев, – вы и, вероятно, ваши родственники. – Потом сухо закончил: – Благодарю вас.
Однако Юлия не отступилась от своего намерения. Когда он принялся расстегивать ей платье и распускать с таким искусством воздвигнутую прическу, она снова завела разговор об университете в Ямнии и потребовала заверений и обещаний. Домициан стал ее вышучивать. Она же, хоть и называла его «Фузаном», продолжала настаивать, окаменела в его объятиях и не спешила уступить, но полушутя-полусерьезно настаивала, чтобы он сначала обещал исполнить ее просьбу. Однако он пустил в ход силу, и она, покоренная именно этой грубостью, уступила и подчинилась его властным рукам.
Она уходила от него, получив лишь несколько часов наслаждения. Но в деле Домитиллы и минеев она не добилась ничего. Император ни единым словом не выдал, как он намерен поступить с университетом в Ямнии.
Советники Домициана тоже считали, что пора в это дело внести ясность. Вопрос о том, когда примет император верховного богослова и примет ли вообще, относился к компетенции гофмаршала Криспина. А тот, как египтянин, с детства питал глубокую неприязнь ко всему еврейскому. Он доложил императору просьбу верховного богослова об аудиенции, это была его обязанность. Но он был очень доволен, что из-за упорного молчания DDD положение Гамалиила в Риме становилось все более смешным и шатким.
В конце концов друзья евреев попытались поставить дело Гамалиила на рассмотрение кабинета. При обсуждении какого-то религиозного вопроса, касавшегося одной из восточных провинций, Марулл заявил, что ему кажется вполне уместным выяснить сейчас и вопрос об университете в Ямнии. Клавдий Регин подхватил это предложение с обычным сонным мужеством. Разве вообще поднят вопрос об университете в Ямнии? – удивился он. А если бы даже такой вопрос и возник, то не служит ли на него ответом то обстоятельство, что император разрешает так долго жить в Риме верховному иудейскому жрецу и не вызывает его к себе на суд? Несмотря на его столь продолжительное пребывание здесь, против университета ничего не предпринимается, и это может быть истолковано только как проявление терпимости, даже как новое подтверждение прав университета на существование. Другое решение немыслимо, оно было бы возможно, только если бы Рим захотел покончить со своей исконной политикой в области культуры. Свобода вероисповедания – один из столпов, на которых покоится Римская империя; посягательство на такое религиозное учреждение, как школа в Ямнии, было бы, конечно, воспринято всеми покоренными народами как угроза для всех центров их культа. Закрытие университета в Ямнии явилось бы опасным прецедентом и вызвало бы ненужные волнения.
Клавдий Регин весьма искусно надергал фраз из официальной доктрины императора и апеллировал к Домициану, как к хранителю римских традиций. При этом он украдкой следил за лицом императора. Но тот несколько секунд смотрел на него своими выпуклыми близорукими глазами молча, задумчиво и рассеянно, потом медленно повернул голову к другим господам. Однако Регин, наблюдавший его много лет, понял, что его слова произвели на DDD некоторое впечатление. Так оно и было. Домициан подумал про себя, что в доводах Регина есть смысл. Но они пришлись совсем некстати. Ибо он хотел принять решение совершенно независимо от каких-либо подсказок, хотел сохранить свободу действий, – пусть вопрос останется открытым. И вот он сидел, ничего не говоря, ждал, когда кто-нибудь из его советников возразит Регину.
Нет, он лично не может согласиться, начал Криспин, сюсюкая и пришепетывая (так говорили по-гречески снобы в университетах Коринфа и Александрии, и этот выговор считался аристократическим), – он никак не может согласиться с тем, будто бы государь своим молчанием что-либо подтвердил. И раньше случалось, что не только посланцев, даже царей варварских народов заставляли месяцами ждать аудиенции. Когда египтянин, дав волю своей ненависти, назвал евреев варварами, все подняли головы и украдкой взглянули на императора. Но тот был неподвижен.
Министр полиции Норбан поспешил на помощь Криспину.
– Уже сам по себе приезд в Рим еврейского верховного жреца, которого никто не звал, – это навязчивость и дерзость, – заявил Норбан. – Если у него есть какая-нибудь просьба или жалоба – пусть соблаговолит обратиться к императорскому губернатору в Кесарии. Мои люди в один голос сообщают мне, что с тех пор, как в Рим прибыл из Ямнии верховный жрец, евреи очень обнаглели. Закрытие университета было бы хорошим способом умерить их дерзость.
Норбан старался, чтобы его широкое угловатое лицо с модными нелепыми завитками свисающих на лоб жестких иссиня-черных волос оставалось бесстрастным, а интонации – деловито-сдержанными. Но шитые белыми нитками возражения министра полиции, как видно, не могли в глазах императора лишить силы доводы Регина. Домициан сидел молча, насупившись, ждал. Ждал более удачных опровержений, которые вернули бы ему возможность свободно решать самому. И тут на помощь ему пришел советник, от которого он меньше всего мог этого ожидать, – Анний Басс. Госпожа Дорион терпеливо и искусно вдалбливала в голову простодушного солдата доводы, отточенные специально для того, чтобы оказать действие на Домициана; она повторяла их до тех пор, пока Анний не стал считать их своими собственными. Конечно, обстоятельно разъяснял он, согласно старинной римской государственной мудрости и традиции, следует щадить культурную жизнь завоеванных стран и оставлять побежденным народам их богов и их религию. Но евреи сами лишили себя такой привилегии. Преследуя свои коварные цели, они отняли у великодушного победителя возможность отделить их религию от их политики, ибо всю свою религию до самых сокровенных ее глубин они пропитали политикой. Даже если с ними обращаться иначе, чем с остальными покоренными народами, – те поймут это и не будут делать ложных выводов. Ведь евреи искони стремились быть избранным народом и сами враждебно исключили себя из мирного круга автономных в своей культуре наций, входящих в состав империи. Их бог Ягве тоже не такой, как боги других народов, он не настоящий бог, у него нет изображений, нельзя поставить его статую в римском храме, как ставят статуи других богов. Он лишен образа, это всего-навсего строптивый дух еврейской национальной политики. И если цель Рима – действительно подчинить себе евреев, то едва ли допустимо щадить их бога Ягве и его университет в Ямнии. Ибо Ягве – это просто-напросто синоним государственной измены.
Столь глубокомысленные речи от простого солдата Анния Басса советники императора не привыкли слышать. Марулл и Регин улыбались; они догадывались, в чем тут дело, – за этими рассуждениями явно стояла госпожа Дорион. Однако император слушал военного министра с удовольствием. Кто бы все эти рассуждения ни придумал, они казались ему убедительным ответом на слова Регина и возвращали ему, императору, свободу решений.
Хватит разговоров про верховного богослова и университет. Одним движением руки он зачеркнул всю эту тему и заговорил о другом.
На следующий вечер Домициан ужинал лишь в обществе Юпитера, Юноны и Минервы.[35] Манекен, облаченный в одежды Юпитера, в искусно сделанной восковой маске, изображавшей лицо этого бога, возлежал на застольном ложе, а на высоких позолоченных стульях сидели манекены в масках обеих богинь. В этом обществе и ужинал Домициан. Слуги в белых сандалиях подавали и уносили кушанья; они служили усердно и неслышно, опасаясь помешать разговору Домициана с его божественными гостями.







