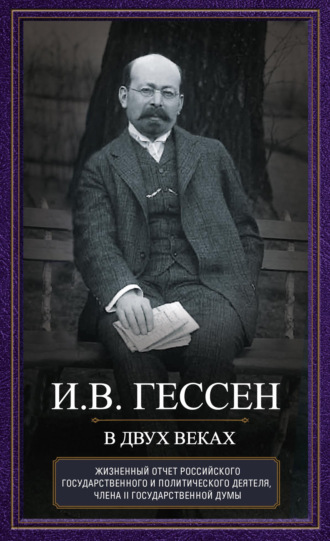
Иосиф Гессен
В двух веках. Жизненный отчет российского государственного и политического деятеля, члена Второй Государственной думы
Выкурив папиросу, дядя продолжает объезд: вот одна из тысячных отар, с громким лаем овчарки бросаются на нас, подходит пастух в лаптях, тоже с рапортом о благополучии, напоминает, что пора приняться за стрижку, мы едем к другой «косовице», где рабочие, совсем мокрые от пота, уже полдничают галушками, запивая их теплым квасом. На обратном пути задерживаемся на одном из хуторов, у крупного арендатора, высокого русого мужика Остапа, который насквозь видит ничего не понимающего в хозяйстве дядю, почтительной лестью умеет обвить его вокруг пальца и из года в год за его счет богатеет. Он угощает нас отличным хлебным квасом, упрашивает зайти в хату перекусить, но мы уже торопимся к обеду и быстрым аллюром, запыленные, проголодавшиеся, возвращаемся домой. Все домашние поджидают нас на крыльце, мне хочется показать свою удаль ловким прыжком с лошади, но, очутившись на земле, я к ужасу чувствую, что стою беспомощным раскорякой, с трудом передвигаю негнущиеся ноги и, густо краснея, слышу громкий хохот. Конечно, такой конец не трудно было предвидеть и не пускаться сразу в продолжительную прогулку…
К обеду за стол садилось человек пятнадцать–двадцать. Кроме временных гостей, всегда было много бедных родственников. Простой, но более чем сытный и жирный обед съедался с жадностью, и после него в доме водворялось сонное царство часа на два, а молодежь уходила в сад, где, разлегшись под старой грушей, мы читали вслух. Дядя получал «Вестник Европы», «Живописное обозрение» (потом «Ниву») и одесскую газету. Мы привозили с собой Некрасова и усердно скандировали «Русских женщин», «Дедушку», «Убогую и нарядную», «У парадного подъезда», которые тогда декламировались со сцены Андреевым-Бурлаком под бурные аплодисменты публики.
После пробуждения обед обильно запивался квасом, а то подавалось мороженое, и затем помещик снова отправлялся в объезд. Если мы его не сопровождали, то играли в крокет, и страстное состязание – рыцарское отношение к противнику было неведомо, и поражение воспринималось как личная обида – вырабатывало замечательных мастеров. А вечером – танцы под рояль, за который тетка охотно садилась, угощая новой кадрилью или полькой, ноты коих прилагались к «Живописному обозрению». Когда бывали гости (в округе было еще несколько евреев, мелких помещиков и арендаторов), преимущественно около 20 июня, устраивался примитивнейший любительский спектакль с обильным дивертисментом.
Так протекала наша деревенская жизнь, казавшаяся нам необычайно разнообразной и содержательной. Когда через несколько дней на нас переставали смотреть как на гостей и предоставляли самим себе, добивались права принять участие в работе: чистили на конюшне лошадей и водили их на водопой, в кузнице раздували меха, в плотницкой строгали, тщетно пробовали косить. Но помимо таких более или менее невинных занятий, я вообще не понимаю, как удалось сносить голову на плечах: сколько раз я падал с лошади, сваливался с высокого дерева, каким-то чудом увернулся на скотном дворе от разъярившегося быка и т. д. Однажды и случилось большое несчастье: троюродный брат взобрался на молотилку, барабаном захватило его ногу, он истек кровью. Но и этот тяжкий урок ничему не научил: год спустя мы на пари с дядей взялись заменить рабочих у барабана, которые должны были развязывать подаваемые с возов снопы и бросать в барабан. Проработали мы полчаса под палящим послеобеденным зноем, и два дня пролежал я с повышенной температурой. Об этом, впрочем, можно было только догадываться по самочувствию, потому что термометра не было.
Я искренне убежден, что, поскольку у меня есть положительные качества, развитием и укреплением их я прежде всего обязан этой степной деревне с ее бескрайними просторами и трогательно нежной природой. В последний раз «вновь я посетил знакомые места»[11] после долгого промежутка в конце зимы 1895 года. Поездка на «долгих» отошла уже в прошлое. С проведением Екатерининской железной дороги Мало-Софиевка оказалась в девяти верстах от одной из станций (Милорадовка). Я приехал на свидание с матерью, которой после нашего разорения и смерти отца некуда было деваться. Корбино давно было продано с молотка, а от Мало-Софиевки Остап отхватил порядочный кус. В доме, когда-то столь шумном, было уныло, и, увы, я сам был уже не тот: после четырех лет изнуряющих неудач судьба вновь повернулась ко мне лицом. Чем меньше было в этом моей заслуги, чем больше это было вроде выигрыша в лотерею, тем самодовольнее впервые я стал оглядываться на себя, и вместе с тем впервые, как ни странно, стала зарождаться неуверенность в будущем. Чем ласковей судьба улыбалась, тем меньше я ей доверял.
Во время одной из поездок в деревню – это было после успешно сданных трудных экзаменов из четвертого в пятый класс – мы на пароходе познакомились с двумя гимназистами, из которых я хорошо запомнил одного, тщедушного, со страдальческим выражением лица и ровным, тихим голосом, звучавшим с неподдельной искренностью. Поздним вечером сидели мы на палубе в ожидании отбытия и вели оживленный разговор о гимназических порядках. Оживление вносил я, со свойственной мне словоохотливостью изображая наших «монстров» и нашу молодецкую борьбу с ними. Гейман – так звали моего собеседника – слушал внимательно, серьезно, ни разу не улыбнувшись, и затем стал рассказывать, что в их гимназии не лучше, но иначе и быть не может, потому что такова система, а она, в свою очередь, является неизбежной принадлежностью всего режима. И как странно: тогда я весь был поглощен новизной услышанного от него и жадно впитывал каждое слово, ничего вокруг себя не замечая. Совершенно не помню спутника Геймана, точно он был лишь тенью его, улетучилось и живое содержание беседы, может быть, даже не точно воспроизвожу ее смысл, но твердо уверен, что с этой ночи мое миросозерцание стало по-иному формироваться, Гейман открыл передо мной потайную дверь, существование которой тщательно маскировала безраздельно довлеющая домашняя обстановка, и с тех пор я стал ее стесняться. Гимназию я уже в достаточной мере ненавидел, но взор, так сказать, был устремлен не вперед, а назад: я знал из «Очерков бурсы»[12], что бывало и много хуже… Теперь мне стало ясно, что от гимназии нужно как можно полней эмансипироваться и найти другой центр жизни и интересов, конечно, вне домашней обстановки, которая, как теперь мне стало ясно, скрывала от меня столь важную тайну.
Два деревенских месяца рассеяли эти новые впечатления, но уже на обратном пути они бодро и весело зашевелились. Манило что-то новое и неизведанное, и я вернулся домой со своим особым внутренним миром, отчуждавшим меня и от гимназии, и от домашней среды.
Ближайшие последствия перемены принесли мне, однако, мало приятного. Я вошел в один из так называемых кружков самообразования – формально нейтральных, а фактически сеявших антиправительственные устремления. Руководителем кружка был наш же гимназист восьмого класса, он читал нам «лекции по русской истории», сводившиеся к тому, что самодержавие вероломно погубило народоправство и за это платится восстаниями Стеньки Разина, Пугачева, которые раньше или позже свергнут нынешний режим. Бездарному, невежественному учебнику Иловайского, по которому нам вбивали даты и исторические анекдоты, нетрудно было противопоставить и такую упрощенную «концепцию», но меня отталкивала от общественного ментора напускная мрачность и неприкосновенная претензия на непререкаемость суждений. Если бы я был свободен, я тотчас бросил бы кружок, но я уже чувствовал себя связанным предубеждением в пользу «революционеров», которое не должно контролироваться личными симпатиями и антипатиями. Весьма метко В. Розанов, на подъеме освободительного движения, сказал, что в привилегированном моральном положении находятся не хозяева положения, а угнетенная оппозиция, которая окружена непроницаемой атмосферой общественного сочувствия и поддержки. Но уже и в те годы не один ловкач строил свою карьеру на этом парадоксе.
Во время войны мой ментор, сильно разжиревший и украсивший себя великолепной бородой, вернулся из длительной эмиграции в Петербург рьяным сотрудником суворинского «Вечернего времени», и, судя по тому, как уклонялся от разговора об Одессе, можно было понять, что он считает свое прошлое так же похороненным, как и фамилию свою, которую заменил литературным псевдонимом и которой в Петербурге, кроме меня, пожалуй, никто и не знал.
Предубеждение в пользу революционеров внушалось главным образом Добролюбовым и Писаревым, сочинения коих для членов кружка заменили Библию. Род человеческий вообще делился для членов кружка на два стана: «ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови» и, с другой стороны, «погибающих за великое дело любви». Наиболее вредно было влияние Писарева, этого разухабистого трубадура и предтечи большевистской любви «без черемухи». Сам душевно неуравновешенный, он кастрировал у человека душу и превращал его в гомункула. Личные склонности должны были отступать на задний план даже в вопросах брака. Один приятель женился на соседке по тюремной камере, которой он до женитьбы не знал, и только потому, что она умела хорошо перестукиваться. Профанированное великое дело любви как бы сменило прежнюю сваху, сводившую совершенно незнакомых людей… Простую, конкретную заповедь любви к ближнему материалисты заменили абстрактным понятием общего блага и тем самым узаконили разлад между личным и общественным поведением, достигавший уродливых форм. Вообще, я не преувеличу, если скажу, что для нас писаревщина проявлялась как подлинная тирания, которая не стеснялась размениваться и на мелочи. Всякая забота о красоте, изяществе и даже чистоте считалась изменой. Вздумалось мне как-то переменить прическу, и мрачный ментор не упустил случая съязвить двустишием из презираемого Пушкина: быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Мне, право, совестно признаться, что это был упрек, который я тогда наиболее болезненно воспринял. Тирания находила и ревнивых последователей – это были будущие ловкачи, большинство же тупо покорялось, а некоторых, а именно юношей с сильной индивидуальностью, она превращала в мучеников, ибо они душевно не могли примкнуть ни к одному, ни к другому стану, и часто жизнь их разбивалась.
Роль и значение Писарева в общественной жизни России уже достаточно выяснена, и меня больше тянет отметить странное сочетание этого воздействия с влиянием Тургенева. Тургеневу я безгранично обязан неисчерпаемыми наслаждениями величавой музыкой русского языка, равно как и незабываемыми минутами звучания золотых струн в душе и светлого парения над грешной землей. Но именно потому, что произведения Тургенева неизменно отображали мимолетный отрезок жизни, когда звучат в душе золотые струны, у нас создавалось неправильное представление о серой действительности, усугублялось преклонение перед героями и игнорирование будней, которые предъявляют человеку гораздо более обширные требования героизма в смысле жертвенности и преодоления слабостей своих. Нигде, пожалуй, не было такого класса замечательной интеллигенции, то есть людей, подчинявших свою жизнь требованиям общественного служения, но как часто герои на общественном поприще оказывались очень маленькими людьми в своей будничной обстановке. И замечательно, что ни они сами, ни их почитатели не отдавали себе в этом отчета, слепо и тупо веруя, что Юпитеру все позволено.
Конечно, тогда такие мысли на поверхность не всплывали, но неприятные сомнения уже глодали, и я думаю, что они-то и заронили зерно, из которого развился скепсис, причинявший мне потом немало мучительных минут. Уже и тогда я не мог преодолеть неуютности, овладевшей мной в кружке, и все-таки не вышел из него, а лишь трусливо перестал посещать. А так как с гимназией я морально порвал, то почувствовал еще острее свое одиночество и вот тогда-то и стал писать любящему меня наставнику сочинения, за которые он мне лепил единицы. Особенно помню «кол» за сочинение о «Евгении Онегине», которого даже и не прочитал, а хватил прямо по Писареву… Кончилось тем, что, отлично выдержав трудный экзамен из четвертого в пятый класс, я в этом классе позорно остался на второй год. Каникулы в деревне были отравлены, я чувствовал на себе косые взгляды и был даже рад, когда заболел сильной лихорадкой. Но эта первая жизненная неудача обернулась очень благоприятно: если бы я остался во 2-й гимназии, вероятно, и совсем свихнулся бы с разумного пути. А я перешел в 3-ю, там как раз появилось несколько молодых, только что выпущенных из университета преподавателей (по истории и русской словесности), которые видели свою задачу не в муштре учеников, а в обогащении и развертывании их умственного горизонта. Кроме того, я увлекся физикой и математикой, чем дальше, тем больше: тригонометрия и космография служили восхитительной гимнастикой ума и внушали самодовольное сознание его силы: из пятерок я не выходил. Но, вероятно, и тут был какой-то дефект преподавания, а может быть, моих способностей. Уже вскоре по окончании университета я бесследно забыл, что такое логарифмы и как с ними обращаются и чему учила тригонометрия…
Но важнее всего было, что умственный и моральный уровень товарищей здесь был гораздо выше (один стал видным адвокатом, другой – отличным земским врачом, третий – секретарем Троцкого), образовался самостоятельный кружок без руководителя, основана была своя библиотека, устраивались загородные прогулки. Коноводом был будущий земский врач, крупный юноша, года на четыре старше меня. Он был принципиальным противником революции, а для этого тогда требовалось немалое мужество, столь редкое в стадной обстановке гимназии. Он «уважать себя заставил» благородной безукоризненностью поведения, высокоразвитым чувством собственного достоинства, и к тому же был первым учеником, охотно приходившим каждому на помощь. Поэтому он считался как бы совестью класса и, в частности, на меня имел самое благотворное влияние.
На почве отстаивания своего достоинства и разыгралась в шестом классе небывалая в гимназических летописях история. Не помню, с чего она началась, но вижу перед собой грузного величественного директора-громовержца (и фамилия у него была звучная – Порунов), который в сопровождении инспектора и классного наставника входит во время урока в класс, чтобы торжественно объявить состоявшееся в данной четверти распределение учеников по трем разрядам. Ученики встали и подтянулись, а директор рокочущим басом начал: «Первого разряда нет! Срам!» Следует значительная пауза, чтобы обвести взглядом всех воспитанников, и продолжение: «Первый ученик – Серебряник, а по поведению у него тройка, за дерзость инспектору. В случае повторения волчий билет[13]. Второй ученик…» Должна была быть названа моя фамилия, но директору продолжать не пришлось. Совершенно спокойно, но твердо Серебряник, перебивая директора, заявил: «Я дерзостей не говорил и тройки не заслужил».
Порунов побагровел от неожиданности и крикнул: «В карцер!» – «В карцер не пойду!» – «Немедленно вон! Ступайте домой». Серебряник стал укладывать книги в ранец, а синклит шумно удалился. Во время этого молниеносного диалога инспектор стоял с каменным лицом, точно происходившее его вовсе и не касается.
Не только наш класс, но вся гимназия горячо волновалась, а невежественное начальство давало волнению все сильнее разыгрываться, прервав урок для экстренного заседания педагогического совета. Примерно через час тот же синклит вновь появился в классе, и директор сообщил постановление об увольнении Серебряника из гимназии, прибавив, что сегодня уроков больше не будет. Но прежде чем разойтись, мы порешили собраться в квартире одного из товарищей, и там вечером было постановлено поддержать Серебряника «забастовкой» (не первой ли она была в освободительном движении?), к которой обещали на другой день присоединиться седьмой и восьмой классы. Из тридцати учеников оказалось двое штрейкбрехеров, на другой день число их увеличилось до шести, еще один день мы тщетно прождали присоединения старших классов и на четвертый день явились в гимназию. Встречены мы были, словно ничего не произошло, даже предупредительно. Первым был урок физики: тщедушный преподаватель вызвал меня к доске, преувеличенно одобрял ответ и отправил на место, сказав, что заслуживаю высший балл. Я не успел дойти до своего места, как дверь распахнулась, снова вошел директор со свитой и, силясь принять как можно более зловещий вид, возгласил, что решение нашей участи последует из министерства, куда дело о бунте переслано. «А до получения ответа из Петербурга считаю необходимым оберечь вверенную мне гимназию от посещения бунтовщиков». Недели три мы наслаждались неожиданными каникулами, а когда по приглашениям вернулись в гимназию, нам было объявлено, что двое, у которых на квартире состоялись собрания, увольняются, остальные, конечно за исключением штрейкбрехеров, приговариваются к заключению в карцер на срок от 6 до 48 часов и могут возобновить посещение уроков только после отбытия очистительного наказания. А еще через месяц инспектора все же убрали, но, кажется, не больше чем через полгода он вновь водворился у нас, уже значительно изменившийся в отношении к ученикам, да и громовержец поблек: вероятно, начальство тоже получило выговор, который оно гораздо болезненнее восприняло, нежели мы карцерное заключение.
Пронесшаяся гроза значительно освежила гимназическую атмосферу и резче всего изменила мое положение: я передвинулся по успеваемости на первое место, а главное – оказался преемником Серебряника на посту коновода, что мне чрезвычайно льстило и тоже оказывало самое благотворное влияние, ибо, к счастью, я не испытал головокружения от успеха, а, напротив, впервые осознал, что положение обязывает, и всячески заботился не уронить своего авторитета. А тут мне еще очень посчастливилось: в Одессу переехала тетка, вдова с тремя сыновьями, один из которых был моим сверстником, но классом выше.
Сеня был очень некрасивым юношей, но прекрасной, добрейшей души. У него были выдающиеся умственные способности, и гимназию он окончил с золотой медалью. Мы и раньше были знакомы, встречаясь летом в деревне, но теперь очень близко сошлись, одиночество кончилось, и я начал ощущать под собой твердую почву, как будто нашел свое место в мире. К концу учебного года я стал страдать глазами, а экзамен из шестого в седьмой опять предстоял трудный, требовавший усиленной подготовки, врач решительно протестовал против этого, и, вероятно, тоже последствием пронесшейся грозы было, что меня перевели без экзамена, отпустив на каникулы месяцем раньше. Сеня давно уже болел легкими, я убедил его тоже добиться освобождения, что ему и удалось, и мы уже в мае уехали в деревню. Теперь обычные удовольствия перемежались серьезными спорами… Споры наши вращались вокруг вопроса о свободе воли, и я горячо защищал детерминизм. Когда приехали другие, мы устраивали правильные собеседования, и первый реферат, мной прочтенный, был на тему: все понять – все простить.
В Одессу мы вернулись вполне оправившимися, но моя болезнь действительно прошла, а милый Сеня, который благосклонной судьбой послан был мне в критическую минуту жизни, по окончании гимназии переехал в Харьков на медицинский факультет, на втором курсе был арестован, увезен в уездную сырую тюрьму и там умер от разыгравшегося туберкулеза.
Седьмой класс принес новое беспокойство отцу: устроен был оперный спектакль в пользу недостаточных учеников нашей гимназии, и мне впервые пришлось слушать оперу. Это были «Гугеноты». В Одессе всегда была итальянская труппа, в которой выступали первоклассные певцы, и меня охватило сильное увлечение. А тут, как нарочно, приехала на гастроли труппа петербургского театра, и я не только зачастил в театр, но, полный чудесных мелодий, непрерывно звучавших в ушах, ни о чем другом говорить не мог. Это было совсем как опьянение. Мы с братом все деньги наши тратили на покупку нот и заставляли сестру проигрывать их на рояле. Беспокойство отца на этот раз было неосновательно, потому что положение в гимназии стало очень прочным. В связи с уходом Толстого[14] в отставку и «диктатурой сердца» графа Лорис-Меликова весенний ветер проник и в гимназические твердыни. Начальство заметно смирилось, и больше всех, пожалуй, вернувшийся инспектор, который ко мне просто ластился. Однажды в коридоре он крепко обнял меня и стал предрекать блестящую будущность, а четверть века спустя я неожиданно столкнулся с ним на прогулке в Сестрорецке… Это было время Второй Государственной думы, так сказать, апогей моей славы, и он опять обнял меня, сказав, что гордится своим предвидением.
Но именно сознание прочности своего положения делало пребывание в гимназии все более тягостным, и живо вспоминаю душевное томление, овладевшее мною в восьмом классе: получение аттестата зрелости не вызывало никаких сомнений, и посещение гимназии ощущалось как бессмысленная, тяжелая повинность. Опасность подстерегала с другой стороны: активного участия в революционном движении я не принимал, но у меня завязывались связи с народовольцами, квартирой моей пользовались как явкой, приходилось хранить подпольные издания, и отец чуял это и волновался. Сеня был уже в Харькове, и собирались мы у двоюродного брата, маленького, невзрачного человека с козлиной бородкой. Он был студентом, жил в комнате отдельно от родительской семьи и вместо или поверх пальто носил плед. При постановке «Чайки» к Чехову обратился актер с просьбой разъяснить характер действующего лица, роль коего он должен был играть, а Чехов на это ответил: «Да он же носит клетчатые штаны». Так еще в большей степени ношение пледа было как бы «послужным списком», символизировало передовой образ мысли и бережное хранение государственной тайны.
Собирались мы еще у очень красивой, пышной и богатой молодой женщины Клебановой, гражданской жены видного народовольца Герасима Романенко, перешедшего уже на нелегальное положение. Клебанова была еврейкой, но и это не помешало ему, после первой революции, стать еще более видным членом Союза русского народа[15] и активным погромщиком в Кишиневе. Но тогда Клебанова ревниво афишировала, что она именно гражданская жена, а не законная, что девочка ее незаконнорожденная. В этом она усматривала какую-то заслугу свою, вероятно, потому, что в своей семье, принадлежавшей к религиозному минскому еврейству, ей пришлось выдержать жестокую борьбу. Клебанова высоко ценила красоту свою и мое почтение к ней истолковывала по-своему: кузина моя, по ее просьбе, предостерегала меня от «безнадежного увлечения». Напрасно! Я тогда действительно был неравнодушен ко всякой красивой женщине, а благодаря близорукости и жизнерадостности почти все казались мне привлекательными, но потому-то влюбиться мне было трудно. А в отношении «гражданской жены» мне, право же, и в голову не приходило, что я, «революционный щенок», могу соперничать в сердце ее с маститым нелегальным.
Собирались мы для совместного чтения и обсуждения прочитанного. Это было время максимального безраздельного влияния «Отечественных записок», а молодежь просто бредила Михайловским[16], Щедриным, Успенским, Гаршиным и т. д. Мне больше всего импонировал Щедрин, потому что насмешка, ирония казались самым убийственным оружием… Щедрин оказал большое влияние на мои литературные вкусы, он был несравненным ментором эзоповского языка, на котором русской прессе долго приходилось изъясняться, но было несомненно и весьма вредное влияние в преувеличенном тяготении к красному словцу, которое не щадило ничего святого.
Что же касается Михайловского, то недавно мне попался том его «полного собрания сочинений», и я не только не смог вызвать ощущения былых чувств восхищения и воспламенения, но просто не верилось, что молодежь могла видеть властителя дум в авторе односторонне унылой публицистики. Особое место занимали в «Отечественных записках» статьи В. В. (Василия Воронцова), изданные потом отдельной книгой под заглавием «Судьбы капитализма в России» и составлявшие теоретический фундамент народничества. Автор доказывал, что в силу ряда условий Россия не должна и не может в своем хозяйственном развитии пройти через стадию капитализма, она изыщет поэтому самобытные пути. В то время русские марксисты только начали оперяться, и статьи В. В. имели огромное влияние на молодежь. Воображение рисовало его мне молодым, задорным, смелым бойцом, пионером, дерзкой рукой прокладывающим «самобытные пути», и я был горько разочарован, когда, познакомившись с ним уже в начале нынешнего столетия, увидел скромного, молчаливого, бесцветного человека с невыразительным, плоским лицом. Казалось, что он сам находится под гнетом наступившего уже краха его прельстительной конструкции.
Наши совместные чтения внезапно были оборваны арестом двоюродного брата: по просьбе одного народовольца он передал взятый для себя заграничный паспорт нелегальному, а получив известие о его благополучном переезде через границу, заявил о потере паспорта. Эта примитивная проделка легко была раскрыта жандармами, его несколько месяцев продержали в тюрьме, а потом сослали в Дерпт, где он быстро излечился от своих увлечений и уже неуклонно следовал фамильному завету: моя хата с краю. Известие об аресте кузена разразилось в нашем доме как удар грома, и отец настойчиво, но мягко, с влажными глазами, упрашивал меня, по крайней мере, гимназию окончить. Быть может, в душе отцы тогда начали сознавать, что другого пути для детей нет.
С приближением окончательного экзамена началась лихорадочная зубрежка. Формально грозой считались устные экзамены, но, в сущности, они были делом домашним: волей-неволей учителя должны были проявлять большую снисходительность, ибо оставление заметного числа учеников в восьмом классе выдавало скверный аттестат и учительским способностям. Другое дело – письменные испытания по русскому, латинскому, греческому языкам и математике. Порядок установлен был такой, что во все гимназии рассылались из канцелярии попечителя учебного округа одни и те же темы и задачи. В день экзамена на глазах учеников директор торжественно встречал запечатанный пятью печатями пакет и возвещал трепещущим ученикам тему. Но большей частью трепет был напускной: то, что было секретом для директора, ученикам заблаговременно раскрывала канцелярия попечителя в обмен на содержимое тощих гимназических кошельков, в сумме дававших солидную цифру – помнится, нормальной платой было 10 000 рублей. Представители от каждой гимназии сходились, долго торговались при раскладке этой суммы на отдельные гимназии, после чего следовала внутренняя раскладка. Покупка тем совершалась (по крайней мере в одесском округе) регулярно из года в год и ни разу не была разоблачена, хотя ежегодно число участников тайны доходило до нескольких тысяч… По-настоящему волновался в классе я один, как ответственный за покупку, которая совершалась вслепую и не исключала возможности обмана. Камень отваливался от сердца, когда ухо улавливало наконец из уст директора давно знакомые темы и задачи.
У нас самым слабым местом был греческий язык. Узнав тему, лучшие ученики собрались, перевели ее с помощью словарей и грамматики и раздали товарищам, причем во избежание подозрений в копиях для слабейших оставляли нарочитые ошибки. Но предусмотрительность оказалась излишней, и лучший ученик получил за тщательно подготовленную работу тройку, которая и лишила меня медали. Что же было бы, если бы нам пришлось писать, не зная заранее темы? Так, последним обманом достойно завершились девять лет гимназической учебы.
Картонный лист, который за подписью всего состава педагогического совета удостоверял мою зрелость, совсем не вызвал радости, как я себе представлял, и в этом была собственная вина. Чтобы преодолевать невыносимое душевное томление последних весенних месяцев, я давал волю и еще нарочно раздражал свое воображение – это опаснейшее человеческое свойство, которое впоследствии отравило мне несколько лет жизни. Оно услужливо и все ярче разрисовывало картину ожидаемого счастья прощания с гимназией, но затянувшееся предвкушение, к которому присоединялась усталость от зубрежки и волнений, связанных с покупкой экзаменационных тем, притупило восприятие действительности, и я тщетно старался преодолеть вялость и усталость.
Родители были, по-видимому, уязвлены отсутствием медали, и «счастливейший день моей жизни» оказался совсем сереньким, будничным. Переход на новый жизненный этап совершился как-то незаметно (так случалось неоднократно и впоследствии) и был лишь отмечен получением старинных золотых часов отца, шелкового кремового зонтика (как курьезно это теперь звучит – для защиты от солнца) и модной тросточки с набалдашником вроде молотка.






