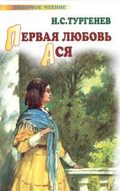Иван Тургенев
Муму. Записки охотника (сборник)
– Барин, а барин! – промолвил вдруг Касьян своим звучным голосом.
Я с удивлением приподнялся; до сих пор он едва отвечал на мои вопросы, а то вдруг сам заговорил.
– Что тебе? – спросил я.
– Ну, для чего ты пташку убил? – начал он, глядя мне прямо в лицо.
– Как для чего?.. Коростель – это дичь: его есть можно.
– Не для того ты убил его, барин: станешь ты его есть! Ты его для потехи своей убил.
– Да ведь ты сам небось гусей или куриц, например, ешь?
– Та птица Богом определённая для человека, а коростель – птица вольная, лесная. И не он один: много её, всякой лесной твари, и полевой и речной твари, и болотной и луговой, и верховой и низовой – и грех её убивать, и пускай она живёт на земле до своего предела… А человеку пища положена другая; пища ему другая и другое питьё: хлеб – Божья благодать, да воды небесные, да тварь ручная от древних отцов.
Я с удивлением поглядел на Касьяна. Слова его лились свободно; он не искал их, он говорил с тихим одушевлением и кроткою важностию, изредка закрывая глаза.
– Так и рыбу, по-твоему, грешно убивать? – спросил я.
– У рыбы кровь холодная, – возразил он с уверенностию, – рыба – тварь немая. Она не боится, не веселится; рыба тварь бессловесная. Рыба не чувствует, в ней и кровь не живая… Кровь, – продолжал он, помолчав, – святое дело кровь! Кровь солнышка Божия не видит, кровь от свету прячется… великий грех показать свету кровь, великий грех и страх… Ох, великий!
Он вздохнул и потупился. Я, признаюсь, с совершенным изумлением посмотрел на странного старика. Его речь звучала не мужичьей речью: так не говорят простолюдины, и краснобаи так не говорят. Этот язык, обдуманно-торжественный и странный… Я не слыхал ничего подобного.
– Скажи, пожалуйста, Касьян, – начал я, не спуская глаз с его слегка раскрасневшегося лица, – чем ты промышляешь?
Он не тотчас ответил на мой вопрос. Его взгляд беспокойно забегал на мгновение.
– Живу, как Господь велит, – промолвил он наконец, – а чтобы, то есть, промышлять – нет, ничем не промышляю. Неразумен я больно, с мальства; работаю пока мочно, работник-то я плохой… где мне! Здоровья нет, и руки глупы. Ну, весной соловьёв ловлю.
– Соловьёв ловишь?.. А как же ты говорил, что всякую лесную, и полевую, и прочую там тварь не надо трогать?
– Убивать её не надо, точно; смерть и так своё возьмёт. Вот хоть бы Мартын-плотник: жил Мартын-плотник, и недолго жил и помер; жена его теперь убивается о муже, о детках малых… Против смерти ни человеку, ни твари не слукавить. Смерть и не бежит, да и от неё не убежишь; да помогать ей не должно… А я соловушек не убиваю, – сохрани господи! Я их не на муку ловлю, не на погибель их живота, а для удовольствия человеческого, на утешение и веселье.
– Ты в Курск их ловить ходишь?
– Хожу я и в Курск и подале хожу, как случится. В болотах ночую да в залесьях, в поле ночую один, во глуши: тут кулички рассвистятся, тут зайцы кричат, тут селезни стрекочут… По вечеркам замечаю, по утренничкам выслушиваю, по зарям обсыпаю сеткой кусты… Иной соловушко так жалостно поёт, сладко… жалостно даже.
– И продаёшь ты их?
– Отдаю добрым людям.
– А что ж ты ещё делаешь?
– Как делаю?
– Чем ты занят?
Старик помолчал.
– Ничем я этак не занят… работник я плохой. Грамоте, однако, разумею.
– Ты грамотный?
– Разумею грамоте. Помог Господь да добрые люди.
– Что, ты семейный человек?
– Нетути, бессемейный.
– Что так?.. Перемёрли, что ли?
– Нет, а так: задачи в жизни не вышло. Да это всё под Богом, все мы под Богом ходим; а справедлив должен быть человек – вот что! Богу угоден, то есть.
– И родни у тебя нет?
– Есть… да… так…
Старик замялся.
– Скажи, пожалуйста, – начал я, – мне послышалось, мой кучер у тебя спрашивал, что, дескать, отчего ты не вылечил Мартына? Разве ты умеешь лечить?
– Кучер твой справедливый человек, – задумчиво отвечал мне Касьян, – а тоже не без греха. Лекаркой меня называют… Какая я лекарка!.. И кто может лечить? Это всё от Бога. А есть… есть травы, цветы есть: помогают, точно. Вот хоть череда, например, трава добрая для человека; вот подорожник тоже; об них и говорить не зазорно: чистые травки – Божии. Ну, а другие не так: и помогают-то они, а грех; и говорить о них грех. Ещё с молитвой разве… Ну, конечно, есть и слова такие… А кто верует – спасётся, – прибавил он, понизив голос.
– Ты ничего Мартыну не давал? – спросил я.
– Поздно узнал, – отвечал старик. – Да что! Кому как на роду написано. Не жилец был плотник Мартын, не жилец на земле: уж это так. Нет, уж какому человеку не жить на земле, того и солнышко не греет, как другого, и хлебушек тому не впрок, – словно что его отзывает… Да; упокой Господь его душу!
– Давно вас переселили к нам? – спросил я после небольшого молчания.
Касьян встрепенулся.
– Нет, недавно: года четыре. При старом барине мы всё жили на своих прежних местах, а вот опека переселила. Старый барин у нас был кроткая душа, смиренник, царство ему небесное! Ну, опека, конечно, справедливо рассудила; видно, уж так пришлось.
– А вы где прежде жили?
– Мы с Красивой Мечи.
– Далеко это отсюда?
– Вёрст сто.
– Что ж, там лучше было?
– Лучше… лучше. Там места привольные, речные, гнездо наше; а здесь теснота, сухмень… Здесь мы осиротели. Там у нас, на Красивой-то на Мечи, взойдёшь ты на холм, взойдёшь – и, Господи Боже мой, что это? а?.. И река-то, и луга, и лес; а там церковь, а там опять пошли луга. Далече видно, далече. Вот как далеко видно… Смотришь, смотришь, ах ты, право! Ну, здесь точно земля лучше: суглинок, хороший суглинок, говорят крестьяне; да с меня хлебушка-то всюду вдоволь народится.
– А что, старик, скажи правду, тебе, чай, хочется на родине-то побывать?
– Да, посмотрел бы. А впрочем, везде хорошо. Человек я бессемейный, непосед. Да и что! Много, что ли, дома-то высидишь? А вот как пойдёшь, как пойдёшь, – подхватил он, возвысив голос, – и полегчит, право. И солнышко на тебя светит, и Богу-то ты видней, и поётся-то ладнее. Тут, смотришь, трава какая растёт; ну, заметишь – сорвёшь. Вода тут бежит, например, ключевая, родник, святая вода; ну, напьёшься – заметишь тоже. Птицы поют небесные… А то за Курском пойдут степи, этакие степные места, вот удивление, вот удовольствие человеку, вот раздолье-то, вот Божия-то благодать! И идут они, люди сказывают, до самых тёплых морей, где живёт птица Гамаюн сладкогласная, и с дерев лист ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки растут золотые на серебряных ветках, и живёт всяк человек в довольстве и справедливости… И вот уж я бы туда пошёл… Ведь я мало ли куда ходил! И в Ромён ходил, и в Синбирск – славный град, и в самую Москву – золотые маковки; ходил на Оку-кормилицу, и на Цну-голубку, и на Волгу-матушку, и много людей видал, добрых хрестьян, и в городах побывал честных… Ну, вот пошёл бы я туда… и вот… и уж и… И не один я, грешный… много других хрестьян в лаптях ходят, по миру бродят, правды ищут… да!.. А то что дома-то, а? Справедливости в человеке нет, вот оно что…
Эти последние слова Касьян произнёс скороговоркой, почти невнятно; потом он ещё что-то сказал, чего я даже расслышать не мог, а лицо его такое странное приняло выражение, что мне невольно вспомнилось название «юродивца», данное ему Ерофеем. Он потупился, откашлянулся и как будто пришёл в себя.
– Эко солнышко! – промолвил он вполголоса, – эка благодать, Господи! Эка теплынь в лесу!
Он повёл плечами, помолчал, рассеянно глянул и запел потихоньку. Я не мог уловить всех слов его протяжной песенки; следующие послышались мне:
А зовут меня Касьяном,
А по прозвищу Блоха…
«Э! – подумал я, – да он сочиняет…» Вдруг он вздрогнул и умолк, пристально всматриваясь в чащу леса. Я обернулся и увидел маленькую крестьянскую девочку, лет восьми, в синем сарафанчике, с клетчатым платком на голове и плетёным кузовком на загорелой голенькой руке. Она, вероятно, никак не ожидала нас встретить, как говорится, наткнулась на нас, и стояла неподвижно в зелёной чаще орешника, на тенистой лужайке, пугливо посматривая на меня своими чёрными глазами. Я едва успел разглядеть её: она тотчас нырнула за дерево.
– Аннушка! Аннушка! Подь сюда, не бойся, – кликнул старик ласково.
– Боюсь, – раздался тонкий голосок.
– Не бойся, не бойся, поди ко мне.
Аннушка молча покинула свою засаду, тихо обошла кругом, – её детские ножки едва шумели по густой траве, – и вышла из чащи подле самого старика. Это была девушка не восьми лет, как мне показалось сначала по небольшому её росту, но тринадцати или четырнадцати. Всё её тело было мало и худо, но очень стройно и ловко, а красивое личико поразительно сходно с лицом самого Касьяна, хотя Касьян красавцем не был. Те же острые черты, тот же странный взгляд, лукавый и доверчивый, задумчивый и проницательный, и движенья те же… Касьян окинул её глазами; она стояла к нему боком.
– Что, грибы собирала? – опросил он.
– Да, грибы, – отвечала она с робкой улыбкой.
– Много нашла?
– Много. (Она быстро глянула на него и опять улыбнулась.)
– И белые есть?
– Есть и белые.
– Покажь-ка, покажь… (Она спустила кузов с руки и приподняла до половины широкий лист лопуха, которым грибы были покрыты.) Э! – сказал Касьян, нагнувшись над кузовом, – да какие славные! Ай да Аннушка!
– Это твоя дочка, Касьян, что ли? – спросил я. (Лицо Аннушки слабо вспыхнуло.)
– Нет, так, сродственница, – проговорил Касьян с притворной небрежностью. – Ну, Аннушка, ступай, – прибавил он тотчас, – ступай с Богом. Да смотри…
– Да зачем же ей пешком идти! – прервал я его. – Мы бы её довезли…
Аннушка загорелась, как маков цвет, ухватилась обеими руками за верёвочку кузовка и тревожно поглядела на старика.
– Нет, дойдёт, – возразил он тем же равнодушно-ленивым голосом. – Что ей… Дойдёт и так… Ступай.
Аннушка проворно ушла в лес. Касьян поглядел за нею вслед, потом потупился и усмехнулся. В этой долгой усмешке, в немногих словах, сказанных им Аннушке, в самом звуке его голоса, когда он говорил с ней, была неизъяснимая, страстная любовь и нежность. Он опять поглядел в сторону, куда она пошла, опять улыбнулся и, потирая себе лицо, несколько раз покачал головой.
– Зачем ты её так скоро отослал? – спросил я его. – Я бы у неё грибы купил…
– Да вы там всё равно дома купите, когда захотите, – отвечал он мне, в первый раз употребляя слово «вы».
– А она у тебя прехорошенькая.
– Нет… какое… так… – ответил он как бы нехотя и с того же мгновенья впал в прежнюю молчаливость.
Видя, что все мои усилия заставить его опять разговориться оставались тщетными, я отправился на ссечки. Притом же и жара немного спала; но неудача, или, как говорят у нас, незадача моя, продолжалась, и я с одним коростелём и с новой осью вернулся в выселки. Уже подъезжая ко двору, Касьян вдруг обернулся ко мне.
– Барин, а барин, – заговорил он, – ведь я виноват перед тобой; ведь это я тебе дичь-то всю отвёл.
– Как так?
– Да уж это я знаю. А вот и учёный пёс у тебя и хороший, а ничего не смог. Подумаешь, люди-то, люди, а? Вот и зверь, а что из него сделали?
Я бы напрасно стал убеждать Касьяна в невозможности «заговорить» дичь и потому ничего не отвечал ему. Притом же мы тотчас повернули в ворота.
В избе Аннушки не было; она уже успела прийти и оставить кузов с грибами. Ерофей приладил новую ось, подвергнув её сперва строгой и несправедливой оценке; а через час я выехал, оставив Касьяну немного денег, которые он сперва было не принял, но потом, подумав и подержав их на ладони, положил за пазуху. В течение этого часа он не произнёс почти ни одного слова; он по-прежнему стоял, прислонясь к воротам, не отвечал на укоризны моего кучера и весьма холодно простился со мной.
Я, как только вернулся, успел заметить, что Ерофей мой снова находился в сумрачном расположении духа… И в самом деле, ничего съестного он в деревне не нашёл, водопой для лошадей был плохой. Мы выехали. С неудовольствием, выражавшимся даже на его затылке, сидел он на козлах и страх желал заговорить со мной, но в ожидании первого моего вопроса ограничивался лёгким ворчанием вполголоса и поучительными, а иногда язвительными речами, обращёнными к лошадям. «Деревня! – бормотал он, – а ещё деревня! Спросил хошь квасу – и квасу нет… Ах ты, господи! А вода – просто тьфу! (Он плюнул вслух.) Ни огурцов, ни квасу – ничего. Ну ты, – прибавил он громко, обращаясь к правой пристяжной, – я тебя знаю, потворница этакая! Любишь себе потворствовать небось… (И он ударил её кнутом.) Совсем отлукавилась лошадь, а ведь какой прежде согласный был живот… Ну-ну, оглядывайся!..»
– Скажи, пожалуйста, Ерофей, – заговорил я, – что за человек этот Касьян?
Ерофей нескоро мне отвечал: он вообще человек был обдумывающий и неторопливый; но я тотчас мог догадаться, что мой вопрос его развеселил и успокоил.
– Блоха-то? – заговорил он наконец, передёрнув вожжами. – Чудной человек: как есть юродивец, такого чудного человека и нескоро найдёшь другого. Ведь, например, ведь он ни дать ни взять наш вот саврасый: от рук отбился тоже… от работы, то есть. Ну, конечно, что он за работник, – в чём душа держится, – ну, а всё-таки… Ведь он сызмальства так. Сперва он со дядьями со своими в извоз ходил, – они у него были троечные, – ну, а потом, знать, наскучило – бросил. Стал дома жить, да и дома-то не усиживался, такой беспокойный, – уж точно блоха. Барин ему попался, спасибо, добрый – не принуждал. Вот он так с тех пор всё и болтается, что овца беспредельная. И ведь такой удивительный, бог его знает: то молчит, как пень, то вдруг заговорит – а что заговорит, бог его знает. Разве это манер? Это не манер. Несообразный человек, как есть. Поёт, однако, хорошо. Этак важно – ничего, ничего.
– А что, он лечит, точно?
– Какое лечит!.. Ну, где ему! Таковский он человек. Меня, однако, от золотухи вылечил… Где ему! глупый человек, как есть, – прибавил он, помолчав.
– Ты его давно знаешь?
– Давно. Мы им по Сычовке соседи, на Красивой-то на Мечи.
– А что эта, нам в лесу попалась девушка, Аннушка, что, она ему родня?
Ерофей посмотрел на меня через плечо и осклабился во весь рот.
– Хе!.. Да, сродни. Она сирота: матери у ней нету, да и неизвестно, кто её мать-то была. Ну, а должно быть, что сродственница: больно на него смахивает… Ну, живёт у него. Вострая девка, неча сказать; хорошая девка, и он, старый, в ней души не чает: девка хорошая. Да ведь он, вы вот не поверите, а ведь он, пожалуй, Аннушку-то свою грамоте учить вздумает. Ей-ей, от него это станется: уж такой он человек неабнакавенный. Непостоянный такой, несоразмерный даже… Э-э-э! – вдруг перервал самого себя мой кучер и, остановив лошадей, нагнулся набок и принялся нюхать воздух. – Никак гарью пахнет? Так и есть! Уж эти мне новые оси… А, кажется, на что мазал… Пойти водицы добыть: вот, кстати, и прудик.
И Ерофей медлительно слез с облучка, отвязал ведёрку, пошёл к пруду и, вернувшись, не без удовольствия слушал, как шипела втулка колеса, внезапно охваченная водою… Раз шесть приходилось ему на каких-нибудь десяти верстах обливать разгорячённую ось, и уже совсем завечерело, когда мы возвратились домой.
1851
Бурмистр
Верстах в пятнадцати от моего имения живёт один мне знакомый человек, молодой помещик, гвардейский офицер в отставке, Аркадий Павлыч Пеночкин. Дичи у него в поместье водится много, дом построен по плану французского архитектора, люди одеты по-английски, обеды задаёт он отличные, принимает гостей ласково, а всё-таки неохотно к нему едешь. Он человек рассудительный и положительный, воспитанье получил, как водится, отличное, служил, в высшем обществе потёрся, а теперь хозяйством занимается с большим успехом. Аркадий Павлыч, говоря собственными его словами, строг, но справедлив, о благе подданных своих печётся и наказывает их – для их же блага. «С ними надобно обращаться как с детьми, – говорит он в таком случае, – невежество, mon cher; il faut prendre cela en considération»[17]. Сам же в случае так называемой печальной необходимости, резких и порывистых движений избегает и голоса возвышать не любит, но более тычет рукою прямо, спокойно приговаривая: «Ведь я тебя просил, любезный мой», или: «Что с тобою, друг мой, опомнись», – причём только слегка стискивает зубы и кривит рот. Роста он небольшого, сложён щеголевато, собою весьма недурён, руки и ногти в большой опрятности содержит; с его румяных губ и щёк так и пышет здоровьем. Смеётся он звучно и беззаботно, приветливо щурит светлые, карие глаза. Одевается он отлично и со вкусом; выписывает французские книги, рисунки и газеты, но до чтения небольшой охотник: «Вечного жида» едва осилил. В карты играет мастерски. Вообще Аркадий Павлыч считается одним из образованнейших дворян и завиднейших женихов нашей губернии; дамы от него без ума и в особенности хвалят его манеры. Он удивительно хорошо себя держит, осторожен, как кошка, и ни в какую историю замешан отроду не бывал, хотя при случае дать себя знать и робкого человека озадачить и срезать любит. Дурным обществом решительно брезгает – скомпрометироваться боится; зато в весёлый час объявляет себя поклонником Эпикура, хотя вообще о философии отзывается дурно, называя её туманной пищей германских умов, а иногда и просто чепухой. Музыку он тоже любит; за картами поёт сквозь зубы, но с чувством; из Лючии и Сомнамбулы тоже помнит, но что-то всё высоко забирает. По зимам он ездит в Петербург. Дом у него в порядке необыкновенном; даже кучера подчинились его влиянию и каждый день не только вытирают хомуты и армяки чистят, но и самим себе лицо моют. Дворовые люди Аркадия Павлыча посматривают, правда, что-то исподлобья, но у нас на Руси угрюмого от заспанного не отличишь. Аркадий Павлыч говорит голосом мягким и приятным, с расстановкой и как бы с удовольствием пропуская каждое слово сквозь свои прекрасные, раздушенные усы; также употребляет много французских выражений, как-то: «Mais c’est impayable!»[18], «Mais comment donc!»[19] и пр. Со всем тем я по крайней мере не слишком охотно его посещаю, и если бы не тетерева и не куропатки, вероятно, совершенно бы с ним раззнакомился. Странное какое-то беспокойство овладевает вами в его доме; даже комфорт вас не радует, и всякий раз вечером, когда появится перед вами завитый камердинер в голубой ливрее с гербовыми пуговицами и начнёт подобострастно стягивать с вас сапоги, вы чувствуете, что если бы вместо его бледной и сухопарой фигуры внезапно предстали перед вами изумительно широкие скулы и невероятно тупой нос молодого дюжего парня, только что взятого барином от сохи, но уже успевшего в десяти местах распороть по швам недавно пожалованный нанковый кафтан, – вы бы обрадовались несказанно и охотно бы подверглись опасности лишиться вместе с сапогом и собственной вашей ноги вплоть до самого вертлюга…
Несмотря на моё нерасположение к Аркадию Павлычу, пришлось мне однажды провести у него ночь. На другой день я рано поутру велел заложить свою коляску, но он не хотел меня отпустить без завтрака на английский манер и повёл к себе в кабинет. Вместе с чаем подали нам котлеты, яйца всмятку, масло, мёд, сыр и пр. Два камердинера в чистых белых перчатках быстро и молча предупреждали наши малейшие желания. Мы сидели на персидском диване. На Аркадии Павлыче были широкие шёлковые шаровары, чёрная бархатная куртка, красивый фес с синей кистью и китайские жёлтые туфли без задков. Он пил чай, смеялся, рассматривал свои ногти, курил, подкладывал себе подушки под бок и вообще чувствовал себя в отличном расположении духа. Позавтракавши плотно и с видимым удовольствием, Аркадий Павлыч налил себе рюмку красного вина, поднёс её к губам и вдруг нахмурился.
– Отчего вино не нагрето? – спросил он довольно резким голосом одного из камердинеров.
Камердинер смешался, остановился как вкопанный и побледнел.
– Ведь я тебя спрашиваю, любезный мой? – спокойно продолжал Аркадий Павлыч, не спуская с него глаз.
Несчастный камердинер помялся на месте, покрутил салфеткой и не сказал ни слова. Аркадий Павлыч потупил голову и задумчиво посмотрел на него исподлобья.
– Pardon, mon cher, – промолвил он с приятной улыбкой, дружески коснувшись рукой до моего колена, и снова уставился на камердинера. – Ну, ступай, – прибавил он после небольшого молчания, поднял брови и позвонил.
Вошёл человек, толстый, смуглый, черноволосый, с низким лбом и совершенно заплывшими глазами.
– Насчёт Фёдора… распорядиться, – проговорил Аркадий Павлыч вполголоса и с совершенным самообладанием.
– Слушаю-с, – отвечал толстый и вышел.
– Voilà, mon cher, les désagréments de la campagne[20], – весело заметил Аркадий Павлыч. – Да куда же вы? Останьтесь, посидите ещё немного.
– Нет, – отвечал я, – мне пора.
– Всё на охоту! Ох, уж эти мне охотники! Да вы куда теперь едете?
– За сорок вёрст отсюда, в Рябово.
– В Рябово? Ах, боже мой, да в таком случае я с вами поеду. Рябово всего в пяти верстах от моей Шипиловки, а я таки давно в Шипиловке не бывал: всё времени улучить не мог. Вот как кстати пришлось: вы сегодня в Рябове поохотитесь, а вечером ко мне. Се sera charmant[21]. Мы вместе поужинаем, – мы возьмём с собою повара, – вы у меня переночуете. Прекрасно! прекрасно! – прибавил он, не дождавшись моего ответа. – C’est arrangé…[22] Эй, кто там? Коляску нам велите заложить, да поскорей. Вы в Шипиловке не бывали? Я бы посовестился предложить вам провести ночь в избе моего бурмистра, да вы, я знаю, неприхотливы и в Рябове в сенном бы сарае ночевали… Едем, едем!
И Аркадий Павлыч запел какой-то французский романс.
– Ведь вы, может быть, не знаете, – продолжал он, покачиваясь на обеих ногах, – у меня там мужики на оброке. Конституция – что будешь делать? Однако оброк мне платят исправно. Я бы их, признаться, давно на барщину ссадил, да земли мало! Я и так удивляюсь, как они концы с концами сводят. Впрочем, c’est leur affaire[23]. Бурмистр у меня там молодец, une forte tête[24], государственный человек! Вы увидите… Как, право, это хорошо пришлось!
Делать было нечего. Вместо девяти часов утра мы выехали в два. Охотники поймут моё нетерпенье. Аркадий Павлыч любил, как он выражался, при случае побаловать себя и забрал с собою такую бездну белья, припасов, платья, духов, подушек и разных несессеров, что иному бережливому и владеющему собою немцу хватило бы всей этой благодати на год. При каждом спуске с горы Аркадий Павлыч держал краткую, но сильную речь кучеру, из чего я мог заключить, что мой знакомец порядочный трус. Впрочем, путешествие совершилось весьма благополучно; только на одном недавно починенном мостике телега с поваром завалилась, и задним колесом ему придавило желудок.
Аркадий Павлыч, при виде падения доморощенного Карема испугался не на шутку и тотчас велел спросить: целы ли у него руки? Получив же ответ утвердительный, немедленно успокоился. Со всем тем ехали мы довольно долго; я сидел в одной коляске с Аркадием Павлычем и под конец путешествия почувствовал тоску смертельную, тем более что в течение нескольких часов мой знакомец совершенно выдохся и начинал уже либеральничать. Наконец мы приехали, только не в Рябово, а прямо в Шипиловку – как-то оно так вышло. В тот день я и без того уже поохотиться не мог и потому скрепя сердце покорился своей участи.
Повар приехал несколькими минутами ранее нас и, по-видимому, уже успел распорядиться и предупредить кого следовало, потому что при самом въезде в околицу встретил нас староста (сын бурмистра), дюжий и рыжий мужик в косую сажень ростом, верхом и без шапки, в новом армяке нараспашку. «А где же Софрон?» – спросил его Аркадий Павлыч. Староста сперва проворно соскочил с лошади, поклонился барину в пояс, промолвил: «Здравствуйте, батюшка Аркадий Павлыч», потом приподнял голову, встряхнулся и доложил, что Софрон отправился в Перов, но что за ним уже послали. «Ну, ступай за нами», – сказал Аркадий Павлыч. Староста отвёл из приличия лошадь в сторону, взвалился на неё и пустился рысцой за коляской, держа шапку в руке. Мы поехали по деревне. Несколько мужиков в пустых телегах попались нам навстречу; они ехали с гумна и пели песни, подпрыгивая всем телом и болтая ногами на воздухе; но при виде нашей коляски и старосты внезапно умолкли, сняли свои зимние шапки (дело было летом) и приподнялись, как бы ожидая приказаний. Аркадий Павлыч милостиво им поклонился. Тревожное волнение, видимо, распространялось по селу. Бабы в клетчатых панёвах швыряли щепками в недогадливых или слишком усердных собак; хромой старик с бородой, начинавшейся под самыми глазами, оторвал недопоенную лошадь от колодезя, ударил её неизвестно за что по боку, а там уже поклонился. Мальчишки в длинных рубашонках с воплем бежали в избы, ложились брюхом на высокий порог, свешивали головы, закидывали ноги кверху и таким образом весьма проворно перекатывались за дверь, в тёмные сени, откуда уже и не показывались. Даже курицы стремились ускоренной рысью в подворотню; один бойкий петух с чёрной грудью, похожей на атласный жилет, и красным хвостом, закрученным на самый гребень, остался было на дороге и уже совсем собрался кричать, да вдруг сконфузился и тоже побежал. Изба бурмистра стояла в стороне от других, посреди густого зелёного конопляника. Мы остановились перед воротами. Г-н Пеночкин встал, живописно сбросил с себя плащ и вышел из коляски, приветливо озираясь кругом. Бурмистрова жена встретила нас с низкими поклонами и подошла к барской ручке. Аркадий Павлыч дал ей нацеловаться вволю и взошёл на крыльцо. В сенях, в тёмном углу, стояла старостиха и тоже поклонилась, но к руке подойти не дерзнула. В так называемой холодной избе – из сеней направо – уже возились две другие бабы; они выносили оттуда всякую дрянь, пустые жбаны, одеревенелые тулупы, масленые горшки, люльку с кучей тряпок и пёстрым ребёнком, подметали банными вениками сор. Аркадий Павлыч выслал их вон и поместился на лавке под образами. Кучера начали вносить сундуки, ларцы и прочие удобства, всячески стараясь умерить стук своих тяжёлых сапогов.
Между тем Аркадий Павлыч расспрашивал старосту об урожае, посеве и других хозяйственных предметах. Староста отвечал удовлетворительно, но как-то вяло и неловко, словно замороженными пальцами кафтан застёгивал. Он стоял у дверей и то и дело сторожился и оглядывался, давая дорогу проворному камердинеру. Из-за его могущественных плеч удалось мне увидеть, как бурмистрова жена в сенях втихомолку колотила какую-то другую бабу. Вдруг застучала телега и остановилась перед крыльцом: вошёл бурмистр.
Этот, по словам Аркадия Павлыча, государственный человек был роста небольшого, плечист, сед и плотен, с красным носом, маленькими голубыми глазами и бородой в виде веера. Заметим, кстати, что с тех пор, как Русь стоит, не бывало ещё на ней примера раздобревшего и разбогатевшего человека без окладистой бороды; иной весь свой век носил бородку жидкую, клином, – вдруг, смотришь, обложился кругом словно сияньем – откуда волос берётся! Бурмистр, должно быть, в Перове подгулял: и лицо-то у него отекло порядком, да и вином от него попахивало.
– Ах вы, отцы наши, милостивцы вы наши, – заговорил он нараспев и с таким умилением на лице, что вот-вот, казалось, слёзы брызнут, – насилу-то изволили пожаловать!.. Ручку, батюшка, ручку, – прибавил он, уже загодя протягивая губы.
Аркадий Павлыч удовлетворил его желание.
– Ну, что, брат Софрон, каково у тебя дела идут? – спросил он ласковым голосом.
– Ах вы, отцы наши! – воскликнул Софрон, – да как же им худо идти, делам-то! Да ведь вы, наши отцы, вы, милостивцы, деревеньку нашу просветить изволили приездом-то своим, осчастливили по гроб дней. Слава тебе, господи, Аркадий Павлыч, слава тебе, господи! Благополучно обстоит всё милостью вашей.
Тут Софрон помолчал, поглядел на барина и, как бы снова увлечённый порывом чувства (притом же и хмель брал своё), в другой раз попросил руки и запел пуще прежнего:
– Ах вы, отцы наши, милостивцы… и… уж что! Ей-богу, совсем дураком от радости стал… Ей-богу, смотрю да не верю… Ах вы, отцы наши!..
Аркадий Павлыч глянул на меня, усмехнулся и спросил: «N’est-ce pas que c’est touchant?»[25]
– Да, батюшка, Аркадий Павлыч, – продолжал неугомонный бурмистр, – как же вы это? Сокрушаете вы меня совсем, батюшка; известить меня не изволили о вашем приезде-то. Где же вы ночку-то проведёте? Ведь тут нечистота, сор…
– Ничего, Софрон, ничего, – с улыбкой отвечал Аркадий Павлыч, – здесь хорошо.
– Да ведь, отцы вы наши, – для кого хорошо? Для нашего брата, мужика, хорошо; а ведь вы… ах вы, отцы мои, милостивцы, ах вы, отцы мои!.. Простите меня, дурака, с ума спятил, ей-богу одурел вовсе.
Между тем подали ужин; Аркадий Павлыч начал кушать. Сына своего старик прогнал – дескать, духоты напущаешь.
– Ну, что, размежевался, старина? – спросил г-н Пеночкин, который явно желал подделаться под мужицкую речь и мне подмигивал.
– Размежевались, батюшка, всё твоею милостью. Третьего дня сказку подписали. Хлыновские-то сначала поломались… поломались, отец, точно. Требовали… требовали… и бог знает, чего требовали; да ведь дурачьё, батюшка, народ глупый. А мы, батюшка, милостью твоею благодарность заявили и Миколая Миколаича посредственника удовлетворили; всё по твоему приказу действовали, батюшка; как ты изволил приказать, так мы и действовали, и с ведома Егора Дмитрича всё действовали.
– Егор мне докладывал, – важно заметил Аркадий Павлыч.
– Как же, батюшка, Егор Дмитрич, как же.
– Ну, и стало быть, вы теперь довольны?
Софрон только того и ждал.
– Ах вы, отцы наши, милостивцы наши! – запел он опять… – Да помилуйте вы меня… да ведь мы за вас, отцы наши, денно и нощно Господу Богу молимся… Земли, конечно, маловато…
Пеночкин перебил его:
– Ну, хорошо, хорошо, Софрон, знаю, ты мне усердный слуга… А что, как умолот?
Софрон вздохнул.
– Ну, отцы вы наши, умолот-то не больно хорош. Да что, батюшка Аркадий Павлыч, позвольте вам доложить, дельцо какое вышло. (Тут он приблизился, разводя руками, к господину Пеночкину, нагнулся и прищурил один глаз.) Мёртвое тело на нашей земле оказалось.
– Как так?
– И сам ума не приложу, батюшка, отцы вы наши: видно, враг попутал. Да благо подле чужой межи оказалось; а только, что греха таить, на нашей земле. Я его тотчас на чужой-то клин и приказал стащить, пока можно было, да караул приставил и своим заказал: молчать, говорю. А становому на всякий случай объяснил: вот какие порядки, говорю; да чайком его, да благодарность… Ведь что, батюшка, думаете? Ведь осталось у чужаков на шее; а ведь мёртвое тело, что двести рублёв – как калач.
Г-н Пеночкин много смеялся уловке своего бурмистра и несколько раз сказал мне, указывая на него головой: «Quel gaillard, a?»[26]