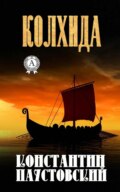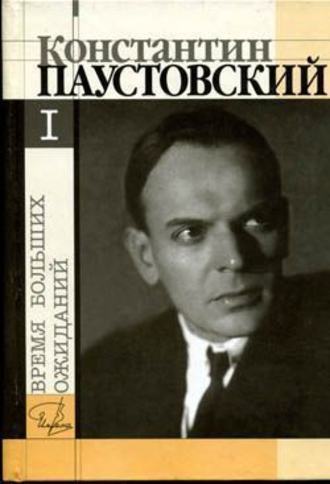
Константин Паустовский
Бросок на юг
4. Духовная жизнь. Нет никакой. Это громадная абхазская деревня, без книг, без газет, совершенно отрезанная от всего мира. Интеллигентных людей нет совершенно… Все русские спились, опустились. К приезжим относятся недоброжелательно. Моральная обстановка страшно тяжелая, и об Одессе я вспоминаю как о громадном культурном центре.
Тоска такая, что временами хочется кричать, уйти отсюда, бежать от этих влажных гор, грубых, одичалых людей, от льющих в последние дни дождей и грязи. Сюда хорошо приехать на лето, посмотреть цветущие мандарины, горы, побродить у моря, зная наверно, чnо отсюда скоро уедешь.
5. Красота – поражает сразу, но в два дня приедается. Все влажно, страшно сыро. И солнце не радует. Может быть потому, что нет тебя. Здесь сильная малярия, в июне-июле ею болеют все приезжие. Форма ее довольно тяжелая, иногда смертельная. Единственное лечение – отъезд.
Вот вкратце вполне объективное описание Сухума. Теперь весь вопрос в одном – что в Одессе? Если очень плохо, надо переселяться сюда. Если нет – оставаться.
Я в последние дни все думаю, что Фраерман был прав, когда говорил с нами о Сухуми.
Ты знаешь, в последние дни я с такой болью вспоминаю об Одессе, о всем, что связано с тобой, о Фраермане, Коле, «Моряке», тихих вечерах, котишке, книгах, рукописях. Неуютная здесь жизнь. Мне очень тяжело. И еще тяжелее от сознания, что я ничего толком не расмотрев, написал тебе восторженное письмо, причинил ряд мучений. Я сам измучился до болезни. Если решишь приехать, – телеграфируй тоже. Буду ждать от тебя ответа как ребенок.
Целую. Твой Кот…
(6 марта 1922 года)
Все деловое – я подчеркнул, чтобы ты не спутала.
Крол, родной. Боюсь, что ты не получила всех моих писем. С «Бату-мом» я послал письмо, в котором были документы на твое имя на въезд в Сухум. 1.000.000 денег и восторженный отзыв о Сухуме. Это было первое и очень неверное впечатление.
Второе письмо я послал на «Пестеле» с Абергузом. Писал я его спустя несколько дней, когда немного осмотрелся и заболел «сухумской» тоской. Писал о том, что жить в Сухуме тяжело и трудно (в моральном отношении), материально же – хорошо, но материальное благополучие всецело зависит от спившихся и довольно подлых местных культуртрегеров – бывших приказчиков из бесчисленных барских имений. Кроме них, офицерских жен и темных дельцов – другого общества нет. Я писал о том, что если ты решишь сюда не ехать – дай телеграмму…
По моим расчетам, если ты приедешь, то с пароходом, который приходит послезавтра (8-го), должен быть ответ, если же ты решила ехать, то с этим пароходом ты приедешь сама, и это письмо тебя не застанет. Телеграммы от тебя до сих пор еще нет. И эта неясность очень мучительна. Если на следующее! пароходе не будет ни тебя, ни письма, ни телеграммы – буду ждать еще, т. к. боюсь, чтобы мы не разъехались. До сих пор от тебя не получил ни строчки.
Крол, если бы ты знала, как здесь глухо и тяжело. Жить здесь можно только спасаясь от голодной смерти. Со слезами я думаю о тебе, о людях с мало-мальски живой душой, о шумном городе, о книгах, о нашей комнате в Одессе. Рвусь отсюда страшно. И вместе с тем страшно, – может быть в Одессе жизнь стала уже невыносимой. И красота здешняя – не красота. Смотришь на мертвую, черную, словно лакированную зелень, на хмурые горы, и такая на душе тоска. Здесь красота паноптикума. Все както безжизненно и тяготит.
Все дни и ночи я думаю о тебе и боюсь за тебя и колеблюсь. Все жи-бые люди бегут отсюда, как из прокаженного города. Я ничего не знаю о том, что делается в 40 верстах от Сухума. Он отрезан стеной непроходимых гор, живут все как в мышеловке и трудно ориентироваться. Иванов собирается бежать отсюда все равно куда, – в Одессу, в Москву, куда удастся, если, конечно удастся вырваться отсюда. А вырваться ему очень трудно. Платят здесь за все продуктами, денег нет (советские совсем не ходят), вещи никто не покупает и потому все живут хорошо, но без денег, и достать их не могут. Получается странная закрепощенность.
<…> Жду телеграмму или письмо. Как только получу – выеду первым же пароходом. Встретим в Одессе тихую, ласковую Пасху и больше никогда не будем разъезжаться…
Целую. Кот…
Н. Г. Высочанскому в Москву (Сухум-Кале, 21 июля 1922 года)
Дорогой дядя Коля. Пишу тебе из русских тропиков, куда нас загнал голод. Не знаю, в Москве ли ты. Чувство у меня такое, что мы не виделись десятки лет, хотя и прошло только четыре года.
Через месяц увидимся. Мы с Катей едем в Москву Пора. Москва немного пугает своей перегруженностью, но дальше скитаться по России нет ни сил, ни смысла. Голод идет на убыль, возрождается, хотя и очень убого, культурная жизнь, и снова тянет в Москву.
Пережили мы столько, что хватит лет на 10. Этой зимой пришлось бежать из Одессы в благословенную Абхазию, наиболее нетронутый уголок Кавказа, где жизнь течет так же, как в старое, дореволюционное время. Здесь очень красиво, это один из немногих уголков Южной Европы с чисто тропическим климатом. За нашими окнами – пальмовый лес по горам, заросли бамбука и море, а в саду цветут кактусы, олеандры, магнолии и прочая чертовщина. Страна вечно пьяная (вместо чая… пьют вино), лодырная, причудливая и богатая.
Из Москвы в мае мне надо будет ненадолго уехать в Одессу – сдать экзамен на штурмана дальнего плавания. Я не думаю делать из этого свою профессию, но это мне даст возможность иногда плавать, главным образом заграницу. В главную же свою работу – чисто литературную – я думаю как раз в Москве уйти с головой.
У меня к тебе большая просьба – напиши, если можешь, сейчас же (письмо из Москвы идет сюда 2 недели и может меня не застать): вкратце твое впечатление о Москве, о московской жизни, делах и комнатном кризисе.
Катя по дороге в Москву заедет недели на три к родным, я же поеду прямо.
Напиши, что тебе известно о наших. Вот уже давно я пишу им, но не получаю ответа. О Проскурах тоже ни слуху, ни духу.
Буду ждать твоего письма. Когда приеду – поговорим обо всем. Хотелось бы очень повидать тебя. Постоянное одиночество и шатание среди чужих людей очень уж измучило.
Помимо прочих соображений, уезжать отсюда мне нужно поскорее. Мы живем высоко в горах, и от этого у меня развилась пустяковая, но опасная в здешних условиях болезнь – энфизема легких. Климат здесь очень тяжел для европейцев. Вот уже две недели стоит жара, доходящая до 56-й градусов, духота одуряющая, чувствуешь себя как в парилке. А внизу – поголовная малярия, от которой русские мрут, как мухи. Этот климат, когда воздух втягиваешь, словно сквозь повязку из ваты.
Исаак Бабель К. Г. Паустовскому в Вотум
(Тифлис, 14 ноября 1922 года)
Дорогой Константин Георгиевич!
По совету бывшего студента, пострадавшего за убеждения и знавшего лучшие дни, – не езжайте в Тифлис. Прошибить грузинскую стену труднее, чем проделать то же самое с китайской. А насколько мне известно, и с китайской немногим это удавалось. Да и стоит ли игра свеч? Не стоит. Это, во-первых.
Второе, – будет ли во что играть? Гадательно. Сами Вы видите, что «Заря Востока» – ничего не стоит. Провинциальная старушка со вставными зубами и со столичными претензиями. Исправить ее – наивная затея. Я уверен, что газета так загромождена мелкими и бездарными самолюбцами, заедена злым интриганством, изгажена неуменьем спецов и безразличием руководителей, что не нам с вами зачистить эти весьма не благодатные конюшни. Для того, чтобы успеть хотя бы в малой степени, нужны месяцы и полугодия…
Не забудьте, что все пути, будь это пути туркестанские или афгани-станские, ведут к Москве и из нее вытекают. «Заря» в этом отношении бесполезна совершенно. Кроме Закавказья она ничего не собирается обслуживать, да и не умеет. Трезвая оценка положения подсказывает один план действий: Батум – Москва безо всяких остановок на промежуточных станциях. И только в Москве можно начинать «предполагать». А то в Тифлисе грузинский бог так Вас расположит, что и костей не соберете.
Если Вы вопреки здравому смыслу все-таки поедете в Тифлис, – то сообщите конкретный срок Вашего отъезда – перешлю Вам письма редактору «Правды» члену ЦК…нову [нрзб], одному из заправил «Правды» Леониду Саянскому, отв.[етственному] секретарю «Зари» Ткачеву-Акобад-зе, редактору «Красного Воина» Попову и др. Попов сейчас в Сухуме на отдыхе. Кроме прямой своей работы он заведует в «Заре» отделом «Кр.[асная] Армия». Я с ним поговорю о Вас здесь (он уезжает этим или следующим рейсом) и записку на всякий случай прилагаю. Изготовлять остальные письма сейчас нахожу неразумным, т.[ак] как я хотел бы сообщить адресатам и о себе и воспользоваться для этого Вашей поездкой.
Екатерину Степановну я пока не видал. Одержимая экскурсионной горячкой, она лазает по окрестностям с упорством, достойным Бисмарка или английского боксера. Молодчина. Вот бы всем хорошим людям таких жен. А туфли какие у нее?! Чудо на горе Синайской – и только.
Теперь о себе. Благоденствую, не заглядывая в будущее, ибо будущее темно до непонятности. Евг.[ения] Борисовна очутилась неисповедимыми путями в Москве, оттуда я и жду инструкций для руководства и исполнения. До получения от нее сведений – буду сидеть здесь.
Пришлите мне, голубчик, корреспондентский билет «хМаяка» и какую-нибудь бумажонку (если можно) полезную для предъявления в агентскую кассу.
О переменах в судьбе уведомляйте неукоснительно. Мэри кланяется.
Ваш И. Бабель (по сух.[умски] – К. Лютов)
II. Из писем 1923 – 1929 годов, связанных темой «Броска на юг»
М. Г. Паустовской в Киев
(д. Екимовка Рязанской губернии, 14 июня 1923 года)
Дорогая мама. С 21-го года, с того времени, как мы бежали из Одессы от голода на Кавказ, я потерял всякую связь с Киевом. Из Одессы мы уехали в Сухум (Кавказское побережье Черного моря) и прожили там около 8-и месяцев. Из Сухума я писал тебе и дяде Коле, но ни от него, ни от тебя ответа не получил. В Сухуме мы очень поправились, посвежели после одесской голодовки и решили ехать в Москву через Батум и Тифлис. В Батуме немного застряли (прожили 6 месяцев). Здесь и меня, и Катю скрутила тропическая лихорадка. В Тифлисе у меня лихорадка прошла, у Кати же продолжалась в очень тяжелой форме, и в связи с лихорадкой у Кати родился на 7-м месяце мертвый ребенок, которого она страшно ждала. Это на нее очень подействовало, и мы тотчас же уехали из Тифлиса, несмотря на то, что в Тифлисе нам материально жилось прекрасно (я редактировал большую закавказскую газету). Уехали мы в Москву и оттуда в деревню Екимовку в Рязанскую губернию к родным Кати.
Недели через 1,5 я поеду в Москву. В Москве этим летом я думаю издать несколько своих вещей отдельными книгами. Когда устрою дела с изданием (приблизительно ко второй половине июля), приеду к тебе в Киев.
Все эти годы, несмотря на материальное сравнительное благополучие и очень причудливую разнообразную жизнь, все же было очень тяжело от полной неизвестности, – что с тобой и с Галей.
Целую тебя и Галю крепко. Поцелуй от меня всех Проскур. Как тетя Вера?
Привет от Кати.
Пиши. Твой Котик.
Е. С. Загорской-Паустовской в д. Екимовка
(Москва, 16 июля 1923 года)
Ки, маленькая. Сегодня Сергей Дмитриевич привез твое письмо…
Почему ты… скрыла, что у тебя были припадки малярии? Серг.[ей] Дмитриевич мне все рассказал.
Ты тревожишься обо мне, потому что ты маленькая и чуткая. Мне правда сейчас тяжело. Мне очень бы хотелось быть сейчас с тобой, но вместе с тем, страшно не хочется тащить тебя в Москву – грязную, душную, суматошливую. Но если тебе тревожно и скучно стало в Екимовке, сейчас же приезжай. Если у тебя не хватает денег на дорогу, напиши мне сейчас же и я пришлю на имя Александра Васильевича. Если бы ты знала, как мне хочется быть сейчас с тобой. Глупый, большеглазый Крол, смешной. Ты пишешь о том, чтобы я от тебя ничего не скрывал. Я от тебя никогда ничего не скрывал и не скрою, потому что я тебя так больно люблю и теперь у меня такое чувство, что я остался без сестренки и без мамы.
Я так много хочу поговорить с тобой обо всем, – и о печатании, и о будущем бродяжничестве, и о всей моей жизни, которая теперь вошла в какой-то иной аспект, я как-то ее увидел совсем иной, со стороны и, правда, Крол, есть в ней что-то необычное, прекрасное, волнующее меня самого. И еще я хочу поговорить о том, что произошло в Москве, – нестрашном ни для меня, ни для тебя, но страшном для Валерии Владимировны, которую я встретил на Сретенке, на шестой или седьмой день после своего приезда в Москву.
Перехожу на карандаш, потому что надо спешить, и я боюсь, что не успею всего написать. Напишу коротко, а подробно все расскажу, когда приедешь.
Она окликнула меня на улице, бросилась ко мне и расплакалась. А спустя четыре дня. перед отъездом в Тифлис, она неожиданно пришла ко мне, страшно бледная, помертвевшая, села на диван, и у нее сильно пошла горлом кровь. Только спустя полчаса кровь удалось остановить. И она мне сказала о том, что, должно быть, скоро умрет, и теперь ей не страшно сказать мне, что она любит меня, что никогда в жизни у нее не было такой боли, что должно быть, она никогда в жизни никого не любила настоящей любовью, что ее изломали, искалечили и теперь у нее в жизни осталось только одно, – любовь ко мне, радость от сознания, что я живу, вот здесь, на этой земле.
Она говорила о том, что меня все любят, что я в душах всех, когда ухожу, оставляю большую боль от сознания, что мимо них прошел необыкновенный, тонкий человек, еще мальчик, но с такой большой, большой душой. Она говорила еще много, но это особенно врезалось мне в память. И вот она долго плакала тихо, в углу дивана, и в глазах у нее было такое безнадежное отчаяние и боль, какие бывают, должно быть, у матери, у которой умирает ребенок.
Крол, маленький мой, ты поймешь как мне было невыносимо таже-ло. Я был суров, может быть, ненужно суров и думал о том, что это большое несчастье быть таким, как я. Всюду в жизнь я вношу какую-то тревогу и боль, и любовь, – и все это очень мучительно.
Пишу наспех, скомканно. Сейчас я сижу у Спасской заставы на бульваре и дописываю письмо (здесь неподалеку живет Сергей Дмитриевич). Во вторник (10-го) она с Кириллом уехала в Тифлис.
Когда приедешь, я расскажу тебе все более подробно и более связно.
У меня почти каждый день ночует Фраерман. Был три раза на даче у дяди Коли (он уже приехал). <…> У дяди Коли сильное нервное расстройство.
Теперь о себе. Я работаю в журнале «Рабочий водного трансп. [орта]» – 3 часа в день за 12 миллиардов в месяц. Как зацепка – это не дурно. Кроме того, это дает бесплатный проезд по всем морским и ж.[елез-но]д.[орожным] путям не только мне, но и тебе, глупой.
Налаживается дело с кругосветным рейсом (на пароходе Добро-флота) весной буд.[ущего] года. Приедешь – расскажу.
Крол, наши вещи заперты в отдельной комнате, а ключ на даче, поэтому ниток достать не мог. Посылаю газеты. Книг никто здесь не покупает и достать их трудно.
В субботу уже получу деньги.
Маленькая, приезжай. Боюсь я очень звать тебя в Москву и, вместе с тем, у меня такое состояние, что с тобой мне пережить его будет легче.
Целую. Твой Кот.
Поцелуй всех. Если отложишь отъезд, напиши (заказным). Не плачь, будь спокойна, серенький котишка.
(Конец июля – начало августа 1923 года)
Получил твое большое письмо, несколько раз перечитывал его, и мне после этого письма хочется только одного, – увидеть тебя, поговорить с тобой, потому что я чувствую, что без тебя я вообще запутаюсь в жизни, в самом себе и втяну за собой других. Глупая, маленькая, я могу смотреть тебе в глаза теперь просто и ясно, гораздо проще и яснее, чем в Сухуме, в Одессе, где мы жили каким-то глухим, задушенным в себе надрывом.
С Вал.[ерией] Влад.[имировной] произошло «страшное» для нее. Так я писал. И не так себе, не зря, маленькая. Потому что, если в Тифлисе, если потом в Москве вокруг всего этого создалось странное, затягивающее настроение какой-то муки, тревоги, каких-то переломов, веянье каких-то душевных кризисов, то уже давно, особенно теперь, хотя это настроение у меня и осталось, но его давит большой и очень, очень мучительный стыд. Стыд от того, что я равнодушен, холоден, что даже и жалости по отношению к ней у меня не осталось. Как-то все вдруг сразу похолодело во мне и кончилось. Стыд от того, что ведь полюбила она меня, может быть, отчасти потому, что я первый обратил на нее внимание, я первый в нее начал всматриваться и я же первый ее забыл и прошел мимо. Сейчас я уже прошел мимо.
…Очевидно, есть во мне еще много, слишком много злого и темного. Ты это поймешь, если представишь себе, что с тобой (если только можно это представить) произошло бы то же, что и с ней. Украсть у человека душу, обогатить себя новыми настроениями, бросить его в провалы тоски, о которой он раньше не мог и думать, т. к. раньше жил слишком убого и плохо, заставить его метаться, искать выхода и, в конце концов, – выхода не дать, уйти… Она пишет мне (я получил уже несколько писем). И все письма – это какой-то сплошной крик. У меня такое чувство, точно я присутствую при рождении души, человека, – рождении всегда тяжелом, мучительном, но, вместе с тем, какой-то подсознательный инстинкт мне говорит, что все это метание кончится впустую.
Подробно об этом поговорим в Екимовке. Я теперь, думаю и ты, могу говорить об этом спокойно, т. к. о прошлом. Для нас это прошлое, для нее – нет. И теперь единственное, что мне нужно, – сделать все, чтобы и для нее это стало прошлым.
<…> Я все время чувствую вокруг себя какую-то робкую любовь, тоску и ласку. Люди самые разные, самые случайные. Так прилепился ко мне душой в течение двух-трех дней муж Софьи Владимировны, она, Соня Фраерман, Рувим, Настя, Глеб Афанасьев и каждый день все новые и новые…
А я знаю, что все это – обман, потому что все они любят во мне то, чего по существу-то у меня нет, то, о чем я лгу, то, о чем я тоскую, любят меня не реального, а такого, каким бы я хотел быть.
И я ищу выхода. И временами мне так хочется, чтобы все поверили в мою смерть, в то, что меня уже нет и я мог бы в одиночестве переломать себя, вытравить из души все больное, все темное, что так ясно теперь ощущаю, и снова вернуться в жизнь простым, правдивым, ясным.
Я думаю о бегстве, об одиночестве, чтобы разобраться в самом себе. Это один выход. И есть еще один, детский, ребяческий, – прийти к тебе и выплакаться, и ты мне все, все расскажешь так просто и так хорошо, радостно, как ты умеешь, и я буду знать, что со мной было и буду знать пути к дальнейшему.
И вот это больное, о чем я думаю дни и ночи, тем более странно, что никогда я физически не был так крепок, свеж и как-то спокоен, как теперь. Я очень упрямо, ни разу не пропуская, веду мопассановский режим в жизни. Три раза в день я обливаюсь холодной водой, сплю при открытых настежь окнах, под одной простыней, без белья, вот уже месяц я не надевал фуражки и пальто, и очень посвежел, окреп, помолодел. Все, кто видел меня раньше, поражены этим. И вместе с тем, я по ночам много работаю, мало сплю.
Кролик, 25-го августа я выеду в Екимовку. Со мной очень хочет ехать Надя, она говорит, что кроме «Сошки», тебя и меня – у нее нет родных людей. Кроме того, она, кажется, голодает, весь заработок уходит на мать, у нее началась в легкой форме цинга, и ей надо слегка отдохнуть. Поэтому, может быть, она приедет со мной. Если удастся, то выеду раньше. В четверг получу деньги и пришлю тебе. Если бы ты знала, как мне нужно видеть тебя, как мне нужно опереться на тебя, ты бы не болела и не мучилась. И я боюсь только одного, – когда тебе нужна была моя поддержка, я ее тебе не дал. И вдруг ты мне тоже ее не дашь? Теперь я понял, как это, должно быть, безвыходно, когда надо метаться со своими силами, которые вот-вот все уйдут и никто не поможет.
Еще одно. Несмотря на все то, что я пишу тебе, сила чисто творческая, стремление писать, масса образов – все это обострено сейчас необычайно. И не только обострено. Чувствуется в этой тяге к тому, чтобы писать, какая-то зрелость, спокойствие, неумолимость. Писать в этом письме о мелких делах, мелких заботах, не хочется. Напишу об этом потом. О Петрограде мы поговорим, когда я приеду.
Целую. Кролик, маленький мой, теперь снова ожило у меня и расцвело твое первое имя Хати-дже – татарка с зелеными, громадными, заплаканными глазищами.
Твой Кот…
А. М. Гюль-Назарову в Тифлис (Москва, 10 августа 1923 года)
Дорогой Александр Мартынович! Простите, что так долго молчал. Но в Москве я сравнительно недавно. Около месяца провел в Рязанской губернии, где Екатерина Степановна отдыхает и до сих пор.
…Теперь о Москве. Москва вовсе не так страшна, как кажется в Тифлисе. Во всяком случае, Вы один (без семьи) сможете здесь найти работу очень легко. Об этом говорят все, в частности, Либусь, который растолстел и поправился. Об этом же говорит Деревенский и все, кого я здесь встречал. С комнатой будет плохо, но остановиться – и остановиться ненадолго – Вы всегда сможете или у меня (если к тому времени будет комната), или у кого-либо из своих (если комнаты у меня не будет). С семьей же ехать в Москву, по моему, рискованно.
Либусь ругает Вас четырехэтажно за то, что Вы тянете с переездом в Москву.
Я работаю пока с Женькой Ивановым, но думаю сбежать. Уж очень Женька арапист и неразборчив. Претит. Марина Федоровна цветет. Джек ждет женихов. Ковальский ведает каким-то департаментом в Совнархозе. Хейфец валяет дурака. Любовичу все уважающие себя люди перестают подавать руку. Каждый день я встречаю все новых и новых из наших «старых» знакомых. Видел Майзеля. Здесь процветает Зозуля (помните «Театр»), мечется Саянский. Много тифлисцев. Москва – в дождях, слякоти, бензинном чаде, сутолоке. Стала типичным Петроградом, чиновным городом. И тянет в Тифлис, на солнце (за два месяца в Москве я только два раза видел солнце), к кахетинскому вину и праздничной, не суматошливой не занятой жизни. Очень возможно, что приеду ненадолго в Тифлис этак в половине – конце сентября. Вот напьемся! А из Тифлиса в Москву мы поедем вместе. Был в Петрограде, но недолго и ни Лифшица, ни Головчинеров не видел.
На днях приедет в Тифлис с женой на два-три дня мой большой приятель Борис Дмитриевич Ильинский – человек веселый, душевный, настоящий москвич, весьма близкий к издательским, литературным и журнальным крутам. Он зайдет к Вам. Он едет в Тифлис по делам, но, главным образом, чтобы накачаться кахетинским, и потому я был бы Вам очень благодарен, если бы Вы пошатались с ним по хорошим, типичным духанам. Сводите его «Над Курой». Денег у него много, он – наш, и потому можете пить на его [нрзб.]. Кстати, он может рассказать Вам подробно о Москве и обо мне, буде пожелаете. Жена у него чудесная. Напишите мне о себе, о Вано, обо всем подробно. Часто, очень часто вспоминаю с Фраерманом Вас и Тифлис. Фраерман здесь – работает в РОСТе. Там же работает Урланис.
Пишите. Продолжаете ли работать в «Заре», как живут Ваши, встречаете ли наших «гудковцев», Зданевичей? Если увидите дядю Колю, Чегиса или Чекризова, то передайте им мой адрес, – пусть напишут. Адрес: Сретенка, 26, кв. 9 Высочанского, мне. Телефон: 1-39-25.
У меня грандиозные планы на будущий год, но об этом напишу позже.
…Привет всем. Привет Евдокии Мартыновне и девочкам, и Рубену. Привет мацонщикам и кацо, и Головинскому, и кротким ишакам, и тифлисскому зною. Если бы знали, как все это стало милым и родным. А главное, – здесь паршивое, поддельное и дорогое вино, и нельзя каждый день пить. Вы понимаете? Фраерман даже заболел от этого черной меланхолией, а я просаживаю 1/2 всех денег на вина «из государственных подвалов Армении». Всего, всего хорошего. Пишите мне.
Ваш К. Паустовский
Валерии В. Зданевич (Валишевской) в Тифлис (Москва, 20 августа 1923 года)
Меня несколько дней не было в Москве. Фраерман передал мне сразу три Ваших письма. Два радостных и одно очень печальное. Вышло нехорошо. Вы спрашиваете, маленькая, что делать? Во-первых, мои письма никто и никогда, кроме Вас, не должен читать. Они слишком чисты и интимны. Во-вторых, Вы можете просто сказать Кириллу, что это письма от человека, который Вас любит, можете даже сказать, что от меня, но что показать их кому бы то ни было Вы не хотите и не можете, т. к. любовь к Вам, как и всякая любовь, слишком больная и слишком радостная вещь, чтобы говорить о ней даже мужу. Мое имя Вы можете назвать, если это будет нужно. Страшного для меня в этом нет ничего. Что обо мне будет говорить К.[ирилл] Михайлович] или все обитатели квартиры в Кирпичном переулке, – для меня крайне безразлично. Я иду своими путями и не привык считаться с чужим недовольством. Я принимаю все на себя, – в этом смысле Вы и можете говорить с Кириллом.
Мне очень больно, что Вы так тревожитесь и мучитесь. Вы не хотите, чтобы я приехал в Тифлис? Я понимаю, что особенно теперь это будет для Вас связано с массой неприятного и мучительного. В Тифлис я не приеду. Немного досадно, потому что я не так давно получил билет до Тифлиса и мог вырваться на 10-14 дней из Москвы.
Теперь – вот что. На днях я уезжаю в Петроград, а оттуда, вероятно, в Мурманск (Полярный океан). Поэтому – не волнуйтесь, если долго не будет писем. У меня скверное настроение, и я хочу побыть в одиночестве.
Не сердитесь, маленькая и стройная. Напрасно, совсем напрасно Вы полюбили меня. Я ведь сумасшедший.
Ваш мальчик