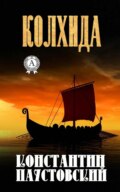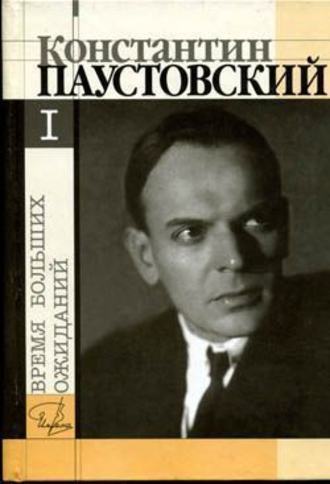
Константин Паустовский
Бросок на юг
Как бы два Кавказа существовали вокруг. Один вздымался к высокому небу, а другой уходил в сияющую бездну под нашими ногами. По дну этой бездны медленно передвигались, как и по небу, одинаковые перистые облака.
Когда я забрасывал в озеро леску с грузилом, то каждый раз разбивал идеальную слитность этого мира.
Время от времени брала сильная, как напряженный мускул, форель – пеструха. Или лобан стремительно уводил леску по прямой и, мотнув хвостом, обрывал ее, кал паутину.
Это было удивительное занятие – ловить рыбу в жидком сапфире и жадно насыщать свои глаза всем, что располагалось вокруг, – от узора трещин на плоском камне до поплавка из связанных пучком сухих листьев клена. В момент клева листья складывались, как веер, и медленно погружались в воду.
Я удил до вечера. На камнях меня заставал закат. Однажды я невольно вскрикнул от неожиданности, когда поднял глаза от поплавка и вдруг увидел отражение солнца на ледниках, как бы обагренных кровью.
Я вскрикнул невольно и рассердился на себя за то, что не сдержался. Но слишком огромен был размах сгорающего неба, слишком загадочен был дым облаков и слишком резок блеск льдов на вершине Маруха.
Вообще в жизни мне везло. Почти каждый день я узнавал или видел что-нибудь новое. А чем больше знаешь, тем интереснее и, как это ни покажется странным, таинственней делается жизнь.
Во время закатов у подножия Главного хребта я видел одно из самых величественных зрелищ на земле – разлив такого цветового блеска, что казалось, на этой высоте над уровнем моря у наших глаз появляется дополнительное свойство: видеть гораздо больше красок, чем в глубине долин, в степях и на морских побережьях.
Но все же я без сожаления ждал, когда закат начнет угасать. Потому что я знал, что в сумерках, слабо просвеченных далекими отблесками моря, заключено не меньше прелести, чем в горных закатах.
А потом все стихало, все дотлевало. Тишина садилась к костру и долго смотрела, как подергивались сиреневым пеплом последние угли. Часто падали звезды.
На шестой день у нас кончились продукты, и мы ушли с озера Амтхел-Азанда.
Борец был уверен, что около Цебельды мы снова наткнемся на дезертиров и на этот раз встреча нам не пройдем даром. Поэтому мы решили идти в Сухум прямо через горы, минуя ущелье Гаргемыш.
Карты у нас не было, но борец брался вывести нас к тому месту, где река Азанда, пройдя 12 километров под землей, снова выбивалась на поверхность. Дальше нужно было держаться вдоль реки и выйти к Мерхеулам.
Эти двенадцать километров мы шли весь день. В Сухум мы возвратились сожженные, пыльные, голодные, со стертыми ногами, но счастливые.
В Сухуме было сонно, душно и одиноко.
Во время моего отсутствия мадемуазель Жалю сдала соседнюю пустовавшую комнату белобрысому человечку, бухгалтеру из торгового отдела по фамилии Котников.
Все в этом рассудительном человечке было, как говорят врачи, противопоказано Сухуму, начиная с того, что он был веснушчат, беспрерывно мигал красноватыми альбиносьими глазками с белыми ресницами и любил петь песню: «Я б желала женишка такого, чтобы он в манишке щеголял». Пел он тонким, свистящим тенорком.
В свободное время он пил чай в саду под бананом. Вышитое петушками полотенце висело у него на шее. Он поминутно вытирал им потное красное лицо, прокашливался и снова запевал: «Чтоб он в манишке щеголял, в руке тросточку держал».
На Кавказе Котников вел себя так, будто это был не Сухум, а Пошехонье. Ничто его не интересовало – ни море, ни тропическая растительность, ни горы, ни абхазцы, ни их характер и нравы. Он любил вспоминать о городе Мологе, откуда был родом. Почти все свои рассказы он начинал одной и той же фразой: «Вот в нашем городке Мологе, у мамаши моей, уважаемой Аполлинарии Фроловны, был заведен зверский порядочек…»
С появлением Котникова сразу стало скучно. Время будто остановилось. Оно стояло бессмысленно, как испорченные часы, под назойливое мурлыканье счетовода «Вышла Маша в лес гулять, женишка себе сыскать».
Потом приехала из России жена Котникова – точно такая же, как и он, маленькая, курносенькая, вся в розовых веснушках. Она вошла в дом и, еще не сняв пальто, спросила мужа:
– Почем тут у вас яйца?
Конечно, это было несправедливо, но я сразу невзлюбил Котникова и его жену. И понял, что дальше жить в Сухуме совершенно бессмысленно и мне здесь нечего делать.
Я решил ехать дальше, в Батум. Там поселилась машинистка из «Моряка», Люсьена. Она вышла в Одессе замуж за художника Синявского и бежала из голодной Одессы в Батум. Она написала мне, что в Батуме объявлено «порто-франко» и город завален «шикарными товарами» – сахарином, бубликами, дамскими подвязками и шнурками для ботинок. «В крайнем случае, – писала Люсьена, – можно жевать подвязки».
Кроме Люсьены, в Батуме на Зеленом мысу жил Бабель с женой Евгенией Борисовной и сестрой Мери.
А я корпел в сухумском одиночестве и правил заметки в маленькой скучной газете.
Я возмутился на самого себя, сел без билета на пароход «Ильич» и уехал в Батум.
Наступал вечер. Берега Абхазии затягивались туманом. Я лежал на корме около флагштока, подложив под голову пальто и маленькую подушку, набитую сухумским табаком (вывозить из Абхазии табак было запрещено).
Неожиданно в терпкий запах табака ворвался принесенный с берега движением воздуха счастливый запах магнолий и мимоз – томительный воздух скитаний, Малой Азии, непроглядных зарослей и кромешных теплых ночей. И у меня сжалось сердце. Уходила – и, должно быть, навсегда – еще одна область земли, где я оставлял частицу своих мыслей и времени.
Через несколько лет я попал ненадолго в этот город и не узнал его. Он превратился в многолюдный и пышный щеголеватый курорт. На его улицах пахло не магнолией, а пережженным газом из выхлопных труб и палеными женскими волосами.
А сейчас я лежал на палубе и думал, что патриархальность Сухума окончилась навсегда.
Пожалуй, последним и трогательным событием этой жизни была встреча Михаила Ивановича Калинина.
Калинин проезжал на пароходе мимо Сухума и сошел на несколько часов на берег. На набережной собрался весь город – живописная толчея башлыков, черкесок, длинных седых усов, откидных рукавов с разноцветной подкладкой, кинжалов и брюк галифе с золотыми лампасами.
Когда шлюпка с Калининым отвалила от парохода и начала приближаться к берегу, простодушный начальник сухумской милиции проскакал на горячем коне вдоль набережной и крикнул толпе:
– Красивые, вперед!
В толпе произошло стремительное движение, но не раздалось ни одного крика, ни одного проклятия.
И действительно, на глазах случилось подобие чуда: толпа как бы сама по себе отобрала и выбросила вперед всех красивых – юношей с орлиными носами, серебряных старозаветных старцев и гортанных девушек, пышущих жаром от смущения.
Начальник милиции второй раз проскакал вдоль толпы, потом крикнул: «Душевно благодарю!» – и его конь, приплясывая, танцуя, прядая ушами, одним словом, кокетливо гарцуя, двинулся к пристани, где, как горный обвал, грянул гром оркестра из дудок и барабанов, так называемого «сазандари» – самого выносливого и бодро-заунывного оркестра в мире.
В плоском порту
Ночью я проснулся. «Ильич» стоял у причала в каком-то плоском порту. Мне показалось, что портовые огни плавают по воде, как плошки, – так низко они горели.
Я забыл, что по пути в Батум «Ильич» должен был зайти в промежуточный порт Поти.
Вокруг не было видно никаких признаков города. Потом я узнал, что от порта до Поти было далеко.
С неба редко падали капли дождя – теплые, как остывающий чай. Время от времени откуда-то приходил померанцевый запах.
Без видимой причины я ощутил прилив тоски, такой резкой и неожиданной, что даже растерялся.
Я, конечно, знал причину этой тоски, но не сознавался в этом, потому что ничем не мог себе помочь.
Тоска была давняя, прочная. Происходила она от затяжного одиночества, тем более непонятного, что по натуре я был человеком общительным, любил веселье и совершенно не был склонен к угрюмому самоанализу. Я хотел рвать жизнь охапками, как рвут весной сирень, хотел, чтобы мои дни никогда не повторялись и для меня хватило бы всех удивительных людей, стран и событий, какие только существуют на свете.
Но жизнь не по моей вине (вина, очевидно, была, но я ее не понимал) складывалась так, что и разнообразие жизни, и события, и скитания, и множество окружающих интересных людей – все это было дано в изобилии, но не было дано лишь одного – родственных, любимых и любящих людей.
Была мама, Галя, но меня отшвырнуло от них далеко, и мы переписывались так редко и так коротко, будто с трудом перекликались через широкую шумную реку и плохо различали друг друга на затянутых туманом берегах.
Не было дня, когда бы у меня не саднило сердце от этой оторванности и когда бы я вслух не стонал от досады на эту разлуку и от гнева на самого себя.
Я никак не мог справиться со своей жадностью. «К чему я все это коплю?» – спрашивал я себя, но никогда не отвечал на этот вопрос, так как копил я жизнь инстинктивно, в силу какого-то мне самому непонятного внутреннего побуждения.
Разгадка пришла только в последующие годы, когда я начал писать.
Жадность заставляла меня беспрерывно искать новых мест, людей, знаний, впечатлений, новых дел и невольно все дальше и дальше уходить от своего недавнего прошлого.
Оно было недавним, но вместе с тем ощущалось и как очень далекое. Например, между этой ночью в безмолвном потийском порту и хотя бы тем вечером на полуразрушенной даче на Фонтанах, когда Багрицкий читал стихи Блока, протянулись, мне казалось, целые годы. Я время чувствовал как бы на вес. Оно оттягивало руки.
Это состояние одиночества с особенной резкостью я испытал в Сухуме. Может быть, потому, что там я оказался вне среды, к которой уже привык за последние годы, – среди журналистов и писателей. Я оказался вне удивительного состояния, какое испытывал в последнее время в Одессе. Его можно было бы назвать ощущением ранней весны в нашей жизни, ощущением первого и еще неясного прикосновения нового искусства и новой литературы. Может быть, это сравнение несколько вычурно или в нем недостаточно вкуса, но я чувствовал именно так.
Приближалась бурная весна. Рождались замыслы, крепли силы, накапливался жизненный опыт, и вот-вот, как солнечный диск из-за гребня гор, должно было вспыхнуть где-нибудь гениальное слово.
Так я думал тогда и был счастлив этим ожиданием. Оно прогоняло тоску. Не только оно, но, конечно, и многое другое, даже сущие пустяки. Например, такая вот медленная дождливая ночь на пустой палубе парохода в порту, куда я никогда не предполагал попасть.
«Человек не может быть один, – думал я. – Никак не может. Иначе он погибнет».
Пароход отвалил. За молом осторожно вспенивались волны. Высокий маяк равнодушно клал на потревоженную воду свой неестественно белый свет.
Пришел матрос, привел на веревке маленькую белую собаку, совершенно косматую и несчастную, привязал ее невдалеке от меня к скамейке и ушел.
Собака дрожала так сильно, что когти ее постукивали по палубе.
Я отвязал ее, и она легла у меня в ногах. Сначала она тихо плакала, потом вздохнула и лизнула мне руку.
«Не только человек, – подумал я, – но даже собака не может быть одна. Не может!»
Я уснул. Сквозь сон я слышал, как у меня над головой тренькал лаг, отсчитывая пройденные мили.
Батумские звуки и запахи
Духанов и кофеен в Батуме было множество.
Застекленные двери во всех духанах и кофейнях были расшатаны. Они дребезжали и долго звенели при каждом толчке.
Постоянный звон дверей сливался со звоном листовой меди. Худые медники с провалившимися глазами выковывали из этих листов маленькие турецкие кофейники и приклепывали к ним длинные – тоже медные – ручки.
Тут же, на новых коврах, разложенных на мостовой, посреди узеньких улиц, нахальные девочки-цыганки били в старые бубны с колокольцами, танцевали и выкрикивали песни.
Новичков в Батуме узнавали по одному верному признаку: они старательно обходили ковры, боясь их запачкать. Но вскоре они узнавали, что ковры раскатывают во всю ширину улиц именно для того, чтобы поскорее уничтожить на них налет новизны и крикливых, еще не потускневших красок. Тогда приезжие начинали с наслаждением топтать ковры вместе с коренными батумцами.
Раздраженные базарным гамом, лягались лошади и тоже издавали звон, – у них на шеях висели гирлянды бубенцов.
Но Батум состоял не только из одного звона. Он состоял из множества вещей, например из шашлычного чада… Но раньше, чем перейти к этим вещам, покончим со звуками.
Итак, в Батуме, особенно на турецком базаре Нури, вас оглушал калейдоскоп звуков – от блеяния баранов до отчаянных криков продавцов кукурузы: «Гагаруз горячий!» – от заунывных стонов муэдзина на соседней мечети до писка дудок за окнами духанов и слезного пения выпивших посетителей.
Но особенно хороши были в Батуме звуки дождя и гудки пароходов.
Зимние батумские дожди пели на разные голоса[5]. Чем сильнее был дождь, тем выше он звенел в водосточных трубах. Пароходные же гудки были преимущественно одноголосые и баритональные, особенно у иностранных наливных кораблей с желтыми трубами и мачтами. Я попал в Батум в период осенних и зимних дождей. Они шли почти непрерывно, затемняя свет, погружая дни в теплый, почти горячий сумрак. Просветы случались редко.
Только несколько лет спустя я снова приехал в Батум (теперь он уже назывался Батуми), но уже ранним летом, и впервые увидел весь блеск и пышность батумской растительности и чистейшую синеву его неба.
Пароходы вползали, покрикивая, в живописные трущобы нефтяной гавани, швартовались впритык к духанам, складам и лачугам и нависали над шумной и тесной набережной своим рангоутом и такелажем. Как будто к берегу прибило стадо огромных железных китов.
Желтизна пароходных труб и мачт соединялась в моем представлении с песками аравийской или сомалийской пустынь и с Красным морем, где эти корабли неизбежно должны были проходить.
Иногда «иностранцы» подходили к батумскому порту, неся на гафеле желтый флаг. Это означало, что пароход по пути в Батум заходил в приморские порты, где никогда не затихала эпидемия холеры или оспы, чумы или дизентерии. Такой пароход уводили на рейд, ставили в карантин и окуривали трюмы серой.
Что касается запахов, то чаще всего побеждал чад баранины. И это очень жаль, потому что другие батумские запахи были гораздо приятнее этого чада. Но они редко могли через него прорваться.
Этот чад, въедливый, шершавый, саднящий горло, был хорош только тем, что напоминал о батумских шашлыках, пожалуй, лучших на Кавказе.
Их жарили на древесном угле, нанизанными на стальные шампуры, потом посыпали кислым порошком барбариса или корицей, обкладывали зеленым луком и ели со свежим лавашем, запивая белым вином. Мне кажется, что ничего более вкусного я никогда еще не ел в своей жизни.
На втором месте стоял запах свежесмолотого и только что сваренного кофе. Мололи его на турецких мельницах – медных, похожих на маленькие гильзы от снарядов. Снаружи эти мельницы были украшены чеканкой. Иной раз она изображала сцены из «Тысячи и одной ночи».
Мельницы эти превращали кофейные зерна в тончайшую пудру.
Запах кофе вызывал у меня одновременно представление о Востоке и Западе. И восточные и западные страны одинаково пахли кофе.
Что касается старой Европы, то она была просто неотделима в мыслях от горячего кофейного пара и от тех запахов, которые часто сопутствовали кофейному, – пароходного дыма, хрустящего утреннего хлеба, укропа, перезрелых роз и табака.
Европа часто виделась мне в полусне по утрам, как далекий берег. Он поблескивал над невысоким валом розовеющего пенистого прибоя дряхлыми стеклами своих городов.
Прибой, поднявшись, падал, грохоча, на пески. Водяная пыль оседала на листве платанов, и в прохладе садов открывался как будто знакомый и вместе с тем незнакомый город. И я гадал, что это за город: Анкона или Чивита-Веккья, Бордо или Роттердам.
Батум для меня, впервые попавшего к самым южным границам России, был городом необыкновенным, экзотическим, типично восточным.
Батум пропах кофе, вином и мандаринами. И только через два-три месяца у меня начало ослабевать пряное ощущение экзотики, ее терпкая оскомина, и я увидел за ней подлинную жизнь этого города. В нем никогда не затихала отнюдь не провинциальная культурная жизнь, а порт, как огромный конденсатор, стягивал к себе все рабочее население Батума.
В то время в Батум приходило из близкой Турции – из Ризе и Трапезунда (в Батуме говорили – Требизонда) – много фелюг с апельсинами и мандаринами. Пахучие цитрусы были навалены пирамидами на палубах фелюг, разноцветных, как пасхальные писанки.
Я часто видел одну и ту же картину: на апельсинах, покрытых циновкой, полулежали старые турки и пили, причмокивая, густой ароматический кофе.
Запах кофе распространяли не только фелюги, но и мелкая галька на берегу. На ней лежала кайма кофейной гущи. На этой кайме выделялись рваные оранжевые лоскутки мандариновых корок.
По вечерам фелюжники молились, сидя на горах апельсинов, на юго-восток, в сторону Мекки, вскидывая руки и припадая лбом к холодным апельсинам.
Там, где лежала Мекка, клубилась лиловая мгла, еще не прорезанная огнями звезд. Фелюжники верили, что за этой мглой льется райская река с лазурной водой – «река всех рек» Ковсерь.
Мне тоже хотелось бы верить в это, но мое сознание уже не могло вернуться к детским временам.
В то время я нелепо считал, что каждая новая мысль или крупица знания, приобретенная мною, является вкладом в общий итог культуры.
Да, Батум и батумский порт пахли мандаринами, нефтью и тиной.
Тина в изобилии висела темно-зелеными, почти черными космами на портовых сваях. Несмотря на то что ее непрерывно прополаскивала морская волна, тина не делалась от этого светлее и не теряла свой аптекарский запах.
В самом городе, подальше от порта, особенно на Приморском бульваре, напоминавшем променады Сингапура или Бомбея, стоял приторный запах магнолий, а за городом, по дороге на окраину Батума Барцхану, где жили Синявские, пахло из-за пыльных колючих изгородей шиповником.
«Это не мама»
Люсьена и Миша Синявские встретили меня в Батуме на пристани. Потом прибежал запыхавшийся Бабель. Он жил за городом, на Зеленом мысу, и приезжал в Батум на дачном поезде.
Синявские снимали маленькую застекленную террасу в Барцхане. Я поселился вместе с ними.
Так началась наша совместная жизнь – очень беззаботная, несмотря на то, что мы висели на волоске. Ни у Синявских, ни у меня не было денег, а у меня к тому же не было и «определенных занятий». Были только смелые планы.
Я надеялся, что мне удастся открыть в Батуме морскую газету вроде «Моряка».
Я просто тосковал по «Моряку». В то время я уже был захвачен газетной работой, ее горячими темпами, ее стремительным движением, ее тесным соприкосновением с бурлящей, ни на миг не затихающей жизнью народа, всей страны, всей Европы, всего мира.
Новые идеи, ворвавшиеся в сознание после революции, делали нас всех даже в собственных глазах представителями передового поколения. Мои надежды открыть в Батуме «свою», как я тогда говорил, газету объяснялись тем, что побережье Черного моря от Гагр до Батума было в ведении Союза моряков Грузии. Моряки эти, конечно, мечтали о собственной газете. Но пока что дальше моих разговоров об этом с комиссаром Союза моряков эстонцем Нирком дело не двигалось.
В утро моего приезда Миша Синявский вынул из фанерного шкафчика бутылку водки. На белой этикетке была изображена добродушная корова и было написано, что водка эта изготовлена на батумском заводе Артемия Рухадзе. Люсьена зажарила камбалу. Мы съели эту камбалу с мандаринами, запили водкой Рухадзе и были счастливы.
Счастливому нашему настроению способствовало все, что нас окружало, – прежде всего, сознание, что мы в субтропиках, где льется теплый дождь и где небо так густо обложено теплыми тучами (был уже октябрь), что сумерки висят над землей весь день. В их глубине медленно и торжественно раскатывало свои волны, добегая почти до порога нашей террасы, Черное море.
Мимо нас ехали арбы, нагруженные темно-лиловым виноградом «изабелла». У этого винограда, как мне тогда казалось, был вкус Испании.
Река Барцхана, бежавшая, курчавясь, по камням за частоколом нашего дома, несла в море желтые и пурпурные виноградные листья. Земля пахла кустарным вином.
После еды мы пили кофе, курили сухумский табак, вспоминали Одессу, и жизнь была прекрасна, как никогда. Особенно от запаха прибоя, шумевшего под бесшумным дождем.
Миша Синявский, высокий, несколько угрюмый и насмешливый человек, полный меткого юмора, придумал хорошее занятие. На стене своей террасы он повесил объявление, что делает увеличенные портреты с фотографий, и притом даже в красках.
К его удивлению, заказчик появился не только из Барцханы, но даже из Махинджаур и самого Батума!
Заказчик был простодушен, как дитя. Он относился к работе Миши, как к непостижимому чуду, как к божьему дару. Получая готовый портрет, он держал его осторожно, цокал от восхищения языком, качал головой и безропотно платил одну турецкую лиру (советских денег в ту пору в Батуме было еще мало, а грузинские боны не имели уже цены).
Одной лиры нам хватало на три дня. Но очень скоро в Батуме действительно открылась морская газета «Маяк», я тоже начал зарабатывать, и наша жизнь на дырявой террасе приобрела некоторые черты изобилия. Измерялось оно количеством мандаринов, папирос и банок со сгущенным кофе.
Однажды пожилой грек Яни, сапожник с базара Нури, заказал Мише портрет с фотографии своей мамы. И притом в красках.
Я рассмотрел фотографию и выяснил, что мама снималась в городе Воло в Греции в 1880 году и была невиданной красавицей. Она была похожа на ту гордую девушку во фригийском колпаке, что зовет людей на баррикады на картине Делакруа «Свобода ведет народ».
Множество медалей, полученных фотографом Метаксосом (из Воло) и изображенных на обороте этой фотографии, веселило меня.
Я даже как будто видел этого низенького, витиеватого прыщавого грека на высоких каблуках и в галстуке бабочкой. Он был, конечно, неслыханно галантен, как в самом Париже, и снимал клиентов в лимонного цвета лайковых перчатках (тоже как в самом Париже), чтобы ошеломить их провинциальные мозги и заставить раскошелиться.
Во время работы Миша любил сочинять о своих заказчиках всякие нелепые истории, чаще всего их биографии.
Люсьена готовила во дворе на мангале икру из синеньких или сациви (у нас теперь хватало иногда денег даже на сациви), обдергивала на груди короткую, расползавшуюся по швам кофточку и добавляла некоторые натуралистические подробности к этим словесным Мишиным портретам.
– Ты же забыл рассказать, – кричала она, – что этот твой красавец Метаксос носил розовые кальсоны цвета зардевшейся невесты! Они были вдвое шире его размера, и он застегивал их заржавленной английской булавкой!
Однажды нас застал за этим занятием Бабель. Он тотчас включился в игру и рассказал с необыкновенной пунктуальностью, какой Метаксос дурак.
Мы съели сациви, выпили бутылку водки «с коровой», после чего дощатая и хлипкая терраса показалась мне самым прекрасным местом для бесед, смеха и глубокого приморского сна.
Мы все были переполнены тогда верой в будущее и ощущением новизны своего времени.
Даже дождь, лупивший изо всей силы по стене, казалось, участвовал в наших разговорах.
А когда я выпивал немного больше, чем следует, мне начинало казаться, что дождь подслушивает нас, перестукивает на старой пишущей машинке все, что мы говорим, и из этой записи получится, в конце концов, интересная книга.
Разговоры не мешали Синявскому работать. Портрет «мамы» он сделал такой, что от него действительно трудно было оторваться. Особенно хороши были золотые глаза и немного приоткрытый рот. Казалось, что грудь гречанки тихо вздымается и с ее губ слетает душистое дыхание.
– За такой портрет, – сказал Бабель, – не грех взять и четыре лиры. Смотрите, Миша, не обмишурьтесь.
Наутро Миша понес портрет заказчику. Я пошел вместе с ним. Мы решили потребовать с сапожника три лиры. Потом остановились на двух.
Пожилой сапожник Яни жил в глубине ветхого и как бы театрального двора. Там носились с азартными криками греческие дети. Полные гречанки, положив на подоконники свои могучие груди, смотрели на нас из окон и посмеивались, обсуждая нашу наружность.
Сапожник Яни сидел во дворе у дверей своей лачуги. Рот его был полон деревянных гвоздей. Он выплюнул их и сказал нам: «Кала мера».
Миша, не торопясь, вынул портрет и, не выпуская его из рук, повернул лицевой стороной к сапожнику.
Тогда произошло величайшее чудо, какое может сотворить только высокое искусство, только живопись, равная по силе творениям лучших мастеров человечества, таких, как Боттичелли, Рафаэль или Вермеер Дельфтский:
Яни взглянул на портрет и зарыдал.
У себя за спиной мы услышали возбужденные возгласы гречанок, лежавших на подоконниках.
Я, не меньше сапожника восхищенный Мишиным искусством, все же не потерял здравого смысла, толкнул Мишу в бок и тихо сказал:
– Бери три лиры.
Мы ждали, когда Яни успокоится. Но он долго сморкался в фартук, всхлипывал и вытирал глаза рукавом.
За его спиной стояла маленькая и черная, как пережженная корка ржаного хлеба, женщина и тупо смотрела на мамин портрет. Это была жена Яни. Она одна не выражала восторга.
Наконец Миша решился и, уважая сыновние чувства Яни, мягко напомнил ему, что мы ждем и нам следует получить с него три лиры.
Тогда Яни начал качаться, как мусульманин, когда он совершает намаз, или гяур, когда у него болят зубы, обхватил голову руками, застонал и сказал злым и жалобным голосом:
– Это не мама! Это совсем не мама! И вы не получите ничего, потому что вы обманули бедного человека.
Мы оторопели. Во всем дворе наступила звенящая тишина. Двор ждал дальнейших событий.
– Как не мама? – спросил потрясенный Миша.
– Не мама! – закричал Яни и стукнул колодкой по табурету. Во все стороны полетели деревянные гвозди. – Мама была старенькая, седая. Я ее хорошо помню. Она умерла, когда мне было семь лет, а старшему брату было уже пятьдесят. А ты что сделал? Ты нарисовал какую-то девчонку-арфистку из ресторана «Мирамаре». Тьфу и тьфу! Забирай свой портрет и уходи. Еще требуешь три лиры! Три фиги ты получишь за этот портрет, аферист, а не три лиры!
Яни три раза показал Мише кукиш. Этого нельзя было вынести и нельзя было спустить безнаказанно.
Миша побагровел, схватил Яни за ворот, заставил встать и сказал тихо, но так, что было слышно во всем дворе:
– Ты что же? Подсунул мне карточку мамы, когда ей было шестнадцать лет, и хочешь, чтобы я сделал тебе столетнюю старуху?! Плати сейчас же, или я вытряхну из тебя душу!
– Это не мама! – снова пронзительно закричал Яни и начал извиваться в руках у Миши, пытаясь вырваться.
Несмотря на серьезность положения и угрозу остаться на время без хлеба, я прислонился к стволу сухой шелковицы во дворе и начал хохотать.
Тогда Миша выпустил сапожника, повернулся к окнам, где гроздьями висели жильцы, и крикнул:
– Граждане греки! Потомки великих людей! Что же вы смотрите на это безобразие?!
Тотчас поднялась буря. Из всех окон и дверей десятки голосов закричали:
– Яни, опомнись! Это же мама! Вылитая мама! Глупец! Настоящая мама! Сейчас же заплати человеку! Слышишь?
Несколько мужчин в одних жилетах выбежали во двор. Они трясли Яни за плечи и кричали:
– Ты позоришь, нас, Яни! Стыдись! Это же чистая мама! Нам будет просто приятно видеть ее каждый день. Такая красивая греческая женщина! Ай, какая красивая! Плати деньги и успокойся. Плати!
– Три лиры? – прохрипел с недоумением Яни и обвел всех покрасневшими глазами. – Не дам!
– Хорошо! – закричали греки. – Две лиры. Две! И пусть они уходят себе на здоровье, эти молодые люди!
Яни швырнул на стол две лиры. Миша взял их, и мы пошли, провожаемые дружными напутствиями обитателей дома.
Через полчаса выяснилось, что одна лира была фальшивая.
Вообще поддельных лир ходило по Батуми гораздо больше, чем настоящих. Поэтому в Батуме завели обыкновение при расплате писать на лирах свою фамилию, чтобы в случае подсунутой фальшивки вас можно было найти.
Но все лиры были уже так густо исписаны, что на них часто не оставалось живого места. Временами нельзя было даже разобрать достоинства денег. Особенно если во всех этих многочисленных автографах попадалась хотя бы одна надпись, сделанная химическим карандашом и расплывшаяся от дождя или хозяйского пота.
Но нам было не до того, чтобы требовать от сапожника подписи, и мы ушли, махнув рукой.
Дома был созван совет с участием Люсьены. Миша сказал, что будь он четырежды проклят, если еще хоть раз возьмется за увеличение фотографий. Всю жизнь он мечтал быть художником-архитектором, подобно Пиранези, чтобы работать в той же манере и довести ее до совершенства, а не писать портреты длинноносых восточных сапожников и их мам.
Люсьена сказала, что Миша – чудный парень, но как же они будут жить дальше?
Внезапно у меня появилась счастливая мысль. На нее натолкнуло меня посещение духана «Бабуля по-ре-цески».
Это название, коряво написанное на куске картона разноцветными карандашами, было загадочным и требовало лингвистических изысканий (или, как говорил Миша, «раскопок»), чтобы установить его происхождение.
Помог нам расшифровать вывеску духана батумский поэт Чачиков – изысканный, хотя и изрядно потрепанный рыцарь и бывший корнет. Он познакомился с Люсьеной на базаре и с тех пор непрерывно и притворно волочился за ней, прижимая обе руки к сердцу. На его руках висели тяжелые четки из черного янтаря.
Чачиков писал футуристические стихи о своем кавалерийском прошлом. Я запомнил некоторые из них. Однажды он читал их нам на Барцхане, сидя верхом на стуле и похлопывая стеком по лакированным крагам:
Что мне Аполлон и разные музы!
Я сам Аполлон в галифе!
В общем, он был добрый и храбрый малый, хотя и хвастун. Он любил рассказывать о своем детстве, проведенном якобы в Персии, в городе Мосуле. При этом он восклицал:
Хвала тебе, муслиновый Мосул,
Приют моих давно истлевших предков!
Чачиков без всякого труда расшифровал название духана.
– Бабуля, – сказал он, – это местное название рыбы барабули, или султанки. Самая вкусная рыба на Черном море. «По-рецески» это значит «по-гречески». Итак, вы сами догадываетесь, что полное название переводится так: «Султанка по-гречески». Этим блюдом славится вышеназванный духан.
Сидя однажды в этом духане, я заметил на стене над своим столиком портрет Кемаль-паши, вырезанный из газеты. Вокруг Кемаля детская неуверенная рука нарисовала венок из полевых маков.