
Лена Элтанг
Царь велел тебя повесить
Главный редактор: Татьяна Соловьёва
Редактор: Владимир Коробов
Издатель: Павел Подкосов
Руководитель проекта: Мария Ведюшкина
Художественное оформление и макет: Юрий Буга
Корректоры: Татьяна Мёдингер, Елена Рудницкая
Верстка: Андрей Фоминов
Иллюстрация на обложке: Getty Images
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Л. Элтанг, 2017
© Художественное оформление, макет. ООО «Альпина нон-фикшн», 2024
* * *
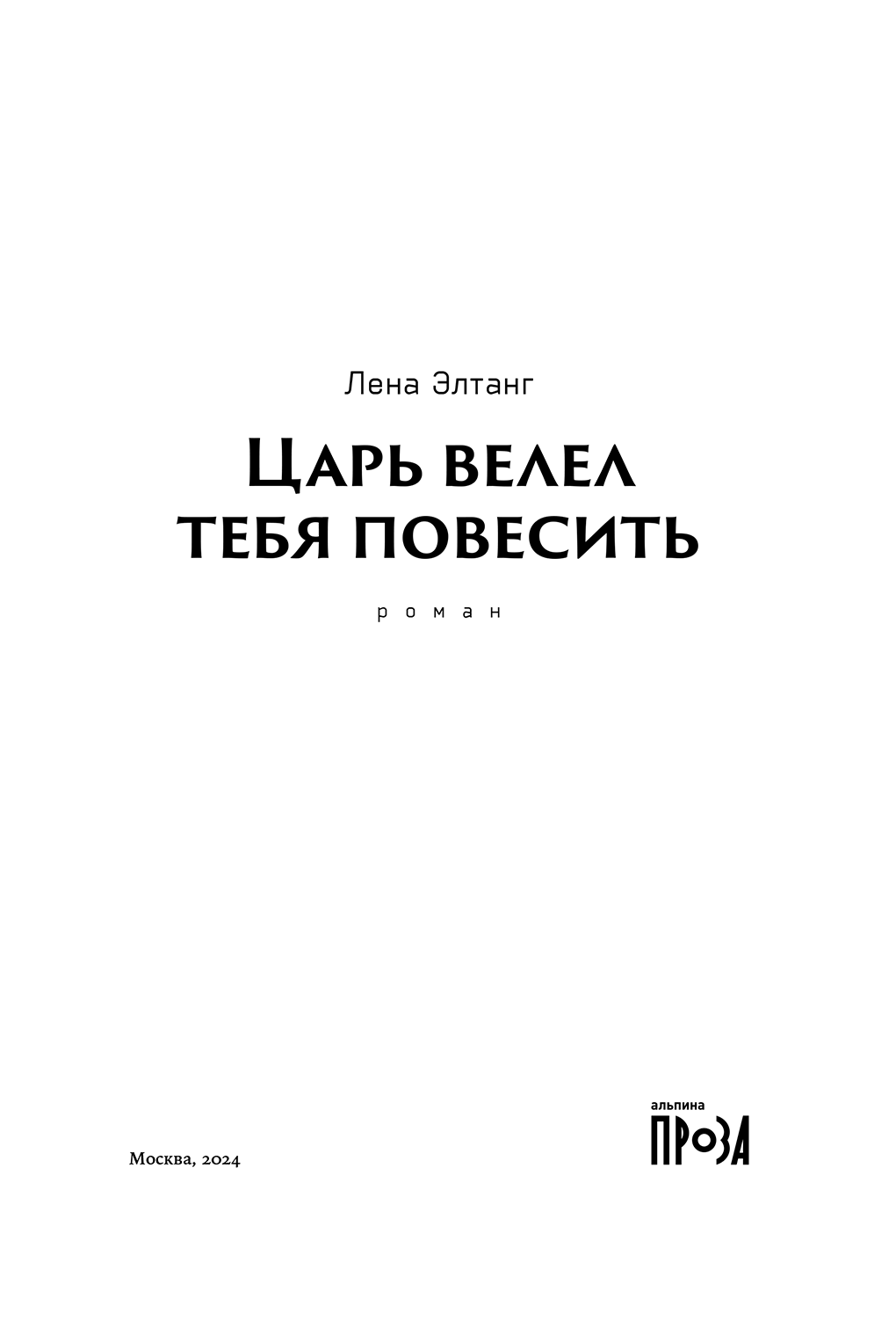
Вообразите себе общество, состоящее из таких людей, что
каждый любит только одного себя, а других только в той
мере, насколько они с ним составляют одно, – и увидите,
что любовь их та же, что между ворами…
СВЕДЕНБОРГ[1]
Глава первая
Schweinerei
Костас
Утром я впервые в жизни побрился ножом у ручья. Давно хотел это сделать. Вода была родниковая, ледяная, но я выкупался, натянул свитер и выпил кофе из маленького красного термоса, который сунул мне в руки хозяин кафе «Канто», когда я сказал, что ударяюсь в бега. Встретив его недоверчивый взгляд, я добавил, что он может взять себе дверные ручки, уцелевшие при пожаре, каминные решетки и все, что найдет там полезного. Если поймают, накинут еще год к твоим четырем, сказал хозяин кафе, а то и три.
Я думал об этом, стоя на обочине шоссе E1, еще не просохшего от ночного дождя. Если поймают, то выйду я нескоро, на европейских купюрах будет нарисован кто-то другой, может статься, самой Европы уже не будет, и вполне вероятно, что не будет бумажных денег вообще. Я не так долго сидел, чтобы запаршиветь, но успел пропитаться сырым тюремным отчаянием, придется просушить его в дороге, на апрельском ветру.
Все беглецы попадаются рано или поздно, если хотят сообщить о себе друзьям или семье. У меня нет ни друзей, ни семьи, думал я, поднимая большой палец и улыбаясь водителям, так что я не попадусь. В семь часов меня подобрал грузовик, направлявшийся на север, так что я сошел возле Карвалейры, когда солнце еще не достигло зенита. До испанской границы оставалось полдня пути.
Я нашел укромное место за кустами можжевельника, собрал ветки и развел небольшой костер, чувствуя себя солдатом, отбившимся от роты в глухом лесу, нет, скорее – новобранцем, проснувшимся на опустевшем биваке, где еще не успела остыть зола. Недоумение, которое поселилось во мне зимой, все еще холодило мне ребра, но страх и тревожность меня покинули. С тех пор, как я увидел обгорелые стропила и почуял запах погубленного жилья и жирной земли. С тех пор, как во мне поселилась ярость.
Согревшись, я выложил все, что было в карманах, на траву и перебрал свое имущество. Что у меня в дорожной сумке, я и так знал: две рубашки, компьютер, бритвенный помазок, футболка с надписью «Azuis e Brancos» и фаянсовая кукольная голова. Когда за мной пришли, сестра набила сумку чем попало, хотя торопиться было некуда, полицейские спокойно ждали, когда я буду готов.
В карманах обнаружился паспорт убитого друга, две сотенные купюры, спички, разбитый телефон и нож, который я присвоил вчера на кухне мотеля.
В Лиссабон я больше не вернусь, а бежать лучше всего налегке. Вот сидеть – другое дело. В камере каждая вещь, карандаш или обмылок, становится знаком, подтверждающим существование свободы. Пачка оберточной бумаги, на которой я писал в сетубальской тюрьме, была украдена, когда соседям по камере передали рассыпной табак. Все свое носи с собой!
За зиму я многое понял про тюремную жизнь. Если ты думаешь, что тебя заперли, попробуй открыть дверь. Не переставай говорить вслух, а то забудешь, кто ты такой. Если ты сидишь в тюрьме, это не значит, что ты совершил преступление.
* * *
Когда они пришли за мной в первый раз, все произошло как в фильме братьев Люмьер: быстро, в черно-белом мерцании. Паровоз летел мне в лицо, я задыхался, наглотавшись угольной пыли, а статисты прохаживались по квартире, будто носильщики по перрону. Я ждал их уже давно, и вот они пришли.
Полицейских было четверо: трое разбрелись по дому, а инспектор постучался ко мне в спальню и, не дожидаясь ответа, открыл дверь. Вместе с ним зашла настороженная Байша со стаканом молока.
– Константин Кайрис? Я инспектор полиции. Одевайтесь.
Разговаривать с инспектором, бесцветным, как глубоководная рыба, мне пришлось на кухне. Сначала мы долго молчали: он рылся в портфеле и прихлебывал молоко, а я слушал, как полицейские швыряют на пол книги и скрипят дверцами платяных шкафов. Один из них вошел в кухню и выложил на стол пакетик с травой и грубо оторванную видеокамеру. Инспектор нахмурился и одним глотком допил молоко.
– Кино снимаете, Кайрис?
В столовой раздался обиженный звон. Похоже, там уронили музыкальную шкатулку с грифонами, жаль, что я ее вовремя не продал. Через минуту зашел сержант с плотно набитым конвертом, который я вчера приготовил для посредника.
Инспектор поставил портфель под стол, разложил бумаги и достал карандаш, движения его были плавными, но значительными, как у танцора фламенко. Потом он заглянул в конверт, присвистнул и, не пересчитывая денег, сунул его в папку, а папку положил в портфель.
– Я должен подписать акт об изъятии? – мой вопрос заставил его поднять глаза. – У вас есть санкция прокурора?
– Бумагу выпишут только завтра. Но если вы не будете сотрудничать, то мы проведем обыск как следует: вскроем полы, разломаем мебель и пустим пух из всех подушек.
– Ясно.
– Предлагаю вам сдать оружие, а также предъявить имеющиеся в доме ценности. Мы все равно вас сегодня заберем, для этого у нас есть основания.
Он говорил так нудно и размеренно, что я поверил. Ясно, что у них появился подозреваемый номер один: сомнительный иностранец, у которого дом набит гаджетами для слежки.
– Я буду сотрудничать.
– У вас имеется армейский пистолет «Savage М1917» с инкрустацией и наградной надписью на рукоятке?
– Был такой. Он принадлежал хозяину дома, сеньору Браге.
– Вы знаете, что им воспользовались в преступных целях?
– Знаю. Несколько недель назад. Но я не имею к этому отношения.
– То есть вам известно про убийство? Вы употребляете наркотики, Кайрис?
Я услышал тихое фырканье, обернулся и увидел свою служанку Байшу, стоящую в дверях. Уставившись на следователя, она вынимала из волос бумажные бигуди и складывала в карман халата.
– Какое вам дело? Я заявляю протест. Занесите это в протокол.
– В протокол заносятся только процессуальные действия. А также изъятые ценности с точным указанием их количества и стоимости. Протесты сможете обсудить со следователем. Собирайтесь.
– Я могу взять компьютер и телефон?
Инспектор пожал плечами, сунул бумаги в свой портфель, разваливающийся, будто обугленное полено, и окликнул полицейского:
– Что вы там возитесь, сержант? Выводите задержанного.
– Одну минуту, капитан. Тут какое-то устройство в кладовой и куча проводов на полу. Мне отключить провода и принести этот ящик?
– Ничего не трогайте! – Инспектор поставил портфель на пол, поднялся и направился в кладовку. Я соскользнул под стол, дотянулся до папки, торчащей из портфеля, нащупал в ней конверт, вытянул деньги, примерно половину, и сунул их за пазуху.
Байша внимательно смотрела в окно, на затылке у нее сидели две папильотки-лимонницы. Инспектор недовольно гудел за дверью, я услышал звук бьющегося стекла и хруст стеклянной пыли под каблуками. Похоже, они наткнулись на сервер, стоявший в кладовке за плотным строем банок из-под теткиного варенья. Банки были пустыми, последнюю мы с Байшей раскупорили в четырнадцатом году, это были маленькие зеленые абрикосы.
* * *
Когда меня вывели из дома, инспектор повернул рубильник на лестничной площадке, закрыл дверь моим ключом и опустил всю связку в карман моего пальто. Руки у меня были скованы за спиной, наручники надели еще в прихожей, а один из полицейских придерживал сзади за плечо, как будто мне было куда бежать.
Байша успела повязать мне на шею теплый шарф, и я боялся, что он развяжется и упадет. В машину меня сажали с церемониями, зачем-то пригибая голову рукой, хотя дверца фургона была довольно высокой, в человеческий рост.
Этот жест напомнил мне движение конюха на ипподроме, которое я подсмотрел, когда был там прошлой зимой с Лилиенталем. Мы искали жокея, который должен был подсказать пару верных ставок, и долго бродили в пропахших мокрыми опилками закоулках конюшен. Наконец мы вышли к манежу и увидели, как мохнатого пони гоняют по кругу вдоль проволочного забора.
Когда жокей услышал свое имя, он спешился и подвел лошадку ко входу, чтобы с нами поздороваться. Я заметил, что он пригнул голову пони рукой в перчатке и стоял так, не отнимая руки все время, пока с нами разговаривал. Поймав мой взгляд, он сказал, что делает это не со зла, а затем, чтобы лошадь знала, что до стойла еще далеко и хозяин требует покорности.
В полицейском фургоне не было окон, и я смотрел в затылок инспектора, маячивший впереди, за узким грязноватым окошком. Затылок был приплюснутым, что говорит о жадности и упрямстве, а шея была кривой, что свидетельствует о живом уме. Осталось узнать, будет ли он зверствовать на допросе, подумал я, но тут машина замедлила ход, стукнули ворота, инспектор обернулся и кивнул мне на прощанье:
– Идите, Кайрис. Дальше без меня.
Сержант дал мне знак выходить из фургона и повел вперед, пригнув мою голову рукой в перчатке, так что я увидел только дорогу, засыпанную гравием, и ступени крыльца. У двери я поднял голову и прочел: полицейский департамент номер шесть. И чуть пониже: калсада дос Барбадиньос.
Странно, что мы ехали так долго, в этом районе мне приходилось бывать у знакомого антиквара, и я ходил сюда пешком, с парой подсвечников под мышкой или граненым графином, завернутым во фланель. Тогда я только начал распродавать свой дом по кускам и немного стеснялся.
На крыльце сержант вдруг скривился, как будто вспомнил что-то неприятное, достал из кармана бумажный мешок, расправил и ловко надел мне на голову:
– Извини, брат. Такие здесь порядки.
Я спокойно стоял у двери, прислушиваясь к его удаляющимся шагам. Хлопнула автомобильная дверца, кто-то засмеялся, потом завелся двигатель, зашуршал гравий. Почему они повезли меня на северо-восток, разве в алфамском участке нет своего отдела убийств? Дверь открылась, меня взяли за наручники и потянули внутрь. Конспираторы хреновы, начитались про Гуантанамо, сказал я тихо и тут же получил тычок под ребра.
Похоже, отсюда дорога только в аэропорт и домой, в тюрьму на улице Лукишкес, думал я, медленно продвигаясь по коридору. Конвойный придерживал меня за плечо и предупреждал: лестница, стоять, направо.
Я ожидал жестокого допроса, но меня отвели на второй этаж, стянули с головы мешок, втолкнули в камеру с бетонной скамейкой, сняли наручники и оставили одного. Даже обыскивать не стали, а могли бы неплохо поживиться.
Сидеть на бетоне было холодно, так что я стал ходить вдоль стены, зачем-то считая шаги; через три тысячи шестьсот шагов мне принесли одеяло и матрас, набитый чем-то вроде гречневой шелухи. Я вытянулся на матрасе лицом к стене и закрыл глаза.
Подумаешь, бетонная скамья. В позапрошлом году, когда я был во Флоренции, мне приходилось спать на антресолях шириной с половину плацкартной полки. Так вышло, что я жил в дешевой квартире в районе реки Арно, спальни там вообще не было, а на антресоли вела шаткая лесенка.
Я долго не мог привыкнуть и часто бился головой о дубовую перекладину потолка. Через две недели мне показалось, что на балке образовалась вмятина. Меня это почему-то обрадовало: те, кто поселится здесь после меня, будут смотреть на вмятину и усмехаться, думая о прежнем постояльце.
Засыпая, они будут думать обо мне – вот что меня тогда волновало, поверить не могу.
* * *
В жизни все – либо предупреждение, либо повод, говорила бабушка Йоле, тогда это казалось мне бессмысленным набором слов. Каким предупреждением был ее последний подарок?
Йоле была прижимиста и всегда заворачивала подарки сама. Однажды, развернув ее пергаментный пакетик, я обнаружил там грубошерстные армейские носки, дырочка на пятке была аккуратно заштопана. Кто бы сказал мне тогда, что за такие носки я бы полгода жизни отдал в этой сырой, как долина тисов, тюрьме?
Повод или предупреждение? Если бы в тот день, когда я увидел Лиссабон впервые, кто-то сказал мне, что я буду сидеть за решеткой в районе грузового порта, я бы точно не поверил. Мне было четырнадцать, мы с сестрой стояли на террасе и стреляли из лука с бельевой резинкой вместо тетивы, стараясь попасть в фонтан, прямо в шершавую голову лосося.
Агне не знала ни одного литовского слова, хотя у нее было древнее имя и волосы цвета пожухшего сена, еще светлее, чем у моего школьного друга Лютаса. Удивительное дело, вокруг меня всегда, с самого детства, роятся светловолосые люди, будто стеклянные мотыльки Palpita vitrealis.
Так вышло, что до приезда в Лиссабон я ни разу не видел своей сестры. И ее матери, которая так смешно писала свое имя – Zoe, тоже не видел. В твоей тетке нет ни капли литовской крови, шепнула мне мать, когда мы стояли на балконе алфамского дома, седьмая вода на киселе, странно, что она вообще нас пригласила. Она русская с ног до головы!
Я невольно обернулся и посмотрел на тетку через стеклянную дверь. Голова у нее была маленькой и гладкой, в те времена она заплетала косы и стягивала их в узел, узел лежал на смуглой шее и пушился, будто кокосовый орех. Зое сидела в кресле-качалке, а муж разминал ей ступни, устроившись рядом на полу и совершенно нас не стесняясь.
Тем летом я старался не носить очков, поэтому разглядеть тетку как следует не сумел. Сначала мне показалось, что ее лицо сияет дымчатым светом, будто кристалл кварца, но потом я понял, что свет проходит через витражное стекло.
Если бы Фабиу знал, что не пройдет и шести лет, как я буду ночевать с его женой в номере эстонского отеля «Барклай», он бы, наверное, здорово удивился. Он умер задолго до того, как это случилось, и тем самым лишился возможности отволочь меня на агору и засунуть в задницу колючую рыбину, а потом засыпать согрешившие части тела горячей золой – так в старину полагалось поступать с прелюбодеями.
Он умер в девяносто восьмом. В этом году в Альпах лавина накрыла группу школьников, в литовской деревне поляк убил девятерых людей и собаку, немецкий поезд врезался в мост, англичане отменили смертную казнь, а я поступил в университет и поселился в облупленном общежитии на улице Пяльсони.
Я читал «Введение в египтологию» и ходил в гости к двум однокурсницам, снимавшим на окраине домик с печкой, потому что в общежитии было холодно и дуло изо всех окон. По дороге к девушкам я отрывал доски от заборов или воровал угольные брикеты, однажды за мной погнался хозяин, кричавший: «Куррат! Куррат!» – я бросил брикеты и побежал – просто чтобы доставить ему удовольствие.
Зое
Шла Федора по угору, несла лапоть за обору, обора порвалась, кровь унялась. Когда таблетки не помогают, я ложусь в шавасану и вместо мантры читаю это громко и нараспев. Мне грустно думать, что ты застанешь дом в запустении, я знаю, что ты его любил. С тех пор как настоящие хозяева умерли, он тихо гневался и хирел, обдираемый скупщиками. Его защитные листья осыпались один за другим, и вскоре кое-где показалась кочерыжка: белые стены и ясеневые доски пола.
Иногда я захожу в кабинет и смотрю на письменный стол Фабиу, в два ряда заставленный музыкальными шкатулками. Я думаю о золочении, зазубринах и зубчиках, хотя не уверена, что точно помню пояснения мужа. Механизм приводится в движение стальной пружиной, говорил он, поглаживая австрийскую «August Bartle», на внутренней стороне крышки там был листочек с программой, только Штраус, четыре песенки.
Чем больше пружина, тем дольше играет музыка, говорил Фабиу, поглядывая на меня со значением. Он любил сравнения в духе Джона Клеланда, всякие там мускусные чары, мятные неистовства и синее газовое пламя в очах. Наша с ним шкатулка оказалась самой недолговечной, и музыка в ней была предсказуемая, размеренная и плавная: какой-нибудь «Fra Diavolo Cotillon» op. 41. Пружина лопнула в девяносто восьмом, когда Фабиу повесился перед дверью материнской спальни.
В спальню Лидии я давно не захожу, закрыла ее на ключ сразу после похорон, там, наверное, пыли по колено. Пыль в этом доме не слишком похожа на пыль, она не собирается в серые комочки, а лежит на всех поверхностях ровным слоем, светлая и шелковистая, будто викторианская пудра.
* * *
Косточка, не стесняйся, если будешь голодать, продавай все, что найдешь, и портреты предков, и мейсенские лампы, тут еще надолго хватит!
Сегодня приезжал антиквар, служанка собрала для него чайный сервиз от «Vista Alegre», завернула каждую чашку в газету, полдня просидела над этой коробкой, кряхтя и ругаясь. Я для нее что-то вроде демона-разрушителя, на моей совести падение дома Брага, а она служила им триста лет и три года. Возьми ее к себе, без нее дом проглотит тебя и не поперхнется. Не гони старуху, обещаешь?
Воспоминания как чужие векселя, прочла я в одном из романов, купленных на распродаже в разорившемся книжном на улице Элиешу. В горькие дни можешь ими рассчитываться, и пока тебе есть чем платить – ты в силе, у тебя полный рукав козырей. Есть ли у тебя воспоминания, Косточка? Если нет, то пусть у тебя будут мои, засунутые в ребристую железную коробочку с двумя красными кнопками on и off.
Нет, тут есть еще одна кнопка: пауза. Я только что ее обнаружила. Обычно я говорю с тобой не прерываясь, пока не устану, но тут мне вдруг страшно захотелось есть, я встала, прошла на кухню, держась руками за стену, нашла там принесенный служанкой сверток и развернула коричневую бумагу.
Точно в такую бумагу заворачивали горячий хлеб в тракайской пекарне: мы с твоей мамой ездили на озеро, покупали две свежие булки напротив замка и съедали их, глядя на уток. Крошить хлеб в воду было нельзя, за этим следил с башни замковый сторож; заметив нарушителей, он с грохотом сбегал по винтовой лестнице и принимался ругаться: ах вы змеи, лягушки, или вы читать не умеете? В литовском языке нет крепких ругательств, это делает его галантным и немного a moda antiga.
В служанкином свертке оказался подсохший бисквит и яблоко, я вернулась с ними в кровать и вспомнила, как мы грызли с тобой крекеры в гостинице «Барклай». Вся постель была в крошках. Сначала шел мокрый снег, потом началась метель, и мы провели день в номере, попивая коньяк и слоняясь в стеганых одеялах, как два веселых привидения.
– Однажды, когда вас с Фабиу не было дома, – сказал ты тогда, – я зашел к тебе в спальню и забрался под твое одеяло. На одеяле были разбросаны вещи, приготовленные для стирки, я запомнил, как они лежали, и потом разложил в таком же порядке. В этом было больше смысла, чем во всех свиданиях с Агне под роялем, вернее под лысым персидским ковром.
– Ты встречался с моей дочерью под роялем?
– И под роялем, и во всех темных углах, где она меня заставала. Она научила меня целоваться с открытыми глазами. Кстати, твои хваленые ковры были испорчены старой собакой и сыростью. От них воняло, как от клетки с опоссумом.
– Этого не могло быть! – воскликнула я горестно. – Я бы почуяла. Скажи, что ты врешь!
И ты сказал, что тебе стоило.
Костас
– Эти видеокамеры принадлежат вам? – следователь вертел проводок между пальцами.
Я уже знал, что его фамилия Пруэнса, лицо у него было крупное, холеное, оно показалось мне смутно знакомым, как будто я видел его раньше, но мельком, на улице. В кабинете было нетоплено, я сидел на железном стуле и дрожал от холода, а он накинул на плечи твидовое пальто.
– Я уже говорил, что нет. Это собственность Лютаса Раубы. Он собирался снимать кино и оставил у меня часть оборудования.
– То есть вы подтверждаете, что были знакомы с Раубой, гражданином Литвы? – Он нажал кнопку на сером диктофоне.
– Разумеется, с самого детства. Теперь скажите, где я нахожусь. И в чем меня обвиняют?
– Вы находитесь в следственной тюрьме, задержаны по подозрению в убийстве. Адвоката вам на днях предоставит центр помощи иммигрантам. На вашем месте я бы начал сотрудничать со следствием прямо сейчас.
Некоторое время я сидел молча, придумывая, как лучше повести разговор. Начать рассказывать всю правду? Молчать, пока не придет адвокат? Да ладно, у них уже все решено, либретто написано, дирижерская палочка летает сама по себе, и мне остается только представлять себе музыку, вернее, ту особую пустоту оркестровой ямы, где вразнобой звучат какие-то сигналы, то шелест, то жестяные стуки, то виолончельный плеск.
– Вы готовы? – Пруэнса барабанил пальцами по старомодному гаджету, записывающему наше молчание. Точно такой же, только черный, я нашел в теткином столе, когда разбирал ее бумаги. Когда я включил его, то на несколько минут перестал дышать, как будто оказался под водой с открытыми глазами.
В моем доме полно тайников, он состоит из них, как вселенная из фрактальных уровней, так что я наткнулся на диктофон только весной две тысячи девятого. До этого я держал закрытой комнату, где Зое умерла. Я лег на пыльные простыни, которые ничем не пахли, кроме аптекарской дряни, и стал слушать теткин голос, слабый, ускользающий, то и дело прерываемый кашлем.
Я всегда немного стыдился наших голосов. Наши голоса были словно два пищика в животах у площадных кукол. Мы были одно, а наши речи – другое. За все время, что я провел с ней рядом – в постели, за столиком кафе, на автобусном вокзале, – я ни слова не сказал своим голосом, я то смущался, то наглел, то пыжился, то защищался, я все время был занят. И она тоже.
Черный диктофон, вот чего мне не хватает в этой тюрьме. Когда за мной пришли на руа Ремедиош, я не взял ни одной нужной вещи, так и ушел в пальто и ботинках на босу ногу. Сидя напротив инспектора, я ждал, когда один из полицейских поднимется на второй этаж и крикнет оттуда: «Пришлите дактилоскописта! Я нашел пятна на стенах от мыльной воды и уксуса!»
Но никто не крикнул, меня довольно быстро вывели из дома и отправили в участок, так что, подумав хорошенько, я понял, что locus delicti никого не интересует. Я понятия не имел, куда делась Додо, где скрывается остальная шайка и что надо говорить, чтобы мне здесь поверили.
Стратагема: обмануть императора, чтобы переплыть море. Если мне поверят, я сяду в тюрьму за соучастие и сокрытие улик, если не поверят – сяду за убийство. Для каждой свиньи наступает день ее святого Мартина, как сказал один испанец, побывавший в плену. Мать испанца, добрая донья Леонор, выкупила его за две тысячи дукатов. На мою мать надеяться точно не стоит.
* * *
Было время, когда моим лучшим другом был Лютас из флигеля – так его звали во дворе, потому что он жил в деревянной пристройке с печью. А меня звали Косточка, я начисто забыл это прозвище и вспомнил только недавно, когда начал слушать теткины записи. Приятно, что для кого-то я остался вишневой косточкой, хотя давно уже стал черной костью, твердым и грязным мослом, обглодышем.
В девяносто пятом Лютас провожал меня в Лиссабон: мы сидели в нашем подъезде на подоконнике и пили горькую настойку. В тот день он принес мне свою кожанку, шоферскую, чтобы я не позорился за границей, а в придачу – горсть эстонских денег, которые он выменял в школе на марки.
Эстонцы только что отчеканили белые однокроновые монетки, чудесно совпадающие по размеру с немецкой мелочью. Во Франкфурте у нас была пересадка, так что я потихоньку обобрал автоматы в зале ожидания, набив карманы сигаретами и пакетами соленого миндаля.
Я никогда не задумывался о мужской красоте, пока не увидел Лютаса, я вообще думал, что красота – это то, что бывает у взрослых женщин и у старинных вещей. Весь остальной мир я делил на то, что выглядит мерзко, и то, что можно потерпеть.
Когда я увидел Лютаса в первый раз, то подумал, что это девчонка: слишком уж ловко сидели на нем джинсы, слишком светлой была кожа, да и волосы были подозрительно чистыми. В тот же вечер мы подрались, и он оказался крепче и свирепее меня, даже зубы в ход пустил. Помирившись, мы совершили справедливый обмен: я дал ему рамку с четырьмя бражниками, а он мне – гнездо славки, выложенное конским волосом.
Мы звали друг друга бичулис, с литовского это переводится как «приятель», но не только: так называют друг друга пасечники, владеющие общими пчелами. Бите означает «пчела», у моего двоюродного деда на хуторе их было видимо-невидимо. После дедовой смерти его дряхлый бичулис с соседнего хутора сразу пришел за ульями, постучал по ним палкой и сообщил, что забирает их на свою пасеку, мол, так по традиции положено.
Когда я сказал, что провалился на филфак и поступил на исторический, Лютас даже не удивился, похоже, он не видел разницы между лингвистом и медиевистом. Они с Габией целыми днями пропадали на городском пляже, где был ларек с чешским пивом: пиво остужали, опуская бутылки в авоське в речную воду.
Иногда Лютас звал меня с собой, и я не отказывался, хотя валяться на одеяле рядом с Габией, затянутой в тесный купальник, было выше моих тогдашних сил. У меня мутилось в глазах каждый раз, когда она открывала рот, чтобы сунуть за щеку леденец. Теперь-то я знаю, что греческое χάος имеет общий корень с глаголом «разевать» – неважно что, девичий рот или пасть звериную.
В пятом классе мой друг затеял угнать антикварный соседский «виллис», давно дразнивший нас сиденьями из потертой рыжей кожи, похожими на чемоданы из шпионского фильма. Лютас забрался внутрь и завел мотор, а я стоял на стреме. Мы катались до утра, доехали до Тракайского озера, где мотор всхлипнул в последний раз и заглох, пришлось возвращаться в город ранним автобусом, полным старушек с корзинками; в корзинках виднелись свекольная ботва и молодые шершавые огурцы.
В полдень хмурый сосед позвонил в нашу дверь, поговорил с матерью, и она закрыла меня до вечера в чулане, где с потолка спускалась лампочка на сорок ватт. Обыскав все как следует, я нашел на антресолях пачку бухгалтерских книг в проеденных мышами переплетах. К одному из гроссбухов был привязан химический карандаш на веревочке, совсем целый.
Я сел на стул, вырвал из тетради исписанный синими цифрами листок и начал сочинять рассказ о двух мальчишках, угнавших генеральскую машину, добравшихся на ней до Варшавы и гуляющих там с паненками по кофейням. Часам к восьми вечера я извел карандаш и принялся искать что-нибудь съестное. Потянув коробку с консервами с верхней полки, я обрушил на себя тяжелую залежь холщовых мешков, поднял тучу пыли и закашлялся.
– Это кто там шебуршит? – строго спросили за дверью. – Уж не вор ли забрался?
Я узнал голос доктора Крейвиса, любовника матери, обрадовался и подал голос, надеясь, что он сходит за ключом. Но не успел я закончить фразу, как раздался глухой звук, будто ударили ногой по плохо надутому мячу, дверь открылась, и Крейвис возник на пороге, белея в сумерках своим безупречным халатом.
– Ты что здесь делаешь? В индейцев играешь?
– Меня мать закрыла. – Я сунул листки с рассказом за пазуху и быстро протиснулся мимо него.
– Закрыла? Дверь-то не заперта! Ишь послушный какой. Я бы давно удрал, будь я на твоем месте.
Ну нет, думал я, сбегая по лестнице, только не на моем месте. С доктором я бы не стал меняться местами, от него пахло разведенным спиртом и дегтем, а недавно он купил себе «трабант» и теперь проводил воскресенья, разглядывая его усталые внутренности. К тому же, будь я доктором, мне пришлось бы, чего доброго, полюбить мою мать.
* * *
Вещи обманывают нас, ибо они более реальны, чем кажутся, писал Честертон. Настоящие вещи живут в скрытой возможности, а не в свершении, вроде пачки бенгальских огней или пакетика семян.
Отбери у меня возможность погружать пальцы в клавиши и водить глазами по буквам, и я с ходу погружусь в кипяток действительности, как те крабы, что водятся в мутной воде у портового причала возле кафе «Алмада». Раньше их ловили прямо с веранды кафе, отрывали клешни и бросали обратно в воду. А клешни варили в чане с кипятком.
Стоит мне завидеть свою сноровистую кириллицу, черных жуков на светящемся поле, как у меня отрастают клешни, и я оживаю, соскальзываю в воду и боком, боком ухожу на свое придуманное дно. Существуем только я и кириллица, латинские буквы недостаточно поворотливы, они цепляются за язык, будто гусиное перо за пергамент, русский же лежит у моей груди, в особенной впадине диафрагмы, к ней мужчины прижимают чужое дитя, пока мать отошла в парадное подтянуть чулок: прижимают крепко, держат неловко, но с пониманием.
На четвертый день меня вызвали к Пруэнсе во второй раз, и я готов был поцеловать ему ботинок за то, чтобы мне вернули компьютер, хотя бы на пару дней.
– Вы признаете свою вину, – произнес он, и я увидел эту фразу в воздухе между нами будто всплеск серпантина. Вопросительного знака я не увидел: либо у следователя не было ко мне вопросов, либо он знал все ответы наперед.
Что до меня, то я так долго ждал вызова в этот кабинет, что готов был говорить о чем угодно: о Реконкисте, о ценах на бензин, о новом тренере лиссабонской команды. Однако Пруэнса замолчал и принялся заполнять какие-то пробелы в моем досье, а я получил возможность его рассмотреть. Для полицейского он был слишком выразителен: яркие желудевые глаза, выпуклые губы, бритое актерское лицо.
Минут через десять в кабинет вошел человек в синей форме, сел боком на стол следователя и принялся качать ногой. Потом пришли еще двое, и я подумал, что народу в кабинете многовато для простого допроса.
– Вы поедете на опознание, Кайрис. У вас крепкий желудок? – Пруэнса отхлебнул чаю и улыбнулся.
– Я уже видел ее труп. Я видел, как ее убили, но не смог разглядеть того, кто стрелял. Я также видел, как тело прятали в мешок для мусора. Не надейтесь, что в морге я признаюсь в том, чего не делал.






