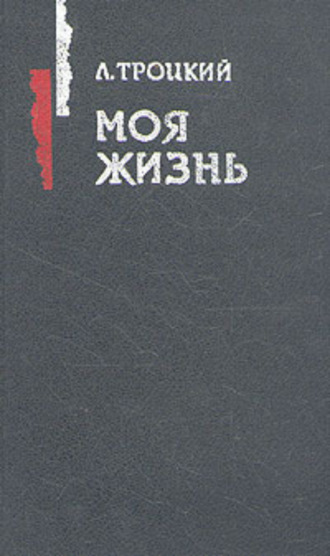
Лев Троцкий
Моя жизнь
Еще со времени моей первой эмиграции родители начали выезжать за границу. Они были у меня в Париже, затем приезжали в Вену с моей старшей девочкой, которая жила у них в деревне. В 1910 г. они прибыли в Берлин. К этому времени они уже окончательно примирились с моей судьбой. Последним тяжеловесным доводом была, пожалуй, моя первая книга на немецком языке. Мать была тяжко больна (actinomicosis). Последние десять лет своей жизни она несла свою болезнь как дополнительный груз, не переставая работать. Ей удалили в Берлине почку. Матери было 60 лет. В первые месяцы после операции она расцвела. Случай этот приобрел довольно широкую известность в медицинском мире. Но болезнь скоро вернулась и в несколько месяцев унесла ее. Она умерла в Яновке, где провела свою трудовую жизнь и где вырастила детей.
Большая венская глава моей жизни была бы неполна, если бы я не сказал, что ближайшими нашими друзьями в Вене была семья старого эмигранта С. Л. Клячко. Вся история моей второй эмиграции тесно переплетается с этой семьей, которая была подлинным очагом широких политических и вообще умственных интересов, музыки, четырех европейских языков и разнообразных европейских связей. Смерть главы семьи, Семена Львовича, в апреле 1914 г. была для меня и моей жены большим горем. Лев Толстой писал о своем богато одаренном брате Сергее, что тому не хватало только некоторых мелких недостатков, чтобы стать большим художником. Это можно сказать о Семене Львовиче: у него были все данные для выдающегося политического деятеля, кроме необходимых для этого недостатков. В семье Клячко мы всегда находили и помощь, и дружбу, а мы часто нуждались и в том и в другом.
Мой заработок в «Киевской мысли» был бы вполне достаточен для нашего скромного существования. Но бывали месяцы, когда работа для «Правды» не давала мне возможности написать ни одной платной строки. Тогда наступал кризис. Жена хорошо знала дорогу в ломбард, а я не раз распродавал букинистам книги, купленные в более обильные дни. Случалось, что наша скромная обстановка описывалась на покрытие квартирной платы. У нас было двое маленьких детей и не было няни. Наша жизнь ложилась двойной тяжестью на мою жену. Но она еще находила время и силы помогать мне в революционной работе.
Глава XVIII. НАЧАЛО ВОЙНЫ
На венских заборах появились надписи: Alle Serben muessen sterben. Это стало кличем уличных мальчишек. Наш младший мальчик, Сережа, движимый, как всегда, чувством противоречия, возгласил на знверингской лужайке: «Hoch Serbien!» Он вернулся домой с синяками и с опытом международной политики.
Бьюкенен, бывший британский посол в Петербурге, с восторгом говорит в своих мемуарах о «чудесных первых днях августа», когда «Россия казалась совершенно преображенной». Подобный же восторг можно найти в мемуарах и других государственных мужей, хотя бы они и не с такой полнотой, как Бьюкенен, воплощали самодовольную ограниченность правящих классов. Во всех европейских центрах стояли одинаково «чудесные» дни августа, все страны вступали «преображенными» в работу своего взаимоистребления.
Особенно неожиданным казался патриотический подъем масс в Австро-Венгрии. Что толкало венского сапожного подмастерья, полунемца-получеха Поспешиля, или нашу зеленщицу фрау Мареш, или извозчика Франкля на площадь перед военным министерством? Национальная идея? Какая? Австро-Венгрия была отрицанием национальной идеи. Нет, движущая сила была иная.
Таких людей, вся жизнь которых день за днем проходит в монотонной безнадежности, очень много на свете. Ими держится современное общество. Набат мобилизации врывается в их жизнь как обещание. Все привычное и осточертевшее опрокидывается, воцаряется новое и необычное. Впереди должны произойти еще более необозримые перемены. К лучшему или к худшему? Разумеется, к лучшему: разве Поспешилю может стать хуже, чем в «нормальное» время?
Я бродил по центральным улицам столь знакомой мне Вены и наблюдал эту совершенно необычную для шикарного Ринга толпу, в которой пробудились надежды. И разве частица этих надежд не осуществляется уже сегодня? Разве в иное время носильщики, прачки, сапожники, подмастерья и подростки предместий могли бы себя чувствовать господами положения на Ринге? Война захватывает всех, и, следовательно, угнетенные, обманутые жизнью чувствуют себя как бы на равной ноге с богатыми и сильными. Пусть не покажется парадоксом, но в настроениях венской толпы, демонстрировавшей во славу габсбургского оружия, я улавливал черты, знакомые мне по октябрьским дням 1905 г. в тогдашнем Петербурге. Недаром же война часто являлась в истории матерью революции.
И однако же насколько различно, правильнее сказать, противоположно отношение к той и другой со стороны господствующих классов. Бьюкенену те дни казались чудесными, а Россия – пробужденной. Наоборот, о самых патетических днях революции 1905 г. граф Витте писал: «Громадное большинство России как бы сошло с ума».
Подобно революции, война выбивает всю жизнь, сверху донизу, из наезженной колеи. Но революция удары свои направляет против существующей власти. Война же, наоборот, на первых порах укрепляет государственную власть, которая в порожденном войною хаосе выступает как единственная твердая опора… пока та же война не подкопает ее. Надежды на бурные социальные и национальные движения в Праге или Триесте, как и в Варшаве или Тифлисе, совершенно неосновательны в начале войны. В сентябре 1914 г. я писал в Россию: «Мобилизация и объявление войны как бы стерли с лица земли все национальные и социальные противоречия в стране. Но это только историческая отсрочка, своего рода политический мораториум. Векселя переписаны на новый срок, но платить по ним придется». В этих подцензурных строках я имел в виду, разумеется, не только Австро-Венгрию, но и Россию, Россию прежде всего.
События нагромождались одно на другое. Пришла телеграмма об убийстве Жореса. В газетах было так много злостной лжи, что оставалась еще, по крайней мере в течение нескольких часов, возможность сомнения и надежды. Но вскоре эта возможность исчезла. Жорес был убит врагами и предан собственной партией.
Какое отношение к войне нашел я в руководящих кругах австрийской социал-демократии? Одни открыто радовались ей, сквернословили по адресу сербов и русских, не очень отличая правительства от народов: это были органические националисты, чуть-чуть покрытые лаком социалистической культуры, который теперь сползал с них не по дням, а по часам. Помню, как Ганс Дейч, впоследствии что-то вроде военного министра, откровенно говорил о неизбежности и спасительности этой войны, которая наконец избавит Австрию от сербского «кошмара». Другие – и во главе их стоял Виктор Адлер – относились к войне как к внешней катастрофе, которую нужно перетерпеть. Выжидательная пассивность служила, однако, только прикрытием для активного националистического крыла. Кое-кто глубокомысленно вспоминал о немецкой победе 1871 г., которая двинула вперед немецкую промышленность, а с нею вместе и социал-демократию.
2 августа Германия объявила войну России. Уже до этого начался отъезд русских из Вены. 3 августа утром я отправился на Wienzeile, чтобы посоветоваться там с социалистами-депутатами, как быть нам, русским эмигрантам. Фридрих Адлер по инерции продолжал еще в своем кабинете возиться с какими-то книжками, бумажками, марками для международного социалистического конгресса, который должен был вскоре состояться в Вене. Но конгресс был уже отброшен в прошлое. На арену выступали другие силы… Старик Адлер предложил мне немедленно отправиться с ним вместе к первоисточнику, именно к шефу политической полиции Гейеру. В автомобиле, по пути в префектуру, я обратил внимание Адлера на то, что война вызвала наружу какое-то праздничное настроение. «Это радуются те, которым не нужно идти на войну, – ответил он сразу. – Кроме того, на улицу сейчас выходят все неуравновешенные, все сумасшедшие: это их время. Убийство Жореса – только начало. Война открывает простор всем инстинктам, всем видам безумия…»
Психиатр по своей старой медицинской специальности, Адлер часто подходил к политическим событиям, «особенно австрийским», говорил он иронически, – с психопатологической точки зрения. Как далек он был в тот момент от мысли, что его собственный сын совершит политическое убийство. В журнале «Kampf», который редактировался Адлером-сыном, я поместил как раз накануне войны статью, освещающую несостоятельность индивидуального террора. Замечательно, что редактор очень одобрял эту статью. Террористический акт Фридриха Адлера был вспышкой отчаявшегося оппортунизма, не более того. Дав выход своему отчаянию, Адлер вернулся на старую колею.
Гейер выразил осторожное предположение, что завтра утром может выйти приказ о заключении под стражу русских и сербов.
– Следовательно, вы рекомендуете уехать?
– И чем скорее, тем лучше.
– Хорошо, завтра я еду с семьей в Швейцарию.
– Гм… я бы предпочел, чтобы вы это сделали сегодня.
Этот разговор происходил в 3 часа дня, а в 6 часов 10 минут я уже сидел с семьей в вагоне поезда, направляющегося в Цюрих. Позади оставались семилетние связи, книги, архив и начатые работы, в том числе полемика с профессором Масариком о судьбах русской культуры.
Телеграмма о капитуляции германской социал-демократии потрясла меня больше, чем само объявление войны, несмотря на то, что я был достаточно далек от наивной идеализации германского социализма. «Европейские социалистические партии, – писал я еще в 1905 г. и затем не раз повторял, – выработали свой консерватизм, который тем сильнее, чем большие массы захватывает социализм… В силу этого социал-демократия может стать в известный момент непосредственным препятствием на пути открытого столкновения рабочих с буржуазной реакцией. Другими словами, пропагандистско-социалистический консерватизм пролетарской партии может в известный момент задержать прямую борьбу пролетариата за власть». Я не ждал, что в случае войны официальные вожди Интернационала окажутся способны на серьезную революционную инициативу. Но в то же время я не допускал и мысли, что социал-демократия станет просто ползать на брюхе перед национальным милитаризмом.
Когда в Швейцарии появился номер «Vorwaertsa» с отчетом о заседании рейхстага 4 августа, Ленин твердо решил, что это поддельный номер, выпущенный германским генеральным штабом для обмана и устрашения врагов. Так велика была еще, несмотря на весь критицизм Ленина, вера в немецкую социал-демократию. Между тем в то же самое время венская «Arbeiter-Zeitung» провозгласила день капитуляции немецкого социализма «великим днем немецкой нации». Это была кульминация Аустерлица. Его «Аустерлиц!»… Я не считал «Vorwaerts» подложным: первые непосредственные впечатления в Вене уже успели подготовить меня ко всему худшему. Но все же голосование 4 августа осталось одним из самых трагических переживаний моей жизни. «Что сказал бы Энгельс?» – спрашивал я себя. Ответ был для меня ясен. «А как поступил бы Бебель?» Тут полной ясности я не находил. Но Бебеля не было. Был только Гаазе, честный провинциальный демократ, без теоретического кругозора и революционного темперамента. Во всяком критическом положении он склонен был воздерживаться от бесповоротных решений, прибегая к полумерам и выжиданию. События были ему не по плечу. А дальше уже шли Шейдеманы, Эберты, Вельсы…
Швейцария отражала Германию и Францию, только в нейтральном, т. е. смягченном, и притом крайне уменьшенном виде. Для вящей наглядности в швейцарском парламенте заседали два социалистических депутата с одинаковыми именами и фамилиями: Иоанн Сигг от Цюриха и Жан Сигг от Женевы. Иоанн – ярый германофил, а Жан – еще более ярый франкофил. Таково было швейцарское зеркало Интернационала.
На втором, примерно, месяце войны я встретился на цюрихской улице со стариком Молькенбуром, прибывшим сюда для обработки общественного мнения. На мой вопрос, как его партия представляет себе ход мировой войны, старый член форштанда ответил мне: «В течение ближайших двух месяцев мы покончим с Францией, затем повернемся на восток, покончим с войсками царя и через три, максимум четыре месяца дадим крепкий мир Европе». Ответ этот записан у меня в дневнике дословно. Молькенбур выражал, конечно, не свою личную оценку. Он просто передавал официальное мнение социал-демократии. В это самое время французский посол в Петербурге держал на 5 фунтов стерлингов с Бьюкененом пари, что война будет закончена до Рождества. Нет, мы, «утописты», предвидели все же кое-что получше этих реалистических господ – из социал-демократии и из дипломатии.
Швейцария, в которой приходилось отсиживаться от войны, напоминала мне мой финский пансион Rauha, где меня осенью 1905 г. застала весть о революционном прибое. Конечно, и в Швейцарии армия мобилизована, а в Базеле слышен даже шум канонады. Но все же обширный гельветический пансион, озабоченный главным образом избытком сыра и недостатком картофеля, напоминал спокойный оазис, охваченный огненным кольцом войны. Может быть, не так уж далек тот час, спрашивал я себя, когда можно будет покинуть швейцарский оазис Rauha (покой), чтобы снова встретиться с петербургскими рабочими в зале Технологического института? Но этот час наступил только через тридцать три месяца.
Потребность отдать самому себе отчет в том, что происходит, заставила меня обратиться к дневнику. Уже 9 августа я писал в нем: «Совершенно очевидно: здесь дело идет не о промахах, не об отдельных оппортунистических шагах, не о неловких заявлениях с парламентской трибуны, не о голосовании баденских великогерцогских социал-демократов за бюджет, не об экспериментах французского министериализма, не о ренегатстве нескольких вождей, – дело идет о крушении Интернационала в самую ответственную эпоху, по отношению к которой вся предшествующая работа была только подготовкой».
11 августа я заносил в дневник: «Только пробуждение революционного социалистического движения, которое должно будет сразу принять крайне бурные формы, заложит фундамент нового Интернационала. Грядущие годы будут эпохой социальной революции».
Я активно вошел в жизнь швейцарской социалистической партии. В рабочих низах ее интернационализм встречал почти безраздельное сочувствие. С каждого партийного собрания я выносил двойной запас уверенности в правоте своей позиции. Первую точку опоры я нашел в интернациональном по составу рабочем союзе «Eintracht». По соглашению с правлением я выработал в начале сентября проект манифеста против войны и социал-патриотизма. Правление пригласило лидеров партии на собрание, где я читал немецкий доклад в защиту манифеста. Лидеры, однако, не явились. Они считали слишком рискованным занимать позицию в столь остром вопросе, предпочитая выжидать и ограничиваясь пока что комнатной критикой «крайностей» немецкого и французского шовинизма. Собрание «Eintracht» почти единогласно приняло манифест, который, несмотря на все свои недомолвки, послужил серьезным толчком для партийного общественного мнения. Это был едва ли не первый с начала войны интернационалистический документ от лица рабочей организации.
В те дни я впервые ближе столкнулся с Радеком, который в начале войны прибыл из Германии в Швейцарию. Он стоял в немецкой партии на крайней левой, и я надеялся найти в нем единомышленника. Действительно, Радек с чрезвычайной непримиримостью отзывался о правящем слое немецкой социал-демократии. Здесь мы с ним были заодно. Но я с удивлением убедился в беседе, что он и не думает о возможности пролетарской революции в связи с войною и вообще в ближайшую эпоху. Нет, отвечал он, для этого производительные силы человечества, взятого в целом, еще недостаточно развиты. Я слишком привык слышать, что производительные силы России недостаточны для завоевания власти рабочим классом. Но я не представлял себе, что такого рода ответ может дать революционный политик передовой капиталистической страны. Радек читал вскоре после моего отъезда из Цюриха все в том же союзе «Eintracht» обширный доклад, в котором пространно доказывал, что капиталистический мир не подготовлен к социалистической революции.
О докладе Радека, как и вообще о цюрихском социалистическом перекрестке в начале войны, рассказывает швейцарский писатель Брупбахер в своих небезынтересных воспоминаниях. Любопытно, что Брупбахер называет мои тогдашние взгляды… пацифистскими. Что он понимает под этим, понять невозможно. Собственное свое развитие с того времени он в заглавии одной из своих книжек характеризует так: «От мещанина к большевику». Я получил достаточно ясное представление о тогдашних взглядах Брупбахера, чтоб полностью присоединиться к первой половине этого заглавия. Что касается второй половины, то я не беру на себя за нее никакой ответственности.
Когда немецкие и французские социалистические газеты дали ясную картину политической и моральной катастрофы официального социализма, я отложил дневник для политической брошюры на тему о войне и Интернационале. Под впечатлением первой моей беседы с Радеком я написал к брошюре предисловие, в котором еще с большей энергией подчеркнул, что нынешняя война есть не что иное, как восстание производительных сил капитализма, взятых в мировом масштабе, против частной собственности, с одной стороны, государственных границ – с другой. Книжка «Война и Интернационал», как и все другие книги, имела свою судьбу сперва в Швейцарии, затем в Германии и Франции, позже в Америке и, наконец, в Советской республике. Обо всем этом надо здесь сказать несколько слов.
С русской рукописи работу мою переводил русский, далеко не совершенно владевший немецким языком. Проредактировать перевод взял на себя цюрихский профессор Рагац. Это дало мне случай познакомиться с этой своеобразной личностью. Верующий христианин, более того, богослов по образованию и профессии, Рагац стоял в то же время на крайнем левом фланге швейцарского социализма, признавал самые крайние методы борьбы против войны и высказывался за пролетарскую революцию. И он и его жена привлекли меня глубокой нравственной серьезностью своего отношения к политическим проблемам, которое так выгодно отличало их от австрийских, германских, швейцарских и иных безыдейных чиновников социал-демократии. Насколько знаю, Рагац оказался вынужден впоследствии пожертвовать своим взглядам своей университетской кафедрой. Для той среды, к которой он принадлежал, это немало. Но в тех беседах, которые я вел с ним, я, наряду с чувством уважения к этому незаурядному человеку, почти физически ощущал наличность какой-то тонкой, но абсолютно непроницаемой пелены между нами. Он был мистик насквозь и хотя своих верований не навязывал и даже не упоминал о них, но само вооруженное восстание овевалось в его речах какими-то потусторонними дуновениями, которые во мне вызывали лишь неприятный озноб. С тех пор как я стал мыслить, я был сперва интуитивным, затем сознательным материалистом и не только не ощущал потребности в иных мирах, но никогда не мог найти психологического соприкосновения с людьми, которые умудряются одновременно признавать Дарвина и Троицу.
Благодаря Рагацу книжка вышла в свет на хорошем немецком языке. Из Швейцарии она уже в декабре 1914 г. нашла путь в Австрию и Германию. Об этом позаботились прежде всего швейцарские левые: Ф. Платтен и др. Предназначенная для немецких стран, брошюра была направлена в первую голову против германской социал-демократии, руководящей партии II Интернационала. Помнится, журналист Heibmon, игравший первую скрипку в оркестре шовинизма, назвал мою книжку сумасшедшей, но последовательной в своем сумасшествии. Большей похвалы я не мог и желать! Не было, конечно, недостатка и в намеках на то, что брошюра является искусным орудием антантовской пропаганды.
Позже, во Франции, я неожиданно прочитал однажды во французских газетах телеграмму из Швейцарии о том, что один из немецких судов приговорил меня заочно к тюремному заключению за мою цюрихскую брошюру. Из этого я заключил, что брошюра попала в цель. Гогенцоллернские судьи оказали мне этим приговором, по которому я не торопился произвести уплату, очень ценную услугу. Для клеветников и сыщиков Антанты немецкий судебный приговор всегда оставался камнем преткновения в их благородных усилиях доказать, что я являюсь, по существу дела, агентом немецкого генерального штаба.
Это не помешало французским властям задержать на границе мою книжку ввиду ее «германского происхождения». В защиту моей брошюры от французской цензуры появилась двусмысленная заметка в газете Эрве. Думаю, что заметку написал небезызвестный Ш. Рапопорт, сам почти марксист и во всяком случае автор самого большого количества каламбуров, какие когда-либо создавал человек, посвятивший им свою долгую жизнь.
После Октябрьской революции находчивый нью-йоркский издатель выпустил мою немецкую брошюру в виде солидной американской книги. По собственному его рассказу, Вильсон потребовал у него из Белого дома по телефону прислать ему корректурные оттиски: президент в это время фабриковал свои 14 пунктов и, как утверждают осведомленные люди, никак не мог переварить того, что большевики предвосхитили лучшие из его формул. В течение двух месяцев книжка разошлась в Америке в количестве 16000 экземпляров. Но наступили дни брестлитовского мира. Американская печать подняла против меня неистовую травлю, и книжка сразу исчезла с рынка.
В Советской республике моя цюрихская брошюра выдержала тем временем немало изданий, служа пособием для изучения марксистского отношения к войне. С «рынка» Коминтерна она сошла только после 1924 г., когда был открыт «троцкизм». Сейчас это запретное произведение, как и до революции. Таким образом, мы видим, что книги действительно имеют свою судьбу.







