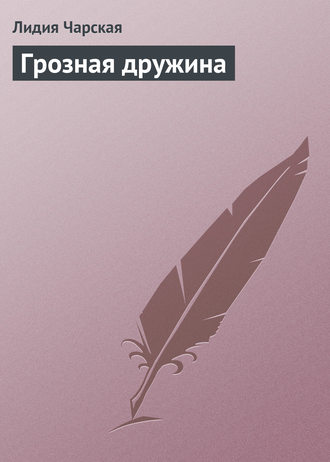
Лидия Чарская
Грозная дружина
Глава 3
СНОВА В БИТВУ. – ЦАРСТВЕННЫЙ ПЛЕННИК. – НОВЫЙ СЛУГА. – ОДНИМ ХРАБРЫМ МЕНЬШЕ
Ласковым шепотом тихо шепчет дремучая тайга… Нежный тот шепот, весенний… Столетние дубы да кедры, да широкостволые березы и пихты вспоминают будто что-то таинственное и сладкое… Чудная весенняя дрема-греза сковала тайгу… Жарко печет весеннее солнце, а здесь, на опушке, прохладно, тенисто, хорошо…
Раскинули казаки шалаши из ветвей молоденькой березы да орешника, накрыли их кафтанами да сермягами и сидят под тенью их, – сидят и ждут среди дубов-гигантов, кедров и берез. По водополью этой весною пришел к Ермаку мирный данник-татарин и поведал ему, что стоит Мамет-Кул недалече на Вогае-реке, верст за сто от Искера. Ермак собрал небольшой отряд и поспешил с ним к означенному месту. Разбились станом на Вогае Ермаковы воины и ждут желанных гостей.
Не много казаков осталось в его дружине. Из 840 пришедших в Сибирь только 300 человек осталось, а впереди много еще дела предстоит. Велик либо нет отряд Мамет-Кула – того не знает Ермак. Да если бы и знал поможет разве этим делу? Из трехсот оставшихся ему не сделать вчетверо большей дружины. А не идти на Мамет-Кула нельзя. Сам придет под Искер и осадит его, чего доброго, царевич. Так лучше предупредить его и напасть на неожидающего этого набега татарского вождя.
Чудесно скрыт под навесом тайги отряд Ермака. Атаман умышленно не велит раскладывать костров и варить каши. До ночи попостятся как-нибудь, лишь бы не привлечь взоров медленно подвигающейся от Вогая татарской орды.
Ему, Ермаку, надо жалеть людей. Мало их осталось у него. Каждый человек дорог, каждая рука нужна в Искере. Хотел посылать к царю за подмогой, да медлит все. Вот возьмут они Кучума либо Мамет-Кула и ударят ими челом царю вместе с царством Сибирским. Но как взять-то? Неуловим, как волна, старый хан. Неуловим и его приспешник тоже.
Так думает Ермак, спасаясь от жарких солнечных лучей в своем шалаше.
А рядом с ним, в таком же шалаше, веселый говор идет.
– Слышь, наряжать посольство к царю атаман ладит, – говорит радостно Алеша Мещеряку. – Попросимся и мы с есаулом. У наших, в Сольвычегодске, побываем на обратном пути. Може и свадебки сыграем две заодно. Шутка ль, более году не видывали наших кралей. Небось, и думать они забыли о нас.
– Зато плаха московская не забыла, – отшучивался Матвей.
– Не страшна мне плаха, Матюша. Не верится штой-то, штобы русский царь за дело такое на плаху послал, – беззаботно, тряхнув плечами, решил Алексей.
– Вот что, братику, – помолчав с минуту снова заговорил он, – я завтра же отпрашиваться у атамана на Москву с Иваном Ивановичем буду. А ты как хошь.
– Вестимо, и я не отстану. Нешто разлучусь когда с тобой? – сердечной, теплой нотой прозвучал в ответ голос Мещеряка.
– Ин, ладно. Гляди, штобы обе свадьбы зараз играть, – засмеялся юноша-князь, обнимая друга.
– Сыграем, – усмехнулся Мещеряк.
Долго они болтали так. Ночь подступила. Светлоокая бледная северная ночь. Только далее, в тайге, точно темным флером, подернулась природа.
Зато степь осталась светлой и нежной, как днем. Мутная зеленая илистая вода Вогая казалась теперь расплавленной ртутью. Серебро реки слилось с серебряным горизонтом степи, и был дивно красив этот согласный, сверкающий аккорд.
Кречеты прокричали в небе. Иволга проплакала в кустах – и все стихло.
Помолившись Богу и браня «проклятого Мамет-Кулку», заставившего их лечь с пустыми желудками спать, завалились казаки на боковую. Стихло все в стане.
– Только в шатре, ближайшем к атаману, не спали и тихо перешептывались Алеша и Мещеряк. В сотый раз поверял молодой князь своему другу, как взяли его в полон татары, как хотела оковать своими чарами «казацкая» ханша и как спасла его бывшая Строгановская полонянка – Алызга.
А ночь все вливалась в степь серебристо-жемчужным потоком, белая, волшебная, нежная, северная весенняя ночь.
– Штой-то?.. Слыхал аль нет, друже?.. – внезапно, схватив за руку Алексея, повысил голос Мещеряк.
Тот насторожился. Действительно, из глубины темной тайги доносились до них странные звуки, не то говор, не то согласный хор нескольких сотен голосов.
– Татары!.. – в один голос вырвалось из груди обоих друзей. И в смятении они переглянулись.
– Надоть выведать, где остановились поганые и сколько их… – после минутного замешательства произнес Мещеряк и, не теряя ни минуты, выполз из шатра, вскочил на ноги и быстро ринулся с опушки в чащу. Не говоря ни слова Алеша бросился за ним.
Голоса между тем утихли. Их заменили одиночные возгласы и ржание коней. Очевидно и татары расположились на покой в глубине чащи. Оба юноши теперь уже не шли, а ползли в траве, бесшумно углубляясь в лес.
Вот завиднелась сквозь деревья лесная прогалина, сплошь усыпанная татарскими сонными телами. Враги крепко спали. Одни стреноженные кони бодрствовали, медленно пощипывая сочную траву. Небольшой шатер из кошм красовался посреди вражьего стана.
– Там наверное спит царевич… Хорошо бы его живьем захватить… чуть слышно шепнул Матвей Алеше.
Тот с быстротою молнии вскочил на ноги и уже готов был метнуться к шатру, если бы сильная рука Мещеряка не удержала его на месте.
– Штой ты! Аль очумел, парень!.. – сердито буркнул казак, – нешто можно так-то… Зря только «их» перебудишь. Надоть вспять ползти, упредить атамана, сюды дружину доставить, а там и с Богом – бери живьем хошь самого черта.
Опять поползли обратно в траве оба юноши к своей стоянке.
Через час они снова уже были здесь, у татарского лагеря, но не одни.
Неслышно подкралась к вражьему стану дружина Ермака. Скрываясь за высокими кедрами, во все глаза зорко глядели казаки на лесную прогалину и ждали только условного знака Ермака. И вот дал, наконец, этот знак атаман.
– С Богом!.. – пронеслось по дремучей тайге молодецким криком, и по этому крику, как стая орлов, ринулась дружина на татар.
По этому крику вскочили на ноги и Мещеряк, и Алексей, отряженные для поимки Мамет-Кула. Вскочили и бросились прямо в шатер.
Царевич уже проснулся и, недоумевая на внезапные шум и крики, метался с саблею по шатру, не находя со сна выхода из него.
В один миг набросились на него юноши и, прежде чем мог опомниться татарский витязь, скрутили его по рукам и ногам.
В это время удалая дружина делала свое дело, кроша татар направо и налево. Потери казаков на Бабасанском урочище и под Чувашьей горой, а пуще всего воспоминание о зверски зарезанных товарищах на Абалацком озере, мщением и злобой наполняли обычно великодушные сердца победителей. И сдержал данное слово Ермак: он воздвиг огромный памятник из татарских обезглавленных трупов зарезанным на Абалаке товарищам-казакам. Никто из врагов не спасся. Все полегли до единого близ Вогая. Одного царевича Мамет-Кула пощадил Ермак. Он обласкал его, как умел, и через толмача передал пленнику, что не сделает ему ничего дурного, строго приказав и дружине своей оказывать ему всяческий почет.
Поздно, под утро, легли в эту ночь казаки отдохнуть после одержанной победы.
Мещеряк и Алеша, обласканные за их великую услугу Ермаком, остались караулить поочередно стан и пленного Мамет-Кула.
Сильно устал юный князь, едва держался на ногах, а глаза у него так и слипались. Но он бодрился, лишь от времени до времени прислоняясь к стволу высокого кедра, чтобы отдохнуть немного и протереть сонные глаза. Но как ни старался Алеша противиться – сон осилил его: он сладко задремал. Между тем солнце встало. Золотым потоком брызнуло оно над степью, и сказочно причудливым убором засияла степь в зелено-пестром венце своих пышных трав и цветов.
Когда Алеша проснулся, весь стан был уже в движении.
– Чудное дело, братику, приключилось у нас. Экое страшилище нашли близ опушки ребята наши. К атаману отвели. Обличьем на самого шайтана сходит, верно слово, – весело рассказывал юному князю Мещеряк.
Сна у Алексея как не бывало. Весь охваченный молодым любопытством, он со всех ног кинулся туда, где в кипящих на кострах котлах варилась каша к обеду.
Против Ермака, сидевшего на пне березы спиной к остальным, стояла странная приземистая фигура, широкоплечая, коренастая, низенькая, в куртке из оленьего меха и в узких штанах. Подле нее находился толмач-переводчик.
Подстрекаемый тем же любопытством, Алеша зашел сбоку и заглянул лицо странной фигуре. Взглянул – и в ужасе отступил, невольно зажмуривая глаза.
Страшными ранами, рубцами и язвами было покрыто лицо инородца. Ничего нельзя было разобрать в нем, ни черт, ни выражения. Нельзя даже было понять – молод он или стар. Одна сплошная багровая рана скрывала и возраст, и черты. Ужас выразился на лице князя. Ермак заметил это.
– Аль не по ндраву пришелся малец? – усмехнулся он, видя произведенное инородцем впечатление на своего любимца, – не обессудь на обличье, Алеша-светик, зато верный слуга нам будет уродище этот… Бает через толмача, Кучумка его пытке предал за што-то… Ишь, обличье попортил как… Так за это он сулит нам ихнего Кучумку да и всю его семью а полон предоставить… Уж больно гневом опалился на обидчика своего…
– Так-то так… Да уж больно неказист он с рожи… – произнес Алексей, невольно избегая взглядом страшное, безобразное лицо.
Его голос странно подействовал на коренастого уродца. Тот вскинул голову, и маленькие, бегающие, как мыши, глазки его, единственное, что осталось в этом потерявшем свой человеческий образ лице, так и впились в Алешу.
«Убийца брата Имзеги, наконец-то я встретила тебя!» – вихрем пронеслось в мозгу Алызги и, вся задрожав от ненависти, она до боли впилась ногтями в ладони своих судорожно стиснутых рук.
* * *
Все лето 1582 года Ермак употребил на покорение татарских и остяцких улусов и городков по рекам Оби и Иртышу. Он взял и остяцкий город Назым, находившийся неподалеку от устьев реки Назыма, притока Оби.
Но нерадостно кончился этот Назымский поход для неутомимого и храброго атамана. Под засекой остяцкого улуса потерял он своего помощника, храброго есаула Никиту Пана с его отрядом. Долго жалел и оплакивал эту чувствительную для него потерю Ермак. Вернувшись в Искер, он дал наконец Строгановым радостную весточку о покорении Сибири. Снарядив гонца в Сольвычегодск, велел передать именитым Пермским людям атаман:
«Кучума-салтана одолел, стольный город его взял и царевича Мамет-Кула пленил».
Строгановы поспешили переслать эту радостную весть самому Иоану Васильевичу, грозному царю. Был наряжен от них гонец на Москву с грамотою о покорении Ермаком Сибири.
Но далеко опережая гонца, прямо из Искера, по рекам Сибири двигалось, минуя Пермь и Сольвычегодск, по Каме и Волге, другое посольство, более торжественное и пышное, посольство самого Ермака к царю. С дорогими мехами: куньими, собольими и лисьими, под предводительством храброго есаула Ивана Кольцо, отягощенное богатыми дарами ехало посольство на Москву. Это Ермак бил челом сибирским гостинцем, помимо покоренного царства, грозному царю Иоану.
Глава 4
ПОСОЛЬСТВО ЕРМАКА
Мрачные, тяжелые, печальные дни повисли темною тучею над дворцом Иоана.
Грозный царь терпел поражение за поражением от смелого, предприимчивого нового короля Литвы и Польши, Стефана Батория. Со смертью Сигизмунда-Августа прекратилась царствовавшая в Польше династия Ягеллонов, и некому было принять соединенную корону Польши и Литвы. Царь московский сам был не прочь возложить на свою голову корону эту или, уже в крайнем случае, дать в короли соединенных королевств одного из своих сыновей.
Гетман Литовский, Михайло Гарабурда, не раз приезжал на Москву для переговоров. Но чего хотел литовский народ, того не хотели гордые, независимые польские паны, которые уже много наслышались о московских буйствах царя Иоана, о потоках крови, лившихся на Руси. И вот паны выбрали смелого, предприимчивого рыцаря-воина, пана Седмигродского, который, женившись на дочери Сигизмунда-Августа, с ее рукой получил корону Польши и Литвы.
Иоан, разгневанный и оскорбленный таким оборотом дела, заключив наспех мир со шведами, ведшими с ним войну, наполнил своей ратью Ливонию, Эстонию и самую Польшу. Взяты были многие ливонские и эстонские города.
Взят был Венден, где заперся было женатый на одной из княжен Старицких племянник Иоана, королевич датский Магнус, дерзко потребовавший у московского царя обещанной ему власти в Ливонии. Венден штурмовали, самого Магнуса взяли в плен и, лишив власти, сослали подальше, в крошечный городишко Коркус.
Потянулась упорная война. Молодой, смелый и энергичный польско-литовский король стал наносить московскому царю удар за ударом.
Ход за ходом, шаг за шагом, и Стефан Баторий, очутившись в русских владениях, отобрал самый Полоцк. За Полоцком были взяты Сокол и Озерище, а там и самый Псков осадил предприимчивый король Польши и Литвы.
И еще другая неудача черной тучею повисла над Русью великой.
Турки-крымцы грозили с юга Московскому государству, ослабленному и уставшему вследствие непрерывных войн. Но ничто в сравнении с политическими невзгодами и бурями была та буря личного удара, что разразился над самой головой московского царя. Страшное дело, худшая потеря, чем земли Ливонские, нежели взятый Полоцк, постигла карой Божией Иоана Васильевича: в припадке непреодолимого бешенства убил железным посохом сына-царевича обезумевший от гнева царь-отец…
Это было в темное, хмурое утро. Печаль, траур и горе, повисшее над дворцом царя Иоана Васильевича, нашли, казалось, отклик и в самой природе.
Траурным пологом хмурилось небо. Скрылось за тучами солнце. Плакала земля.
Угрюмый и больной сидел, сидел согнувшись в своем кресле, царь Иоан.
Тяжелый недуг все последние годы точит царя. Тело его пухнет и покрывается язвами. От язв и опухолей идет смрадный дух, как от покойника. Болезнь, медленная, тяжелая, ведет к неминуемой гибели царя. А рядом с физическими страданиями душевные муки – боль совести – мучают, терзают царя днем и ночью. Особенно ночью. Эти ночи страшны, как ад, мучительны, как пытка.
Черные кошмары, кажется, так и стерегут его у дверей горницы, и лишь только забудется Иоан – встают воплощенные призраки убитых и замученных им людей. Напрасно приготовляет царю лекарственные снадобья врач Якубус, присланный ему английской королевой: снадобья не действуют, не поддается лечению сильный, но заживо разложившийся организм царя. Сегодняшнюю ночь он провел особенно плохо. Впрочем, не первая такая ночь. С рокового дня гибели первенца не знает вовсе покоя государь. Стоит перед ним неотступно воочию страшное видение, тот роковой час, та, проклятая самим Господом, минута, когда, обливаясь кровью, упал к его ногам царевич Иван…
И глубже уходит в свое кресло царь и нервным движением дрожащей руки запахивает черный траурный кафтан свой… Трясется еще не старая, но до времени одряхлевшая голова царя, накрытая черной тафьею.
– Ванюша… Ванечка… Сыночек мой ненаглядный… Пошто я так-то… тебя… – шепчут трепещущие губы Иоана и дрожмя дрожит больное, измученное тело страдальца.
И снова тот душный летний день встает перед ним… Не в духе проснулся в то памятное утро Иоан, что случалось с ним все чаще и чаще.
Новая молодая царица, Мария Нагая, восьмая по счету жена царя, уже давно шепчет в уши своему царственному супругу про новые козни да интриги – что хвалится будто царевич Иван, как вступит на престол после смерти отца, все порядки иначе, по-своему переделает, государство на свой лад поставит… И еще многое другое наговаривает завистливая, злобствующая мачеха. И сам видит Иоан – не больно-то слушается отца царевич. Во многом перечит ему. А тут еще речи наговоренные. Не вытерпел царь, взял посох и пошел на половину старшего сына, где жил царевич со своей молодой женой, недавно с ним повенчанной, Мариной, из рода бояр Шереметевых. Но не застал того, кого хотел Иоан, в царевичьих покоях. Вместо сына встретил невестку царь, еще не успевшую встать от сна, неодетую, простоволосую, но чудно прелестную женщину-ребенка, дрогнувшую от страха при появлении царя. Сам не ведая почему опалился разом гневом на царевну государь.
– Заместо того, штобы чин чином во храм Божий идти, как вечор всем слободским было наказано мною, – строго заговорил он, грозно наступая на невестку, – ты на лебяжьих пуховиках нежишься, ленью дьявола тешишь…
И замахнулся жезлом на молодую женщину. Та с диким криком метнулась к двери, желая спастись. Но обезумевший от гнева царь настиг ее и сильно ударил по спине своим посохом.
С воплем упала на пол царевна. Ей ответил другой вопль, еще более страшный и дикий – и ее муж, царевич Иван, прибежавши на помощь к жене, появился на пороге.
– Не смей, отец, трогать Марину!.. – вне себя вскричал он и отвел от жены руку царя, отвел от жены и принял предназначенный ей на себя удар царевич.
Взмахнул, взбешенный его словами, не помня себя, Иоан и тяжело опустил на голову сына свой грозный посох. В тот же миг новый стон, вопль огласил стены дворцовых палат. Из раны на просеченном до мозга черепе царевича хлынула кровь.
Безумие ужаса и горя охватило царя.
– Мой Ваня!.. Мой первенец!.. Мой любимый!.. – покрывая поцелуями и слезами руки насмерть раненого сына, лепетал царь.
Сбежались врачи, принялись лечить умирающего юношу. Но ни стоны, ни вопли царя, ни снадобья врачей, ничего не помогало. На другой день к утру скончался царевич.
С тех пор страшный призрак плавающего в крови убитого сына не покидает царя. И сегодня, в это пасмурное, ужасное утро, он особенно неотвязно и мучительно стоит перед ним. Еще вчера разослал новые вклады Иоан по всем монастырям и обителям Московским, наказывая молиться за душу убиенного сына. А все не легче ему, все не легче… Сердце рвет лютая мука, туманит мозг мучительная мысль… Душа так и ноет скорбью и раскаянием. Соскользнул с лавки на пол царь. Бьется головой оземь и стонет-вопиет:
– Ванюшенька… Родименький… Пошто оставил меня?!..
И не видит ослепленный горем Иоан, как в горницу нерешительно вошел, переступая с ноги на ногу, ближайший боярин и любимец царский, Борис Годунов, заместивший убитого под Венденом Малюту, а за ним и другие бояре – Бельский, Шематьев, Нагие.
Неслышной, мягкой походкой подошел Годунов к царю и говорит:
– Очнись, государь… Не гоже тебе во прахе простираться, когда радость велию Господь на Русь святую послал…
Словно дикий зверь вскочил на ноги Иоан.
– Кто дерзнул без зова?!.. – начал он, и зловеще поднялся грозный посох в его костлявой руке.
Но, выдержав порыв бешенства покорно, Борис также светел и бесстрашен лицом остался. И у тех бояр, что с ним пришли и у двери стоят, такие же светлые, праздничные лица.
Опустился посох. Судорога повела от нетерпения лицо царя.
– Какая радость?.. Говори… Не тяни жилы, мучитель… – скорее простонал, нежели произнес Иоан.
– Сибирь взята казаками Донскими да Волжскими, государь… Покорено под нози твои великое царство Кучума-салтана… – дрожащим голосом, громко и радостно, произнес Годунов.
Выскользнул тяжелый посох и со звоном покатился по полу горницы. А за ним рухнул на пол перед божницей и сам Иоан.
– Велик и Милостив Господь!.. Не оставил Ты меня, Господи! – зашептали его блеклые, ссохшиеся губы. – Несказанное счастье послал Ты мне, окаянному грешнику… Велик Господь!..
И замер, весь охваченный умилением и благодарностью к Царю Небесному земной, во прахе простершийся, царь.
* * *
Звонили, гудели, пели колокола… Толпы народа запрудили площади и улицы столицы. У всех радостные, счастливые лица. Все, как в великий светлый праздник, поздравляют друг друга. Не только на улицах, на крышах домов, на колокольнях церквей черно от народа. Яблоку некуда упасть.
Смутный гул стотысячной толпы стоит над Москвою, споря с малиновым перезвоном сорока сороков православных церквей.
– Идут!.. Идут!.. – катится по толпе многоголосной волною.
– Идут!.. Идут!..
Расступилась, шарахнулась на обе стороны толпа, образуя широкую улицу, по краям которой черно от шапок, сермяг, кафтанов да опашней.
И вот по широкой улице медленно движется посольство. Впереди скачут бирючи, расчищая путь. За ними выступает седоусый богатырь-есаул, с зоркими, молодыми глазами. Отвагой и верою горят его быстрые взоры. За верным, за правым делом прокладывает путь к Кремлевским палатам ближайший товарищ покорителя юрта Сибирского. С гордо поднятой головою, со смелым, радостным взором несет он бархатную подушку в руках. На подушке лежит грамота от покорителя Сибири, грамота могучему и грозному царю московскому. Хорошо знает Кольцо, что волен казнить или миловать царь его и его спутников, но знает также, что радостна и люба сердцу цареву челобитная Ермакова. Оттого и светел, и радостен есаул. За ним богатые дары несут: соболей, куниц сибирских, видимо-невидимо, без счета, без конца. Народ дивуется, народ словно опьянел от восторга, словно забыл, кто идет по широкому проходу между двух образовавшихся рядов толпы. Забыл былые вины седоусого есаула, забыл и то, что голова идущего давно на вес золота оценена, и что к четвертованию, к позорной смерти приговорено это могучее казацкое тело. Героя-богатыря, защитника и спасителя от нечисти бесерменской, от кары поганой видит в нем московский народ и радостными криками оглашает площадь.
А тот, к кому спешит по многолюдным улицам Ермаково посольство, уже ждет его в большой Кремлевской палате во всем блеске царского величия, среди ближних бояр. На нем шапка Мономаха, золотое платье, все в драгоценных камнях, с оплечием, украшенным изображением Иисуса, Божией Матери и святых. Ближние люди держат знаки царского достоинства, скипетр и державу. Залитые золотом и серебром стоят кудрявые рынды в своих белых одеждах с топориками на плечах. Вокруг трона бояре в лучших праздничных уборах, в горлатных шапках, важные, суровые и все же трепещущие перед царем.
– Идут!.. Идут!.. – перекатилось с площади и ворвалось сдержанным гулом в Кремлевский дворец.
Они вошли. Седоусый есаул впереди с грамотой-челобитной на подушке, остальные позади с богатыми дарами царю от Ермака.
И преклонили колени, и распростерлись в прахе и главный посол, и его сподвижники. Долго лежали они у ступеней трона, пока взволнованным голосом не приказал им встать Иоан.
– Великий государь! – начал громко и звучно, все еще стоя на коленях, Кольцо. – Казацкий атаман твой, Василий Тимофеич, со всею вольною дружиною своею, осужденною на смерть тобою, надежа-государь, бьют тебе челом на завоеванном царстве Сибирском…
Сказал и замер Кольцо. Замерла и вся Кремлевская палата заодно с Ермаковым послом. Затихло все. Слышен был только гулкий перезвон в московских церквах да усиленное от волнения дыхание в груди Иоана.
И вот приподнялся чуть государь, сверкнул очами, и прозвучал голос его на всю палату Кремлевскую:
– Исполать вам, верные слуги мои! И быть прежней опале не в опалу, а в милость… Читай грамоту, Борис, – приказал царь стоявшему подле боярину Годунову.
Последний принял свиток из рук Кольца и принялся читать. И чем дальше читал Годунов, тем яснее, тем радостнее становилось лицо царя.
Он тут же простил казакам все прежние вины их, велел по церквам служить молебны и звонить во все колокола московские, дабы все знали, что Бог послал Руси новое, обширное царство, завоеванное грозною дружиною казаков…
Щедро и милостиво рассыпал Иоан награды послам Ермака и самому Ермаку. Самому атаману грозной дружины жаловал титул князя Сибирского, шубу с царского плеча, – что считалось особым знаком государевой милости, – да кубок серебряный и два дорогих панциря в придачу. Ивана Кольцо и бывших с ним казаков пожаловал великим своим жалованием, деньгами, сукном, камками дорогими. Оставшихся в Сибири одарил щедро и послал им большое царское жалование. А для принятия у Ермака завоеванных земель снарядил царь воевод, князя Семена Болховского и Ивана Глухова с пятью сотнями московских стрельцов.
Не забыты были царем и Строгановы-купцы. Их пожаловал царь за «раденье»: Семена двумя городами на Волге, а Максиму и Никите дал право беспошлинной торговли в их острогах и городках.
Недолго пробыл Кольцо в Москве и 1-го марта 1583 г. возвратился с царским отрядом назад в Сибирь. Воеводы объявили Ермаку великую царскую награду, вручили милостивую государеву грамоту и заодно передали и русское спасибо молодцу-атаману и его грозной дружине от лица всего московского народа.
Коленопреклоненный выслушал радостную весть новый князь Сибирский, и впервые горячие, благоговейные слезы оросили мужественное и смелое лицо Ермака.
Его заветные мечты, его светлые надежды – все сбылось.







