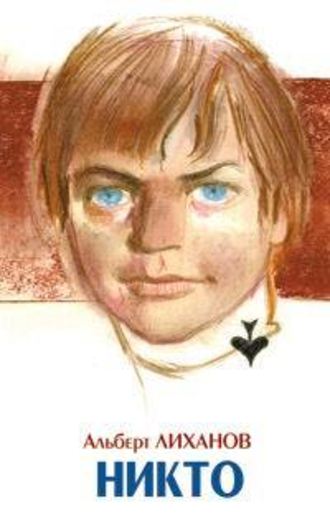
Альберт Лиханов
Никто
3
Ясное дело, детям на поминках выпивать не полагалось, а взрослым, в число коих входил, понятно, и Кольча, наливали. Он пил, не отказываясь, опять замерев, застыв душой. Несказанная речь давила на него, рвалась из него, а он молчал, пил водку, подливаемую в стакан щедрым Иннокентием – это был его час! – и почти не заедал. В результате напился, да еще как!
Он проснулся поутру рано от страшной головной боли, его вывернуло наизнанку, и, возвращаясь из туалета на диван, он обнаружил свой первый костюм в совершенно непотребном виде – вывалянным в пыли.
Кольча охнул, ведь это означало не что иное, как то, что он падал, валялся – срам и позор. Но как же добрался-то? Он не помнил.
Всевидящий архангел Валентин явился, смеясь и с авоськой пива, подлечил братка, уложил спать дальше, пояснив, что все знает, претензий не имеет и дает отгул на пару дней, но не более.
Топорик спал, просыпался, снова спал, остывал под душем, драил свой костюмчик, стыдился позора и силился вспомнить, где и как упал и каким манером добрался до дома. Бесполезно. Вспомнить не мог.
Через два дня, под вечер, он осмелился выбраться из дому и прямым ходом направился на кладбище. Вовсю цвела сирень, огораживая старый земельный надел, городское место успокоения, и Кольча по пути обломил несколько махровых ветвей. Гошкина могила оставалась в том же неухоженно-новом виде, какой ее покинул интернат: столбик с именем, едва подсохшая глина, выложенная в холмик, единственный венок с почти бюрократической надписью. За два дня, похоже, никто тут больше не бывал: детские слезы просыхают так же быстро, как вспыхивают, а взрослые – они, видать, никак не придут в себя после похоронного переполоха, да и другие дела захлестывают.
Кольча приткнул сиреневые гроздья к желтой земле, малость постоял, покивал Гетману, как бы извиняясь, что ли, за невольное пьянство, пошел к выходу. Когда миновал кладбищенские ворота, кто-то легонько свистнул ему в спину. Он обернулся: это был Валентин. Привыкший не удивляться, Кольча шагнул ему навстречу.
В тот день они опять пили дома у Кольчи, и напился уже шеф, правда, ночевать не остался, вызвав «Вольво» с одним из амбалов. Поминали Гошку, хотя Валентин его видал только раз, в тот выпускной интернатовский вечер, в березовой роще, и почти не помнил, говорили про покойную мать Топорика и даже пили за нее, за царствие ее небесное, и старший брат растолковывал Кольче, что судить легко и потому не суди, да не судим будешь.
Коля кивал, выпивал через силу, старался думать на темы, которые задавал Валентин, но то ли после недавнего пьяного шока, то ли просто потому, что никакие думы не лезли в голову, получалось это у него плохо. Вспомнил, как зашел в церковь, как дал деньги на свечки, жиденьких старичков, которые были приветливы к нему, но мать свою и царствие ее на небесах вообразить все-таки не смог, не получалось. Даже девочку в голубом платье, эту чудную Дюймовочку, взошедшую на порог его жизни, вспомнить толком не мог, обругивая себя последними словами.
– А помнишь, – спросил его среди пьянки Валентин, – я обещал тебе винтовочку попробовать? С оптическим прицелом?
– Ага! – согласился Кольча.
– Так я ее достал. Готовься. Попробуем в нашем месте.
Но винтовочка всплыла не наутро и даже не через неделю, а полмесяца спустя, когда немного отдалились, отошли вдаль Гошкины похороны. Все шло своим чередом – ежедневные объезды, сбор дани, обеды на хазах без участия Топорика, он теперь пользовался послаблениями и ехал, только если хозяин велел, обедал в компании, коли предлагал Валентин, – отказаться неудобно. Зона их влияния, как понимал Топорик, сильно расширилась, изменилась и структура: на обед собирались не все бойцы, как прежде, а только командиры. Расширение штатов привело к сужению отчетного застолья: теперь нередко гуляли тут только командиры командиров. Однажды, в машине, Валентин заметил как бы между прочим, что в результате переговоров, прессинга и слияний под него лег весь их город. Весь.
Топорик не знал, лишь догадывался, что это значит, хотя бы потому, что Валентин все чаще заявлялся в его квартирку и просил достать чемоданы из-под пола. Поставив серебристый бокс на диван, Кольча по привычке старался уйти на кухню, но хозяин смеялся, предлагал остаться и глядеть – секретов от него нету, шутил, когда Топорик все-таки уходил: «Это тебе не поможет».
В этом Кольча не сомневался, и все-таки было не по себе от пачек денег, будто что-то грязное лежало под кроватью, не зря он никогда не ложился на нее, а спал на диване.
Наперед зная его мысли, Валентин, после того, как закрывал чемодан, долго мылил руки в ванной, до локтей, а насухо вытираясь, любил повторять:
– Согласен, согласен с тобой, грязное это дело, вот еще немного, и завяжем мы с тобой все к чертовой бабушке, отправимся, как мечтал Остап Ибрагимович, в Рио-де-Жанейро покупать белые штаны и купаться в синем океане.
Он всхохатывал, трепал Кольчины волосы, хлопал по спине, велел повторить кодовые номера замков серебряных кейсов, подчеркивал: у него от Топорика и в самом деле нет тайн. Кольча вздыхал. И хотя улыбался в ответ, кивал, страшила его непонятная доверчивость хозяина, ведь все равно не родня.
Слишком, видать, он уверовал, этот умный и бесстрашный человек, в повторяемые им самим же примеры: что лучшие янычары, телохранители, исполнители любой воли хозяина получались из сирот, а недавний пример про румынского вождя Чаушеску его умилял до слез, тот ведь организовал из покинутых детей личную охрану, главную службу тамошнего КГБ, стал как бы отцом этим выросшим бедолагам.
Чаушеску, правда, это не спасло, зато вооруженные мальчики эти, по рассказам Валентина, защищали своего отца до последнего.
– Хоть я тебе в отцы не гожусь, но в старшие-то братья запишешь? – усмехался Валентин, обращаясь к Кольче, а тот всякий раз стеснялся встать хотя бы мысленно вровень с хозяином, опускал голову, мялся и жался, как красная девица, и это, похоже, больше всего нравилось шефу.
Пару раз он, правда, взъедался ни с того ни с сего.
Сперва в машине, когда они ехали из Москвы, потом в квартире, уже после того, как закопали чемодан:
– Я серьезно говорю! Серьезно! Без шуток! Ты мой наследник, если, не дай Бог… И действуй как наследник.
Почему – он? Потому что Валентин – тоже детдомовец? А ведь он больше на эту тему даже не заикнулся. Где он, этот дом? Как туда попал? Что дальше с ним было? Сплошной туман. Какая-то странная туфта, и при том абсолютная засекреченность. При постоянных речах про наследника Топорик даже не знает, где живет хозяин. Вот уж конспирация так конспирация. И постоянных баб у Валентина нет… Никакая женская рука им не правит – хотя мужик в соку. А вдруг импотент, то есть не может? Или уж такой великий нравственник, слыхал где-то Кольча неясное такое слово. Или опять – не видно ему?
Через две недели Валентин передал по телефону в училищную мастерскую, где и когда он ждет Топорика, а когда тот подъехал, вскочил в «мерс» быстрее обычного и велел ехать к колкам, на окраину. Поначалу Колюча даже не заметил в руках у него недлинный сверток, но когда они подъехали к месту и ступили в мягкую, уже высокую шелковую траву, прячущую шаги, Валентин достал нечто продолговатое, завернутое в бумагу, сорвал газету, расстегнул чехол и тремя ловкими движениями собрал винтарь. Да еще с оптикой. Да еще с глушителем.
Они прошли несколько метров, оглядели место денежного могильника, неотличимого от окружения, бурно поросшего травой, несколько отступили, выбрав позицию посуше, и Валентин зарядил оружие. Первый выстрел напомнил звук лопнувшего шарика, надутого не туго, не до упора. Сперва обойму выпустил хозяин, потом дал винтовку ученику.
Впечатление от отдачи было посильнее, чем от звука выстрела, но это легко преодолеть, если слиться с прикладом, особенно с колена. Цель – береза, шипящий звук, толчок, и ощущение какой-то наполненности, какого-то особого значения. Пятнадцать выстрелов подряд, можно даже короткой очередью, у оружия имя – автоматическая винтовка. Можно вести войну, и какие-нибудь пистолетчики для нее сущая ерунда.
Опять в Кольче возникла какая-то мощь, уверенность в себе. Не только руки его получали страшное продолжение, но даже – мысль. Задумай он что-нибудь этакое, и его мысль настигнет кого хочет. Усилием воли он отстранял от себя эту возможность, эту власть, но почти физически чувствовал ее.
Пока он ее отстранял, довольно легко это получалось. Но чем лучше владел оружием, которое теперь в разобранном виде хранилось во втором чемодане под кроватью, чем чаще, в отсутствие Валентина, собирал ее, целился сквозь тюлевую занавеску в собаку на дворе, в ветку липы, в банку, валявшуюся в пыли, тем больше хотелось ему увидеть хозяина вновь и опять поехать с ним на окраину, чтобы снова расстрелять белеющий вдали ствол березы.
Пули у Кольчи ложились кучно, Валентин удивленно хвалил ученика, и в Топорике возникало новое чувство: впервые в жизни он начинал ценить себя за умение.
Пусть оно было таким.
4
И тут на него свалилась любовь. Она всегда сваливается, случается враз, вдруг, чаще всего без всякой подготовки и уж, конечно же, без уведомления: будьте, мол, добры приготовиться к сюрпризу и умойтесь с мылом.
Девочка в голубом ему снилась, Дюймовочка возвращалась без спроса и в самом неподходящем месте, но он и не думал идти к старому дому, где она жила, хотя бы потому, что не было для этого никакого объяснения. Но вот он шел по улице, увидел вывеску «Библиотека», хлопнул на всякий случай себя по карману – с собой ли паспорт? – и решительно двинулся под вывеску, чтобы записаться и взять чего-нибудь почитать: никогда он ни в каких библиотеках, кроме интернатской да училищной, не бывал, и вот решился – а почему бы и нет?
Казенные двери – их много в библиотеках – одна, другая, пятая, и вдруг – вспышка, озарение: она!
Дюймовочка стояла за устройством, похожим на прилавок, окруженная со всех сторон книгами – на стеллаже, за спиной, пачками на лрилавке, и сбоку, и еще, только была она не в голубом, а в клетчатом и зеленом аккуратном костюмчике, и опять коса лежала на груди, кажется, все это вместе называется тургеневская девушка.
И вот она смотрит на Кольчу, вокруг никого нет, говорит ему приветливо «Здравствуйте!», и он что-то произносит в ответ, она спрашивает, какой у него номер, и он, дурачок, не понимает, что у читателей бывают номера, и, с трудом приходя в себя, наконец объясняет, что хотел бы записаться. Достает паспорт.
Она исчезает за прилавком, оказывается, присаживается, заполняет какую-то карточку, списывает из его паспорта что-то, наверное, номер, прописку, фамилию, ясное дело.
Потом выпрямляется, спрашивает:
– А что бы вы хотели взять?
Он трепещет, не знает, что сказать, и тогда девочка задает, улыбаясь, наводящие вопросы:
– Может, детектив? Про любовь? Фэнтази?
Кольча не знает, что такое фэнтази, потому что мысли заняты совсем другим, и наконец спрашивает:
– Вы узнали меня?
– Конечно, – улыбнувшись опять, ответила она, – я и тогда еще поняла, что вы сын Марии Ивановны.
Топорик не ждал такого, будто ударили собственной же его памятью, – да ведь в его паспорте та же фамилия, что и ихней квартирантки.
– Ничей я не сын! – буркнул он, глупо опуская голову.
– Ну, во всяком случае, не из управления народного образования, – рассмеялась девочка. – Да и спутник ваш – тоже. Вы что же – водитель?
– Да вроде! – облегченно усмехнулся Кольча. И спросил главное: – А вас как зовут?
– Женя. – Она не стала ломаться, сразу объяснила остальное: – Учусь в библиотечном техникуме и здесь на практике. А вы?
Этот короткий вопрос сбил Топорика с ног, крепкого паренька. Сказать, что в ПТУ на слесаря учится, что родом – интернатовский? И, не любящий врать, соврал:
– Учусь в авиационно-техническом колледже.
Был такой в их городе, сошло, а Женя наклонилась снова к своему прилавку и проговорила, летая по бумаге шариковой ручкой:
– Так-и-запи-шем…
– Я посмотрю? – спросил Кольча, показывая на стеллажи с широкими проходами, а точнее говоря, спасаясь за книжными стенками.
– Конечно, конечно, – сказала Женя, – ходите, выбирайте.
Он ушел подальше, перевел дыхание, отер пот, выступивший на висках: этот разговорчик, вроде в одно касание и ни о чем, стоил покруче тяжкого экзамена. Чего теперь?
Кольча медленно двигался между книжных полок, доставал то и дело с них книги, слепо листал, ставил на место – и все думал, что надо сделать дальше, как сказать, какой затеять разговор. О чем?
Весь его опыт общения с девчонками начинался и кончался интернатом. Соседние палаты в спальном корпусе, знакомые девчонки и девочками-то казались – так, разве что по одежке. Привлекательных, хотя бы внешне, там не водилось – и мужеский, и женский пол собирались здесь не для дальнейшего своего усовершенствования, а по несчастному случаю, вернее, по несчастной жизни, и, много испытавшие с малых лет, немало взрослой мерзости повидавшие на своем кратком веку, мальчики и девочки, здесь собранные, не о качествах своих радели, не о мужском или женском будущем своем мечтали, а выкарабкивались кто как мог из взрослых помоек своих родителей, меньше всего думали о погано опошленных чувствах, возникающих между женщинами и мужчинами. Навидались они этих чувств, спасибочки!
Так что опыта общения с девочками как представительницами прекрасного пола у Кольта не было ровно никакого, знал он соучениц в неэлегантных юбках и дырявых колготках, сострадалиц по одиночеству и покинутости, невоспитанно-неопрятных сотрапезниц, наконец, несчастных, тупых соучениц, а вот ангелов небесных с голубыми глазами и тонкими голосками не знал, а потому не ведал, бедолага, как себя далее вести – куда руки-ноги девать, как глядеть, какие слова употреблять, с чего разговор затевать – не знал.
Попыхтев за стеллажами, ухватив невпопад книжицу иностранного автора про Наполеона в серии «Жизнь замечательных людей», Топорик совсем подавленным предстал перед Женей, и она это заметила.
– Интересуетесь Наполеоном, ого! – попыталась она поддержать Кольчины амбиции, и тот неожиданно для себя ответил довольно умно.
– Не могу понять, – сказал он строговато, – зачем он на Россию полез? Ведь остановись вовремя, и до сих пор, может быть, соседом с запада была у нас Французская империя.
Женя вскинула глаза.
– А зачем вы куда-то в авиационный да еще технический пошли? Вам бы куда-нибудь на историю!
В общем, вовсе не гадая о том, великий император Наполеон серьезно помог сироте. До закрытия библиотеки оставались минуты, пришла настоящая библиотекарша, глянула на Кольчу, отпустила Женю досрочно, и они пошли вдоль по улице к ее дому, о чем только не разговаривая.
Вначале, конечно, о Наполеоне. О том, что у великих людей, похоже, не бывает черты, за которую не следует переходить.
– Не только у великих! – резюмировала Женя. И что соблюди тот же Гитлер чувство меры, не напади на СССР, правил бы, может, по сей день всей Европой.
– Тебе не кажется, – спрашивала Женя, – что в конце концов то, что творится сейчас у нас в стране, – это победа Гитлера?
Кольча, конечно, не совсем соглашался поначалу, но, когда Женя принялась загибать пальцы – разрушение СССР, война в Чечне, власть, которая не знает удержу в воровстве и только о себе думает, наконец, иностранная валюта в ходу, пусть американская, а главное, разрушенные заводы, пустеющие шахты, богачи, – разве это не победа Гитлера? – он был вынужден признавать ее правоту, соглашаться.
– А порнуха кругом, – говорила Женя, – вон, посмотри на журналы в киоске, фильмы в телеке! Это все не победа – чья-то? Не поражение – наше? И каждый каждого боится, вот и я тебя должна бояться, понимаешь? А я, дура, не боюсь, хотя должна, и если бы ты сам не предложил меня проводить, то я бы тебя попросила.
Топорик осекся. Только что он как павлин распускал яркий хвост, судил Наполеона и Гитлера, ничего всерьез на эту тему не ведая, а Женя его враз приземлила, хоть и риторическим вроде бы, а внятным вопросом: ну кто ты, парень? И почему я не должна тебя бояться?
А ведь и впрямь: его не только можно, но нужно бояться. Нет, сам он ничего пока страшного не натворил, наоборот даже, вроде как притаился под чужой, хотя и опасной, крышей. Но уж крыша у него такая, что Жене к ней даже приближаться нельзя. Зачем же он ее доверием как бы злоупотребляет?
Он приумолк, но Женя поняла его по-своему, заговорила на тему ему интересную:
– А по твоему делу… По вашему… Про Марию Ивановну я только слышала, но не видела ее никогда, она уехала за год до моего рождения. А что вы болтали про ее сынка – учится на дипломата… Зачем врать?
Кольча готов был провалиться, спасение было только в признании, что он искал мать, а Валентин – его взрослый друг, они давно знакомы, много лет – без вранья все-таки не обошлось, – а мать бросила его в Доме ребенка.
– Мария Ивановна? – остановилась Женя. – Ну и дела! Спрошу у мамы. Она никогда ничего такого не говорила.
– Может, и не знала?
– Может…
Они гуляли, как гуляют все влюбленные на свете – до синих, густых сумерек, когда зажигаются окна в домах. И у Кольчи как будто крылья за спиной оказались: в общем-то, он освободился от вранья, сказал почти правду, и ничего ведь страшного не произошло. Женя не шарахнулась от него, как от прокаженного, наоборот, ей было страшно интересно, как там в интернате, и он рассказывал ей про детскую жизнь за забором, как бы приглушая, затушевывая неприятное, а приятное делая чуточку забавным, смешным, и она, наивная Дюймовочка, верила ему, раскатываясь серебряным смехом.
Кольча, как ни странно это, спал мертвецким сном в эту ночь, и сон снился ему счастливый: Женя в полный рост, Женя сбоку, Женя улыбается, хмурится, молчит и что-то говорит.
Весь сон – сплошная Женя.
5
Он растворился в Жене, утонул в ней. Каждый час, каждую минуту он помнил о ней, думал над ее словами, перебирая, как драгоценный жемчуг, ее мысли, фразы, улыбки. Он часами просиживал в читалке, бессмысленно проглатывая страницы только для того, чтобы, усмехнувшись, листануть их назад и читать прочитанное сначала, потом выходил на абонемент, к ней, норовя, когда Анна Николаевна, штатная пожилая библиотекарша, отойдет в фонд, читалку или в магазин за кефиром.
Народу летом в библиотеке было мало, и, оставаясь одни, они словно впивались друг в друга своими бесконечными разговорами, и Женя всегда была впереди, она оказалась сильнее, неясно только – умнее ли, но наверняка начитаннее, развитее – это точно, и Кольча за ней не гнался, сразу уступив лидерство. Однако получалось, что он уступает из вежливости, рыцарства, из-за уважения к ее мнению и к ней самой, а такое не может не нравиться даже самым юным женщинам – в первую очередь самым юным. Каждый день они гуляли допоздна, ночью Женя снилась Топорику, и все сливалось в одно прекрасное и юное токование, в счастье узнавания близкой души – без оглядки, разбора, раздумий, в одни-единственные беспрерывные сутки – без ночи и дня.
Они не замечали погоды – ненастья или солнца, голода и жажды, чужих взглядов и посторонних слов. Они бежали сквозь дни и ночи, мысленно не разлучаясь, крепко взявшись за руки и не теряя ни на минуту ощущения взаимной благодарности и привязанности.
Всевидящий Валентайн не мог не чувствовать происходящего, но берег Кольчу. Свои записки он предусмотрительно оставлял в квартире, на самом видном месте, чтобы влюбленный рыцарь не мот их не заметить, и о приказах своих в виде вежливых просьб сообщал заранее. Вздыхая, Кольча уходил из читалки, предупредив Женю, что скоро вернется, бежал в гараж, заводил машину, мчался за патроном по его делам, впрочем, дело было только одно, и совершалось оно в самое неподходящее время – под вечер.
Они упражнялись. Из головы у Кольчи не выходила Женя, и поначалу он отстреливался хуже положенного, но потом понял: чем будет спокойней, а значит, точней, тем быстрее освободится.
Однажды хозяин, расхвалив Топорика за отличный результат, кинул как бы в шутку, с хохотком:
– А по человеку – слабо?
Кольча, не задумавшись, расплавленный от похвал, торопящийся к Жене, брякнул:
– Да чо там!
И осекся. Но было поздно. Валентин посерьезнел, с крючка не отпустил:
– Ну ладно. Поглядим.
И однажды поглядел, пояснив заранее, что к вечеру едут в соседний городок, и прибавил, смягчая положение:
– Скажи подруге, что дело неотложное.
Ничего подобного Кольча, конечно, не сказал, пояснив просто, что приятель просит помочь, а то, что он водитель по совместительству, подрабатывает, и к ученью это немалое подспорье, он давно уже полусоврал Жене.
Она согласилась легко, явив полное понимание, и Кольча с Валентином в сумерки покинули городок.
Едва они выехали на шоссе, Валентин стал мягко объяснять Кольче, что выстрелить в человека не такое простое дело и никому вреда они доставлять не собираются. Автоматическая винтовка предназначена исключительно для самообороны, однако, даже отбиваясь от несправедливости нападающих, надо быть психически готовым прицелиться в живую цель, а потом, если уж некуда отступать, дать сдачи.
Нет, растолковывал он сказанное первый раз уже давненько, непросто, ох как непросто выстрелить по живому. К этому следует привыкать. Постепенно.
– Сейчас я тебе покажу, – сказал Валентин, и Кольча напрягся.
Они въехали в соседний городок, остановились на самой окраине. Вдали, метрах в ста, шел неровный ряд одноэтажных домишек. В каждом светились окна, и в некоторых не было занавесок, так что лампочки без абажуров светили особенно ярко.
Валентин собрал на ощупь винтовку, спустил боковое стекло «Мерседеса», прицелился в одно такое окно, щелкнул выстрел – и лампочка погасла.
– Вот видишь? – спросил он. – Как просто! В лампочку. Издалека. Ничего особенного. Ну, испугаются, ну, вскрикнут. Но мы же никого не задели. Попробуешь?
Он произнес последнее слово лениво, кажется, неохотно, но Топорик знал эту хозяйскую повадку: чем мягче, тем тверже. И лучше сразу.
Вышел из машины, прицелился в чье-то окно, нажал спуск. Эх, и безотказная же это была игрушечка: свет погас, и в шутку Топорик прицелился в лампочку уличного фонаря. Щелчок – и издалека раздался слабый звон стекла. Кольча рассмеялся.
Смеялся и Валентайн.
– Ну, веришь? Все очень просто! Ничего ужасного! Просто надо уметь.
И в другой раз, уже днем, тоже с большого расстояния, он велел Кольче грохнуть корову, пасшуюся в поле. Она рухнула как подкошенная, Топорику стало не по себе – раздался бабий крик, но про них никто не подумал: за рулем сидел Валентин, медленно вел машину, а Кольча с заднего сиденья выполнил этот кровавый урок.
– Не горюй! – утешил патрон. – Корова же не сдохла, ее сейчас освежуют, а мясо продадут. Надо же тренироваться белым людям. – И посмотрел на Топорика в зеркало заднего вида. – А, белый человек?
Кольча кивнул, но поймал себя на том, что руки у него трясутся и сердце вырывается: не таким уж легким оказалось это упражнение по живой цели. Но через полчаса езды, под легкую музыку и похвалы Валентина, успокоился вполне. К тому же хозяин за эти упражнения вознаграждал. Те лампочки стоили пару сотен, а корова – три. Конечно, зелени. А она требовалась теперь Кольче – то на новую рубашку, то на ботинки поприличнее, ведь, собираясь к Жене, он теперь смотрел на себя в зеркало весьма требовательным взглядом. Да и на мелочь всякую – на мороженое, на маленькие бутылочки «Спрайта» или «Колы», это же теперь модно, ходить с бутылочками воды в руках.
Кольча однажды подумал про себя, что походит на ныряльщика. По приказу командира плюхается под воду, чтоб не было видно сверху, едет стрелять по лампочкам, убивать коров, тренироваться в березовой роще, над могильником, где лежат деньги, как бы исчезает с поверхности легальной своей жизни, известной Жене, а вынырнув, вновь является к ней прежним, вне подозрений.
Он не думал, что все может стать известно. По крайней мере его Дюймовочке, на остальных он давно махнул рукой, вернее, остальные просто-напросто отсутствовали в его жизни: преподаватели ПТУ были в отпуске, шкодливые злыдни, бывшие соседи по общаге, пропали в пространстве каникул, уехали под родные крыши, а интернат был на краю города.
Эти обстоятельства оборачивались везением – никто из старых знакомцев, способных выдать, не попадался им по пути, когда Женя и Николай прогуливались по городку с бутылочками воды в руках. Да и многое ли он скрывал от нее?
Кольча мучился, вздыхал, оставаясь наедине, ему казалось, все вот-вот рухнет, если он признается, что учится в ПТУ, а не в колледже, что служит в рэкете и сам – рэкетир, пусть законсервированный, не действующий, но проходящий странную и опасную подготовку, да еще и хранитель тайны, можно сказать, янычар. И если тайна про ПТУ еще извинима, то все остальное сокрушительно каждое по отдельности, а если все вместе – вообще хана.
Он представлял, что станет, если Женя узнает правду, ему становилось худо, и он по-щенячьи, умоляюще смотрел на нее, заранее вымаливая прощение, а Дюймовочка терялась от этих его взглядов, подозревая в них совсем иные желания, пугалась, вспоминала вдруг, что совсем ничего не знает об этом мальчишке, с подозрением думала, почему он все-таки мало рассказывает о себе, пусть даже если вырос в интернате.
Она жалела и, да, любила, но первой, не очень глубокой еще любовью, принимая за настоящее чувство и эти его умоляющие взгляды, и свою собственную жалость к мальчику с такими же, как у нее, светлыми глазами.







