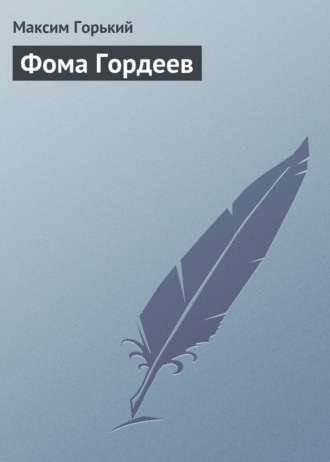
Максим Горький
Фома Гордеев
VI
Охваченный тоскливой и мстительной злобой приехал Фома в город. В нем кипело страстное желание оскорбить Медынскую, надругаться над ней. Крепко стиснув зубы и засунув руки глубоко в карманы, он несколько часов кряду расхаживал по пустынным комнатам своего дома, сурово хмурил брови и все выпячивал грудь вперед. Сердцу его, полному обиды, было тесно в груди. Он тяжело и мерно топал ногами по полу, как будто ковал свою злобу.
– Подлая… ангелом нарядилась!
Порой надежда робким голосом подсказывала ему:
«Может, все это клевета…»
Но он вспоминал азартную уверенность и силу речей крестного и крепче стискивал зубы, еще более выпячивал грудь вперед.
Маякин, бросив в грязь Медынскую, тем самым сделал ее доступной для крестника, и скоро Фома понял это. В деловых весенних хлопотах прошло несколько дней, и возмущенные чувства Фомы затихли. Грусть о потере человека притупила злобу на женщину, а мысль о доступности женщины усилила влечение к ней. Незаметно для себя он решил, что ему следует пойти к Софье Павловне и прямо, просто сказать ей, чего он хочет от нее, – вот и все!
Прислуга Медынской привыкла к его посещениям, и на вопрос его «дома ли барыня?» – горничная сказала:
– Пожалуйте в гостиную…
Он оробел немножко… но, увидав в зеркале свою статную фигуру, обтянутую сюртуком, смуглое свое лицо в рамке пушистой черной бородки, серьезное, с большими темными глазами, – приподнял плечи и уверенно пошел вперед через зал…
А навстречу ему тихо плыли звуки струн – странные такие звуки: они точно смеялись тихим, невеселым смехом, жаловались на что-то и нежно трогали сердце, точно просили внимания и не надеялись, что получат его… Фома не любил слушать музыку – она всегда вызывала в нем грусть. Даже когда «машина» в трактире начинала играть что-нибудь заунывное, он ощущал в груди тоскливое томление и просил остановить «машину» или уходил от нее подальше, чувствуя, что не может спокойно слушать этих речей без слов, но полных слез и жалоб. И теперь он невольно остановился у дверей в гостиную.
Дверь была завешена длинными нитями разноцветного бисера, нанизанного так, что он образовал причудливый узор каких-то растений; нити тихо колебались, и казалось, что в воздухе летают бледные тени цветов. Эта прозрачная преграда не скрывала от глаз внутренности гостиной. Медынская, сидя на кушетке в своем любимом уголке, играла на мандолине. Большой японский зонт, прикрепленный к стене, осенял пестротой своих красок маленькую женщину в темном платье; высокая бронзовая лампа под красным абажуром обливала ее светом вечерней зари. Нежные звуки тонких струн печально дрожали в тесной комнате, полной мягкого и душистого сумрака. Вот женщина опустила мандолину на колени себе и, продолжая тихонько трогать струны, стала пристально всматриваться во что-то впереди себя.
Фома смотрел на нее и видел, что наедине сама с собой она не была такой красивой, как при людях, – ее лицо серьезней и старей, в глазах нет выражения ласки и кротости, смотрят они скучно. И поза ее была усталой, как будто женщина хотела подняться и – не могла.
Юноша кашлянул…
– Кто это? – тревожно вздрогнув, спросила женщина. И струны вздрогнули, издав тревожный звук.
– Это я, – сказал Фома, откидывая рукой нити бисера.
– А! Но как вы тихо… Рада видеть вас… Садитесь!.. Почему так давно не были?
Протягивая ему руку, она другой указывала на маленькое кресло около себя, и глаза ее улыбались радостно.
– Ездил в затон пароходы смотреть, – говорил Фома с преувеличенной развязностью, подвигая кресло ближе к кушетке.
– Что, в полях еще много снега?
– Сколько вам угодно… Но здорово тает. По дорогам – вода везде…
Он смотрел на нее и улыбался. Должно быть, Медынская заметила развязность его поведения и новое в его улыбке – она оправила платье и отодвинулась от него. Их глаза встретились – и Медынская опустила голову.
– Тает! – задумчиво сказала она, разглядывая кольцо на своем мизинце.
– Н-да… ручьи везде… – любуясь своими ботинками, сообщил Фома.
– Это хорошо… Весна идет…
– Уж теперь не задержит…
– Придет весна, – повторила Медынская негромко и как бы вслушиваясь в звук слов.
– Влюбляться станут люди, – усмехнувшись, сказал Фома и зачем-то крепко потер руки.
– Вы собираетесь? – сухо спросила Медынская.
– Мне – нечего… я – давно!.. Влюблен на всю жизнь…
Она мельком взглянула на него и снова начала играть, задумчиво говоря:
– Как это хорошо, что вы только еще начинаете жить… Сердце полно силы… и нет в нем ничего темного…
– Софья Павловна! – тихо воскликнул Фома.
Она ласковым жестом остановила его.
– Подождите, голубчик! Сегодня я могу сказать вам… что-то хорошее… Знаете – у человека, много пожившего, бывают минуты, когда он, заглянув в свое сердце, неожиданно находит там… нечто давно забытое… Оно лежало где-то глубоко на дне сердца годы… но не утратило благоухания юности, и когда память дотронется до него… тогда на человека повеет… живительной свежестью утра дней…
Струны под ее пальцами дрожали, плакали, Фоме казалось, что звуки их и тихий голос женщины ласково и нежно щекочут его сердце… Но, твердый в своем решении, он вслушивался в ее слова и, не понимая их содержания, думал:
«Говори! Теперь уж не поверю никаким твоим речам…»
Это раздражало его. Ему было жалко, что он не может слушать ее речь так внимательно и доверчиво, как раньше, бывало, слушал….
– Вы думаете о том, как нужно жить? – спросила женщина.
– Иной раз подумаешь – а потом опять забудешь. Некогда! – сказал Фома и усмехнулся. – Да и что думать? Видишь, как живут люди… ну, стало быть, надо им подражать.
– Ах, не делайте этого! Пожалейте себя… Вы такой… славный!.. Есть в вас что-то особенное, – что? Не знаю! Но это чувствуется… И мне кажется, вам будет ужасно трудно жить… Я уверена, что вы не пойдете обычным путем людей вашего круга… нет! Вам не может быть приятна жизнь, целиком посвященная погоне за рублем… о, нет! Я знаю, – вам хочется чего-то иного… да?
Она говорила быстро, с тревогой в глазах. Фома думал, глядя на нее:
«К чему это она клонит?»
Подвинувшись к нему, она заглядывала в лицо его, убедительно говоря:
– Устройте себе жизнь как-нибудь иначе… Вы сильный, молодой… хороший!..
– А коли хорош я, так и мне должно быть хорошо! – воскликнул Фома, чувствуя, как им овладевает волнение и сердце начинает трепетно биться…
– Ах, на земле всегда хорошим хуже, чем дурным!.. – с грустью сказала Медынская.
И снова из-под пальцев ее запрыгали дрожащие нотки музыки. Фома почувствовал, что, если он сейчас не начнет говорить то, что нужно, – позднее он ничего не скажет ей…
«Господи, благослови!» – мысленно произнес он и пониженным голосом, с напряжением в груди начал:
– Софья Павловна! Будет уж!.. Мне надо говорить… Я пришел сказать вам вот что: будет! Надо поступать прямо… открыто… Привлекали вы меня к себе сначала… а теперь вот отгораживаетесь от меня… Я не пойму, что вы говорите… у меня ум глухой… но я ведь чувствую – спрятать себя вы хотите… я вижу – понимаете вы, с чем я пришел!
Его глаза разгорались, и с каждым словом голос становился горячей и громче. Она качнулась всем корпусом вперед и тревожно сказала:
– О, перестаньте…
– Нет уж – буду говорить!
– Я знаю, что вы хотите сказать…
– Не все вы знаете! – с угрозой сказал Фома, вставая на ноги. – А вот я все знаю про вас – все!
– Да? Тем лучше для меня! – спокойно проговорила Медынская.
Она тоже встала с кушетки, как бы желая уйти куда-то, но, постояв секунды две, снова опустилась на свое место. Лицо у нее было серьезное, губы плотно сжаты, но глаза она опустила, и Фома не видел их выражения. Он думал, что, когда скажет ей: «Я все знаю про вас!» – она испугается, ей будет стыдно и, смущенная, она попросит у него прощения за то, что играла с ним. Тогда он крепко обнимет ее и простит. Но этого не вышло: он сам смутился пред ее спокойствием, смотрел на нее, искал слов, чтобы продолжать свою речь, и не находил их.
– Тем лучше… – повторила она сухо и твердо. – Так вы узнали все, да? И, конечно, осудили меня, как и следовало… Я понимаю… я виновата пред вами… Но… нет, я не буду оправдываться…
Она замолчала, вдруг нервным жестом подняв руки вверх, схватилась за голову… И стала оправлять волосы…
Фома глубоко вздохнул. Слова Медынской убили в нем какую-то надежду, – надежду, присутствие которой в сердце своем он ощутил лишь теперь, когда она была убита. И с горьким упреком, покачивая головой, он сказал:
– Бывало, смотрел я на вас и думал: «Экая она красивая, хорошая… Голубка!..» А вы вот сами говорите – виновата… эхма!
Голос его оборвался. А женщина тихонько засмеялась.
– Какой вы славный и смешной…
Парень смотрел на нее, чувствуя себя обезоруженным ее ласковыми словами и печальной улыбкой. То холодное и жесткое, что он имел в груди против нее, – таяло в нем от теплого блеска ее глаз. Женщина казалась ему теперь маленькой, беззащитной, как дитя. Она говорила что-то ласковым голосом, точно упрашивала, и все улыбалась; но он не вслушивался в ее слова.
– Пришел я к вам, – заговорил он, перебивая ее речь, – без жалости!.. Думал – я ей скажу! А ничего не сказал… и не хочется… Сердце упало… Дышите вы на меня как-то… Эх, напрасно я увидал вас! Что вы мне? Уходить, видно, надо…
– Подождите, голубчик, не уходите! – торопливо сказала женщина, протягивая к нему руку. – Зачем же так… сурово? Не сердитесь на меня! Что я вам? Вам нужна иная подруга, такая же простая, здоровая душою, как сами вы… Она должна быть веселая, бодрая… Я ведь уже старуха… Я вот тоскую… так пусто и скучно живется мне… так пусто! Знаете, – когда человек привыкнет жить весело, а радоваться не может, – плохо ему! Смеется не он, – жизнь смеется над ним… А люди… Послушайте! Как мать, советую вам, прошу и умоляю вас – не слушайте никого, кроме вашего сердца! Живите так, как оно вам подскажет. Люди ничего не знают, ничего не могут сказать верного… не слушайте их!
Стараясь говорить проще и понятнее, она волновалась, и слова ее речи сыпались одно за другим торопливо, несвязно. На губах ее все время играла жалобная усмешка.
– Жизнь строга… она хочет, чтоб все люди подчинялись ее требованиям, только очень сильные могут безнаказанно сопротивляться ей… Да и могут ли? О, если б вы знали, как тяжело жить… Человек доходит до того, что начинает бояться себя… он раздвояется на судью и преступника, и судит сам себя, и ищет оправдания перед собой… и он готов и день и ночь быть с тем, кого презирает, кто противен ему, – лишь бы не быть наедине с самим собой!
Фома поднял голову и сказал недоверчиво и с удивлением:
– Не пойму никак я – что такое? И Любовь то же говорит…
– Какая – Любовь? Что говорит?
– Сестра… То же самое, – на жизнь все жалуется. Нельзя, говорит, жить…
– О, большое счастье, что уже теперь она говорит об этом…
– Сча-астье! Хорошо счастье, от которого стонут да жалобятся…
– Вы – слушайте, – в жалобах людей всегда много мудрости… Мудрость – это боль…
Фома слушал убедительно звучавший голос женщины и с недоумением оглядывался. Все было давно знакомо ему, но сегодня все смотрело как-то ново, хотя та же масса мелочей заполняла комнату, стены были покрыты картинами, полочками, красивые и яркие вещицы отовсюду лезли в глаза. Красноватый свет лампы тревожное наводил уныние. Сумрак лежал на всем, кое-где из него тускло блестело золото рам, белые пятна фарфора. Тяжелые материи неподвижно висели на дверях. Все это стесняло, давило Фому, и он чувствовал себя заплутавшимся. Ему жалко было женщину. Но она и раздражала его.
– Вы слышите, как я говорю с вами? Я хотела бы быть вашей матерью, сестрой… Никогда никто не вызывал во мне такого теплого чувства, как вы… А вы смотрите на меня так… недружелюбно… Верите вы мне? да? нет?
Он посмотрел на нее и сказал, вздыхая:
– Не знаю! Верил я…
– А теперь? – быстро спросила она.
– А теперь – уйти мне лучше! Не понимаю я ничего… И себя я не понимаю… Шел я к вам и знал, что сказать… А вышла какая-то путаница… Натащили вы меня на рожон, раззадорили… А потом говорите – я тебе мать! Стало быть, – отвяжись!
– Поймите – мне жалко вас! – тихо воскликнула женщина.
Раздражение против нее все росло у Фомы, и по мере того, как он говорил, речь его становилась насмешливой… Говоря, он встряхивал плечами, точно рвал опутавшее его.
– Жалко?.. Этого мне не надо. Эх, говорить я не могу! Но – сказал бы я вам!.. Нехорошо вы со мной сделали – зачем, подумаешь, завлекали человека? Али я вам игрушка?
– Мне только хотелось видеть вас около себя… – сказала женщина просто и виноватым голосом.
Он не слышал этих слов.
– А как дошло до дела, – испугались вы и отгородились от меня… Каяться стали… Жизнь плохая! И что вы всё на жизнь жалуетесь? Какая жизнь? Человек – жизнь, и, кроме человека, никакой еще жизни нет… А вы еще какое-то чудовище выдумали… это вы – для отвода глаз, для оправдания себя… Набалуете, заплутаетесь в разных выдумках и – стонать! «Ах, жизнь! Ох, жизнь!» А не сами вы ее делали? И, себя жалобами прикрывая, – других смущаете… Ну, сбились вы с дороги, а меня зачем сбивать? Злость, что ли, это в вас: дескать, – мне плохо, пусть и тебе будет плохо, – на же! Так, что ли? Эх вы! Красоту вам бог дал ангельскую, а сердце где у вас?
Он вздрагивал весь, стоя против нее, и оглядывал ее с ног до головы укоризненным взглядом. Теперь слова выходили из груди у него свободно, говорил он негромко, но сильно, и ему было приятно говорить. Женщина, подняв голову, всматривалась в лицо ему широко открытыми глазами. Губы у нее вздрагивали, и резкие морщинки явились на углах их.
– Красивый человек и жить хорошо должен… А про вас вон говорят… – Голос его оборвался, и, махнув рукой, он глухо закончил: – Прощайте!
– Прощайте!.. – тихонько сказала Медынская.
Он не подал ей руки и, круто повернувшись, пошел прочь от нее. Но у двери в зал почувствовал, что ему жалко ее, и посмотрел на нее через плечо. Она стояла там, в углу, одна, руки ее неподвижно лежали вдоль туловища, а голова была склонена.
Он понял, что нельзя ему так уйти, смутился и тихо, но без раскаяния проговорил:
– Может, я обидное что сказал – простите! Все-таки я… люблю вас… – Он тяжело вздохнул, а женщина тихонько и странно засмеялась…
– Нет, вы не обидели меня… Идите с богом!
– Ну, так прощайте! – повторил Фома еще тише.
– Да… – так же тихо ответила женщина.
Фома отбросил рукой нити бисера; они колыхнулись, зашуршали и коснулись его щеки. Он вздрогнул от этого холодного прикосновения и ушел, унося в груди смутное, тяжелое чувство, – сердце билось так, как будто на него накинута была мягкая, но крепкая сеть…
Уж ночь была, светила луна, мороз покрыл лужи пленками серебра. Фома шел по тротуару и разбивал тростью эти пленки, а они грустно хрустели. Тени от домов лежали на дороге черными квадратами, а от деревьев – причудливыми узорами. И некоторые из них были похожи на тонкие руки, беспомощно хватавшиеся за землю…
«Что она теперь делает?» – думал Фома, представляя себе женщину одинокую, в углу тесной комнаты, среди красноватого сумрака…
«Лучше мне забыть про нее…» – решил он. Но забыть нельзя было, она стояла перед ним, вызывая в нем то острую жалость, то раздражение и даже злобу. Образ ее был так ярок и думы о ней так тяжелы, точно он нес эту женщину в груди своей… Навстречу ему ехала пролетка, наполняя тишину ночи дребезгом колес по камням и скрипом их по льду. Извозчик и седок качались и подпрыгивали в ней; оба они зачем-то нагнулись вперед и вместе с лошадью составляли одну большую черную массу. Улица была испещрена пятнами света и теней, но вдали мрак был так густ, точно стена загораживала улицу, возвышаясь от земли до неба. Фоме почему-то подумалось, что эти люди не знают, куда едут… И сам он тоже не знает, куда идет… Ему представился свой дом – шесть больших комнат. Тетка Анфиса уехала в монастырь и, может быть, уже не воротится оттуда, умрет… Дома – Иван, дворник, Секлетея – старая дева, кухарка и горничная, да черная лохматая собака, с тупым, как у сома, рылом. И собака тоже старая…
«Пожалуй, надо жениться…» – вздохнув, подумал Фома.
Но ему стало неловко и даже смешно при мысли о том, как легко ему жениться. Можно завтра же сказать крестному, чтоб он сватал невесту, и – месяца не пройдет, как уже в доме вместе с ним будет жить женщина. И день и ночь будет около него. Скажет он ей: «Пойдем гулять!» – и она пойдет… Скажет: «Пойдем спать!» – тоже пойдет… Захочется ей целовать его – и она будет целовать, если бы он и не хотел этого. А сказать ей «не хочу, уйди!» – она обидится…
О чем с ней можно будет говорить? Он вспоминал знакомых барышень. Некоторые из них были красивы, и он знал, что любая охотно пойдет за него. Но ни одну из них он не хотел бы видеть женой своей… Как это, должно быть, стыдно и неловко, когда девушка становится женой… И – что говорят друг другу молодые, после венца, в спальне? Фома попробовал подумать над тем, что бы он сказал в этом случае, и сконфуженно засмеялся, не находя никаких удобных слов… Потом ему вспомнилась Люба Маякина. Эта, наверное, сама бы первая заговорила, какими-нибудь чужими ей и бестолковыми словами… Ему казалось почему-то, что все слова у нее чужие и что она не то говорит, что должна говорить девушка ее лет, наружности и происхождения…
Тут его мысль остановилась на жалобах Любови. Он пошел тише, пораженный тем, что все люди, с которыми он близок и помногу говорит, – говорят с ним всегда о жизни. И отец, и тетка, крестный, Любовь, Софья Павловна – все они или учат его понимать жизнь, или жалуются на нее. Ему вспомнились слова о судьбе, сказанные стариком на пароходе, и много других замечаний о жизни, упреков ей и горьких жалоб на нее, которые он мельком слышал от разных людей.
«Что это значит? – думалось ему. – Что такое жизнь, если это не люди? А люди всегда говорят так, как будто это не они, а есть еще что-то, кроме людей, и оно мешает им жить».
Жуткое чувство страха охватило парня; он вздрогнул и быстро оглянулся вокруг. На улице было пустынно и тихо; темные окна домов тускло смотрели в сумрак ночи, и по стенам, по заборам следом за Фомой двигалась его тень.
– Извозчик! – громко закричал он, ускоряя шаги. Тень встрепенулась и пугливо поползла за ним, безмолвная и черная.
VII
Прошло с неделю времени после разговора с Медынской. И дни и ночи образ ее неотступно стоял пред Фомой, вызывая в сердце ноющее чувство. Ему хотелось пойти к ней, он болел от желания снова быть около нее, но хмурился и не хотел уступить этому желанию, усердно занимаясь делами и возбуждая в себе злобу против женщины. Он чувствовал, что если он пойдет к ней, то увидит ее не такой уже, какой оставил, в ней что-то должно измениться после разговора с ним, и уже не встретит она его так ласково, как раньше встречала, не улыбнется ему ясной улыбкой, возбуждавшей в нем какие-то особенные думы и надежды. Боясь, что этого не будет, а должно быть что-то другое, он удерживал себя и мучился…
Работа и тоска о женщине не мешали ему думать и о жизни. Он не рассуждал об этой загадке, вызывавшей в сердце его тревожное чувство, – он не умел рассуждать; но стал чутко прислушиваться ко всему, что люди говорили о жизни. Они ничего не выясняли ему, а лишь увеличивали недоумение и порождали в нем подозрительное чувство к ним. Они были ловки, хитры и умны – он это видел; в делах с ними всегда нужно было держаться осторожно; он знал уже, что в важных случаях никто из них не говорит того, что думает. И, внимательно следя за ними, он чувствовал, что вздохи их и жалобы на жизнь вызывают в нем недоверие. Молча, подозрительным взглядом он присматривался ко всем, и тонкая морщина разрезала его лоб…
Однажды утром, на бирже, крестный сказал ему:
– Ананий приехал… Зовет тебя… Ты вечерком сходи к нему, да, смотри, язык-то свой попридержи… Ананий будет его раскачивать, чтоб ты о делах позвонил… Хитрый, старый черт… Преподобная лиса… возведет очи в небеса, а лапу тебе за пазуху запустит да кошель-то и вытащит… Поостерегись!..
– Должны мы ему? – спросил Фома.
– А как же! За баржу не заплачено, да дров взято пятериков полсотни недавно… Ежели будет все сразу просить – не давай… Рубль – штука клейкая: чем больше в твоих руках повертится, тем больше копеек к нему пристанет…
– Да ведь как же ему не отдать, если он потребует?
– А пускай он плачет – просит, ты же реви – да не давай!
Ананий Саввич Щуров был крупный торговец лесом, имел огромную лесопилку, строил баржи, гонял плоты… Он вел дела с Игнатом, и Фома не раз видел этого высокого и прямого, как сосна, старика с огромной белой бородой и длинными руками. Его большая и красивая фигура с открытым лицом и ясным взглядом вызывала у Фомы чувство уважения к Щурову, хотя он слышал от людей, что этот «лесовик» разбогател не от честного труда и нехорошо живет у себя дома, в глухом селе лесного уезда. Отец рассказывал Фоме, что Щуров в молодости, когда еще был бедным мужиком, приютил у себя в огороде, в бане, каторжника и каторжник работал для него фальшивые деньги. С той поры и начал Ананий богатеть. Однажды баня у него сгорела, и в пепле ее нашли обугленный труп человека с расколотым черепом. Говорили на селе, что Щуров сам убил работника своего, – убил и сжег. Такие речи говорились о многих богачах города, – все они будто бы скопили миллионы путем грабежей, убийств, а главное – сбытом фальшивых денег. Фома с детства прислушивался к подобным рассказам и никогда не думал о том, верны они или нет.
Знал он также о Щурове, что старик изжил двух жен, – одна из них умерла в первую ночь после свадьбы в объятиях Анания. Затем он отбил жену у сына своего, а сын с горя запил и чуть не погиб в пьянстве, но вовремя опомнился и ушел спасаться в скиты, на Иргиз. А когда померла сноха-любовница, Щуров взял в дом себе немую девочку-нищую, по сей день живет с ней, и она родила ему мертвого ребенка… Идя к Ананию в гостиницу, Фома невольно вспоминал все, что слышал о старике от отца и других людей, и чувствовал, что Щуров стал странно интересен для него.
Когда Фома, отворив дверь, почтительно остановился на пороге маленького номера с одним окном, из которого видна была только ржавая крыша соседнего дома, – он увидел, что старый Щуров только что проснулся, сидит на кровати, упершись в нее руками, и смотрит в пол, согнувшись так, что длинная белая борода лежит на коленях, Но, и согнувшись, он был велик…
– Кто вошел? – не поднимая головы, спросил Ананий сиплым и сердитым голосом.
– Я. Здравствуйте, Ананий Саввич…
Старик медленно поднял голову и, прищурив большие глаза, взглянул на Фому.
– Игнатов сын, что ли?
– Он самый…
– Ну… Садись вон к окну, – поглядим, каков ты! Чаем, что ли, попоить?
– Я бы выпил…
– Коридорный! – крикнул старик, напрягая грудь, и, забрав бороду в горсть, стал молча рассматривать Фому. Фома тоже исподлобья смотрел на него.
Высокий лоб старика весь изрезан морщинами. Седые, курчавые пряди волос покрывали его виски и острые уши; голубые, спокойные глаза придавали верхней части лица его выражение мудрое, благообразное. Но губы у него были толсты, красны и казались чужими на его лице. Длинный, тонкий нос, загнутый книзу, точно спрятаться хотел в белых усах; старик шевелил губами, из-под них сверкали желтые, острые зубы. На нем была надета розовая рубаха из ситца, подпоясанная шелковым пояском, и черные шаровары, заправленные в сапоги. Фома смотрел на его губы и думал, что, наверное, старик таков и есть, как говорят о нем…
– А мальчишкой-то ты больше на отца был похож!.. – вдруг сказал Щуров и вздохнул. Потом, помолчав, спросил: – Помнишь отца-то? Молишься за него? Надо, надо молиться! – продолжал он, выслушав краткий ответ Фомы. – Великий грешник был Игнат… и умер без покаянья… в одночасье… великий грешник!
– Не грешнее, чай, других-то, – хмуро ответил Фома, обидевшись за отца.
– Кого – к примеру? – строго спросил Щуров.
– Мало ли грешников!
– Грешнее Игната-покойника один есть человек на земле – окаянный фармазон, твой крестный Яшка… – отчеканил старик.
– Вы это верно знаете? – осведомился Фома, усмехаясь.
– Я? Я знаю! – уверенно сказал Щуров, качнув головой, и глаза его потемнели. – Я сам тоже предстану пред господом… не налегке… Понесу с собой ношу тяжелую пред святое лицо его… Я сам тоже тешил дьявола… только я в милость господню верую, а Яшка не верит ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай… Яшка в бога не верит… это я знаю! И за то, что не верит, – на земле еще будет наказан!
– И это вы знаете? – спросил Фома.
– И это… Ты не думай – я ведь и то знаю, что смешно тебе слушать меня… Какой-де прозорливец! Но человек, который много согрешил, – всегда умен… Грех – учит… Оттого Маякин Яшка и умен на редкость…
Слушая сиплый и уверенный голос старика, Фома подумал:
«Смерть, видно, чует…»
Коридорный, маленький человек с бледным, стертым лицом, внес самовар и быстро, мелкими шагами убежал из номера. Старик разбирал на подоконнике какие-то узелки и говорил, не глядя на Фому:
– Дерзок ты… И взгляд у тебя – темный… Раньше светлоглазых людей больше было… раньше души светлее были… Раньше все было проще – и люди и грехи… а теперь пошло все мудреное… эхе-хе!
Он заварил чай, сел против Фомы и снова начал:
– В твои годы отец твой… водоливом тогда был он и около нашего села с караваном стоял… в твои годы Игнат ясен был, как стекло… Взглянул на него и – сразу видишь, что за человек. А на тебя гляжу – не вижу – что ты? Кто ты такой? И сам ты, парень, этого не знаешь… оттого и пропадешь… Все теперешние люди – пропасть должны, потому – не знают себя… А жизнь – бурелом, и нужно уметь найти в ней свою дорогу… где она? И все плутают… а дьявол – рад… Женился ты?
– Нет еще, – сказал Фома.
– Вот и это… не женат, а уж, чай, давно поган… Ну, а работаешь в деле твоем много?
– Приходится… я с крестным пока…
– Какая теперь у вас работа? – качая головой, говорил старик, и глаза его все играли, то темнея, то снова проясняясь. – Нет у вас труда! Раньше купец по делу на лошадях ездил… в метель, ночью… едет! Разбойники ждали его на дороге и убивали… умирал он мучеником, кровью омывши грехи свои… Теперь в вагоне едут… депеши рассылают… а то вон, слышь, так выдумали, что в конторе у себя говорит человек, и за пять верст его слышно… тут уж не без дьяволова ума!.. Сидит человек… не двигается… и грешит оттого, что скучно ему, делать нечего: машина за него делает все… Труда ему нет, а без труда – гибель человеку! Он обзавелся машинами и думает – хорошо! Ан она, машина-то, – дьяволов капкан тебе! В труде для греха нет времени, а при машине – свободно! От свободы – погибнет человек, как червь, житель недр земных, гибнет на солнце… От свободы человек погибнет!
И, произнося раздельно и утвердительно слова свои, старик Ананий четырежды стукнул пальцем по столу. Лицо его сияло злым торжеством, грудь высоко вздымалась, серебряные волосы бороды шевелились на ней. Фоме жутко стало слушать его речи, в них звучала непоколебимая вера, и сила веры этой смущала Фому. Он уже забыл все то, что знал о старике и во что еще недавно верил как в правду.
Ананий смотрел на Фому так странно, как будто видел за ним еще кого-то, кому больно и страшно было слышать его слова и чей страх, чья боль радовали его…
– И все вы, теперешние, погибнете от свободы… Дьявол поймал вас… он отнял у вас труд, подсунув вам свои машины и депеши… Ну-ка, скажи, отчего дети хуже отцов? От свободы, да! Оттого и пьют и развратничают с бабами…
– Ну, – тихо сказал Фома, – развратничали и пьянствовали и прежде не меньше…
– Молчал бы! – крикнул Ананий, сурово сверкая глазами. – Тогда силы у человека больше было… по силе и грехи! Тогда люди – как дубы были… И суд им от господа будет по силам их… Тела их будут взвешены, и измерят ангелы кровь их… и увидят ангелы божии, что не превысит грех тяжестью своей веса крови и тела… понимаешь? Волка не осудит господь, если волк овцу пожрет… но если крыса мерзкая повинна в овце – крысу осудит он!
– Откуда людям знать, как бог осудит человека? – задумчиво спросил Фома. – Видимый суд нужен…
– Пошто – видимый?
– Чтобы понимать людям…
– А кто, кроме бога, судья мне?
Фома взглянул на старика и замолчал, опустив голову. Ему вспомнился беглый каторжник, убитый и сожженный Щуровым, он снова верил, что это так и было. И женщин – жен и любовниц – этот старик, наверное, вогнал в гроб тяжелыми ласками своими, раздавил их своей костистой грудью, выпил сок жизни из них этими толстыми губами, и теперь еще красными, точно на них не обсохла кровь женщин, умиравших в объятиях его длинных, жилистых рук. И вот теперь он, ожидая смерти, которая уже близко от него, считает грехи свои, судит людей и говорит: «Кто, кроме бога, судья мне?»
«Боится он или нет?» – спросил себя Фома и задумался, исподлобья рассматривая старика.
– Да, парень! Думай… – покачивая головой, говорил Щуров. – Думай, как жить тебе… О-о-хо-хо! как я давно живу! Деревья выросли и срублены, и дома уже построили из них… обветшали даже дома… а я все это видел и – все живу! Как вспомню порой жизнь свою, то подумаю: «Неужто один человек столько сделать мог? Неужто я все это изжил?..» – Старик сурово взглянул на Фому, покачал головой и умолк…
Стало тихо. За окном на крыше дома что-то негромко трещало; шум колес и глухой говор людей несся снизу, с улицы. Самовар на столе пел унылую песню. Щуров пристально смотрел в стакан с чаем, поглаживал бороду, и слышно было, что в груди у него хрипит…
– Трудно тебе жить без отца-то? – раздался его голос.
– Привыкаю… – ответил Фома.
– Богат ты… Яков умрет – еще богаче будешь, все тебе откажет. Одна дочь у него… и дочь тебе же надо взять… Что она тебе крестовая и молочная – не беда! Женился бы… а то что так жить? Чай, таскаешься по девкам?
– Нет…
– Говори! Э-эхе-хе!.. Помирает купец… Сказывал мне один лесничий, – врет ли, нет ли, – что-де раньше все собаки волками были и выродились в собак… Так вот и наше звание – тоже скоро все собаками будем… Науки изучим, модные шляпы на башки воткнем, и всё там, что надо, сделаем для того, чтобы свое обличье потерять… И ничем нас от других людей не отличишь… Завели такой порядок, чтобы всех детей в гимназисты отдавать… И купцов, и дворян, и мещан – всех под один колер подгоняют… Оденут в серое и учат всех одной науке… растят человека, как дерево… Зачем это? Никому не известно… И полено одно от другого хоть сучком, да отличается, а тут хотят людей так обстрогать, чтобы все на одно лицо были… Скоро нам, старикам, крышка… да-а! Может, никто уж и не поверит через пятьдесят эдак лет, что на свете я жил… Ананий, Саввин сын, по прозвищу Щуров… так-то! И что я, Ананий, окромя бога, никого не боялся… И что был я в молодости мужик, а земли имел две с четью десятины, а под старость накопил одиннадцать тысяч десятин и всё под лесом… да денег, может, два миллиона…







