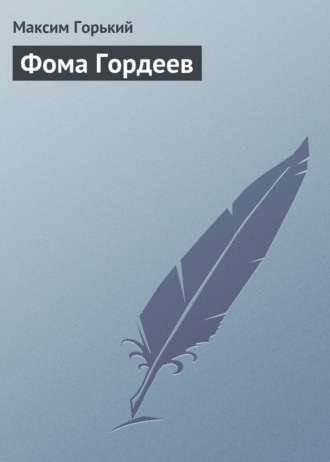
Максим Горький
Фома Гордеев
Он закашлялся, кашлял долго, с воем, и когда перестал, то сказал товарищу, задыхаясь:
– Брось… ничего не выйдет…
Тот грустно опустил голову, а Фома подумал:
«Дельно говорит…»
Невнимание к нему немножко обижало его и в то же время возбуждало в нем чувство уважения к этим людям с темными, пропитанными свинцовой пылью лицами. Почти все они вели деловой, серьезный разговор, в речах их сверкали какие-то особенные слова. Никто из них не заискивал пред ним, не лез к нему с назойливостью, обычной для его трактирных знакомых, товарищей по кутежам. Это нравилось ему…
«Ишь какие… – думал он, внутренно усмехаясь, – имеют свою гордость…»
– А вы, Николай Матвеич, – раздался чей-то как будто укоряющий голос, – вы не по книжке судите, а по живой правде…
– По-озвольте, друзья мои! Чему вас учит опыт ваших собратий?..
Фома повернул голову туда, где громко ораторствовал Ежов, сняв шляпу и размахивая ею над головой. Но в это время ему сказали:
– Подвигайтесь поближе к нам, господин Гордеев!
Пред ним стоял низенький и толстый парень, в блузе и высоких сапогах, и, добродушно улыбаясь, смотрел в лицо ему. Фоме понравилась его широкая, круглая рожа с толстым носом, и он тоже с улыбочкой ответил:
– Можно и поближе… А что – к коньяку не пора нам приблизиться? Я тут захватил бутылок с десять… на всякий случай…
– Ого! Видать – вы сурьезный купец… Сейчас я сообщу компании вашу дипломатическую ноту!..
И сам первый расхохотался над своими словами веселым и громким смехом. И Фома захохотал, чувствуя, как на него от костра или от парня пахнуло весельем и теплом.
Вечерняя заря тихо гасла. Казалось, там, на западе, опускается в землю огромный пурпурный занавес, открывая бездонную глубь неба и веселый блеск звезд, играющих в нем. Вдали, в темной массе города, невидимая рука сеяла огни, а здесь в молчаливом покое стоял лес, черной стеной вздымаясь до неба… Луна еще не взошла, над полем лежал теплый сумрак…
Вся компания уселась в большой кружок неподалеку от костра; Фома сидел рядом с Ежовым спиной к огню и видел пред собою ряд ярко освещенных лиц, веселых и простых. Все были уже возбуждены выпивкой, но еще не пьяны, смеялись, шутили, пробовали петь и пили, закусывая огурцами, белым хлебом, колбасой. Все это для Фомы имело какой-то особый, приятный вкус, он становился смелее, охваченный общим славным настроением, и чувствовал в себе желание сказать что-нибудь хорошее этим людям, чем-нибудь понравиться всем им. Ежов, сидя рядом с ним, возился на земле, толкал его плечом и, потряхивая головой, невнятно бормотал что-то под нос себе…
– Братцы! – крикнул толстый парень. – Давайте грянем студенческую… ну, раз, два!..
Быстры, ка-ак во-олны…
Кто-то загудел басом:
Д-дни-и нашей…
– Товарищи! – сказал Ежов, поднимаясь на ноги со стаканом в руке. Он пошатывался и опирался другой рукой о голову Фомы.
Начатая песня оборвалась, и все повернули к нему головы…
– Труженики! Позвольте мне сказать вам несколько слов… от сердца… Я счастлив с вами! Мне хорошо среди вас… Это потому, что вы – люди труда, люди, чье право на счастье не подлежит сомнению, хотя и не признается… В здоровой, облагораживающей душу среде вашей, честные люди, так хорошо, свободно дышится одинокому, отравленному жизнью человеку…
Голос Ежова дрогнул, зазвенел, и голова затряслась. Фома почувствовал, как что-то теплое капнуло ему на руку, и взглянул в сморщенное лицо Ежова, который продолжал речь, вздрагивая всем телом:
– Я – не один… нас много таких, загнанных судьбой, разбитых и больных людей… Мы – несчастнее вас, потому что слабее и телом и духом, но мы сильнее вас, ибо вооружены знанием… которое нам некуда приложить… Мы все с радостью готовы прийти к вам и отдать вам себя, помочь вам жить… больше нам нечего делать! Без вас мы – без почвы, вы без нас – без света! Товарищи! Мы судьбой самою созданы для того, чтоб дополнять друг друга!
«Чего это он у них просит?» – думал Фома, с недоумением слушая речь Ежова. И, оглядывая лица наборщиков, он видел, что они смотрят на оратора тоже вопросительно, недоумевающе, скучно.
– Будущее – ваше, друзья мои! – говорил Ежов нетвердо и грустно покачивал головой, точно сожалея о будущем и против своего желания уступая власть над ним этим людям. – Будущее принадлежит людям честного труда… Великая работа предстоит вам! Это вы должны создать новую культуру… Я – ваш по плоти и духу, сын солдата – предлагаю: выпьем за ваше будущее! Ур-ра-а!
Ежов, выпив из своего стакана, тяжело опустился на землю. Наборщики дружно подхватили его надорванный возглас, и в воздухе прокатился гремящий, сильный крик, сотрясая листву на деревьях.
– Теперь песню! – снова предложил толстый парень.
– Давай! – поддержали его два-три голоса. Завязался шумный спор о том, что петь. Ежов слушал шум и, повертывая головой из стороны в сторону, осматривал всех.
– Братцы! – вдруг снова крикнул он. – Ответьте мне… ответьте парой слов на мой привет вам…
Снова – хотя и не сразу – все замолчали, глядя на него – иные с любопытством, иные скрывая усмешку, некоторые с ясно выраженным неудовольствием на лицах. А он вновь поднялся с земли и возбужденно говорил:
– Здесь двое нас… отверженных от жизни, – я и вот этот… Мы оба хотим… одного и того же… внимания к человеку… счастья чувствовать себя нужными людям… Товарищи! И этот большой и глупый человек…
– А вы, Николай Матвеич, не обижайте гостя! – раздался чей-то густой и недовольный голос.
– Да, это лишнее! – подтвердил толстый парень, пригласивший Фому к костру. – Зачем обидные слова?
Третий голос громко и отчетливо сказал:
– Мы собрались повеселиться… отдохнуть…
– Глупцы! – слабо засмеялся Ежов. – Добрые глупцы!.. Вам жалко его? Но – знаете ли вы, кто он? Это один из тех, которые сосут у вас кровь…
– Будет, Николай Матвеич! – крикнули Ежову.
И все загудели, не обращая больше внимания на него. Фоме так стало жалко товарища, что он даже не обиделся на него. Он видел, что эти люди, защищавшие его от нападок Ежова, теперь нарочно не обращают внимания на фельетониста, и понимал, что, если Ежов заметит это, – больно будет ему. И, чтоб отвлечь товарища в сторону от возможной неприятности, он толкнул его в бок и сказал, добродушно усмехаясь:
– Ну ты, ругатель, – выпьем, что ли? А то, может, домой пора?
– Домой? Где дом у человека, которому нет места среди людей? – спросил Ежов и снова закричал: – Товарищи!
Его крик утонул в общем говоре без ответа. Тогда он поник головой и сказал Фоме:
– Уйдем отсюда!..
– Ну, идем… Хотя я бы еще посидел… Любопытно… Благородно они, черти, ведут себя… ей-богу!
– Я не могу больше: мне холодно…
Фома поднялся на ноги, снял картуз и, поклонившись наборщикам, громко и весело сказал:
– Спасибо, господа, за угощенье! Прощайте!
Его сразу окружили, и раздались убедительные голоса:
– Подождите! Куда вы? Вот спели бы вместе, а?
– Нет, надо идти… вот и товарищу одному неловко… провожу… Весело вам пировать!
– Эх, подождали бы вы!.. – воскликнул толстый парень и тихо шепнул: – Его можно одного проводить…
Чахоточный тоже сказал тихонько:
– Вы оставайтесь… А мы его до города проводим, там на извозчика и – готово!
Фоме хотелось остаться и в то же время было боязно чего-то. А Ежов поднялся на ноги и, вцепившись в рукава его пальто, пробормотал:
– Иде-ем… черт с ними!
– До свидания, господа! Пойду! – сказал Фома и пошел прочь от них, сопровождаемый возгласами вежливого сожаления.
– Ха-ха-ха! – рассмеялся Ежов, отойдя от костра шагов на двадцать. – Провожают с прискорбием, а сами рады, что я ушел… Я им мешал превратиться в скотов…
– Это верно, что мешал… – сказал Фома. – На что ты речи разводишь? Люди собрались повеселиться, а ты клянчишь у них… Им от этого скука…
– Молчи! Ты ничего не понимаешь! – резко крикнул Ежов. – Ты думаешь – я пьян? Это тело мое пьяно, а душа – трезва… она всегда трезва и все чувствует… О, сколько гнусного на свете, тупого, жалкого! И люди эти, глупые, несчастные люди…
Ежов остановился и, схватившись за голову руками, постоял с минуту, пошатываясь на ногах.
– Н-да-а! – протянул Фома. – Очень они не похожи на других… Вежливы… Господа вроде… И рассуждают правильно… С понятием… А ведь просто – рабочие!..
Во тьме сзади их громко запели хоровую песно. Нестройная сначала, она все росла и вот полилась широкой, бодрой волной в ночном, свежем воздухе над пустынным полем.
– О, боже мой! – вздохнув, сказал Ежов грустно и тихо. – К чему прилепиться душой? Кто утолит ее жажду дружбы, братства, любви, работы чистой и святой?..
– Эти простые люди, – медленно и задумчиво говорил Фома, не вслушиваясь в речь товарища, поглощенный своими думами, – они, ежели присмотреться к ним, – ничего! Даже очень… Любопытно… Мужики… рабочие… ежели их так просто брать – все равно как лошади… Везут себе, пыхтят…
– Всю нашу жизнь они везут на своих горбах! – с раздражением воскликнул Ежов. – Везут, как лошади… покорно, тупо… И эта их покорность – наше несчастие, наше проклятие…
Он, пошатываясь, долгое время шел молча и вдруг каким-то глухим, захлебывающимся голосом, который точно из живота у него выходил, стал читать, размахивая в воздухе рукой:
Я жизнью жестоко обманут,
И столько я бед перенес…
– Это, брат, мои стихи, – сказал он, остановившись и грустно покачивая головой. – Как там дальше? Забыл… Э-эх!
В груди никогда не воспрянут
Рои погребенных в ней грез…
Брат! Ты счастливее меня, потому что – глуп…
– Не скули! – с раздражением сказал Фома. – Вот слушай, как они поют…
– Не хочу слушать чужих песен… – отрицательно качнув головой, сказал Ежов. – У меня есть своя…
И он завыл диким голосом:
В душ-ше никогда не воспря-анут
Р-рои погр-ребенных в ней грез…
Их мно-ого та-ам!
Ежов заплакал, всхлипывая, как женщина. Фоме было жалко его и тяжело с ним. Нетерпеливо дернув его за плечо, он сказал:
– Перестань! Пойдем… Экий ты, брат, слабый…
Схватившись руками за голову, Ежов выпрямил согнутое тело, напрягся и снова тоскливо и дико запел:
Их мно-ого та-ам!
Склеп им так те-есен!
Я в саваны рифм их оде-ел…
И много над ними я песен
Печальных и грустных про-опе-ел!
– О, господи! – с отчаянием вздохнул Фома.
Издали к ним плыла сквозь тьму и тишину громкая хоровая песня. Кто-то присвистывал в такт припева, и этот острый, режущий ухо свист обгонял волну сильных голосов. Фома смотрел туда и видел высокую и черную стену леса, яркое, играющее на ней огненное пятно костра и туманные фигуры вокруг него. Стена леса была – как грудь, а костер – словно кровавая рана в ней. Охваченные густою тьмой со всех сторон, люди на фоне леса казались маленькими, как дети, они как бы тоже горели, облитые пламенем костра, взмахивали руками и пели свою песню громко, сильно.
А Ежов, стоя рядом с Фомой, вновь закричал рыдающим голосом:
Про-опел – и теперь не нарушу
Я больше их мертвого сна…
Господь! упокой мо-ою ду-ушу!
Она-а безнаде-ежно-о больна-а!..
Господь… упокой мо-ою душу…
Фома вздрогнул при звуках мрачного воя, а маленький фельетонист истерически взвизгнул, прямо грудью бросился на землю и зарыдал так жалобно и тихо, как плачут больные дети…
– Николай! – говорил Фома, поднимая его за плечи. – Перестань, – что такое? Будет… как не стыдно!
Но тому было не стыдно: он бился на земле, как рыба, выхваченная из воды, а когда Фома поднял его на ноги – крепко прижался к его груди, охватив его бока тонкими руками, и все плакал…
– Ну, ладно! – говорил Фома сквозь крепко сжатые зубы. – Будет, милый…
И возмущенный страданием измученного теснотою жизни человека, полный обиды за него, он, в порыве злой тоски, густым и громким голосом зарычал, обратив лицо туда, где во тьме сверкали огни города:
– О, черти… анафемы!
XI
– Любавка! – сказал однажды Маякин, придя домой с биржи. – Сегодня вечером приготовься – жениха привезу! Закусочку нам устрой посолиднее… Серебра старого побольше выставь на стол, вазы для фруктов тоже вынь… Чтобы в нос ему бросился наш стол! Пускай видит, у нас что ни вещь – редкость!
Любовь, сидя у окна, штопала носки отца, и голова ее была низко опущена к работе.
– Зачем все это, папаша? – с неудовольствием и обидой спросила она.
– А – для соуса, для вкуса!.. И для порядка… Потому – девка не лошадь, без сбруи с рук не сбудешь…
Любовь нервно вскинула голову и, бросив прочь от себя работу, красная от обиды, взглянула на отца… и, снова взяв в руки носки, еще ниже опустила над ними голову. Старик расхаживал по комнате, озабоченно подергивая рукой бородку; глаза его смотрели куда-то далеко, и было видно, что весь он погрузился в большую, сложную думу. Девушка поняла, что он не будет слушать ее и не захочет понять того, как унизительны для нее его слова. Ее романические мечты о муже-друге, образованном человеке, который читал бы вместе с нею умные книжки и помог бы ей разобраться в смутных желаниях ее, – были задушены в ней непреклонным решением отца выдать ее за Смолина, осели в душе ее горьким осадком. Она привыкла смотреть на себя как на что-то лучшее и высшее обыкновенной девушки купеческого сословия, которая думает только о нарядах и выходит замуж почти всегда по расчетам родителей, редко по свободному влечению сердца. И вот теперь она сама выходит лишь потому, что – пора, и потому еще, что отцу ее нужно зятя, преемника в делах. А отец, видимо, думает, что сама по себе она едва ли способна привлечь внимание мужчины, и украшает ее серебром. Возмущенная, она колола себе пальцы, ломала иголки, но молчала, хорошо зная, что все, что может сказать она, – сердце отца ее не услышит.
А старик расхаживал по комнате и то вполголоса напевал псалмы, то внушительно поучал дочь, как нужно ей держаться с женихом. И тут же он что-то высчитывал на пальцах, хмурился и улыбался…
– Тэк-с!.. «Суди меня, боже, и рассуди прю мою… от человека неправедна и льстива избави мя…» Н-да-а… Материны изумруды надень, Любовь…
– Будет, папаша! – воскликнула девушка с тоской. – Оставьте, пожалуйста…
– А ты не брыкайся! Слушай, чему учат…
И он снова погружался в свои расчеты, прищуривая зеленые глаза и играя пальцами у себя пред лицом.
– Тридцать пять процентов выходит… жулик-парень!.. «Посли свет тво-ой и истину твою…»
– Папаша! – уныло и с боязнью воскликнула Любовь!
– Ась?
– Вы… вам он нравится?
– Кто?
– Смолин…
– Смолин? Н-да… он – ше-ельма… дельный парень… Ну – я ушел… Так ты того, – вооружись!..
Оставшись одна, Любовь бросила работу и прислонилась к спинке стула, плотно закрыв глаза. Крепко сжатые руки ее лежали на коленях, и пальцы их хрустели. Полная горечью оскорбленного самолюбия, она чувствовала жуткий страх пред будущим и безмолвно молилась:
«О, боже мой! О, господи!.. Если б он был порядочный человек!.. Сделай, чтоб он был порядочный… сердечный… О, боже! Приходит какой-то мужчина, смотрит тебя… и на долгие годы берет себе… Как это позорно и страшно… Боже мой, боже!.. Посоветоваться бы с кем-нибудь… Одна… Тарас хоть бы…»
При воспоминании о брате ей стало еще обиднее, еще более жаль себя. Она написала Тарасу длинное ликующее письмо, в котором говорила о своей любви к нему, о своих надеждах на него, умоляя брата скорее приехать повидаться с отцом, она рисовала ему планы совместной жизни, уверяла Тараса, что отец – умница и может все понять, рассказывала об его одиночестве, восхищалась его жизнеспособностью и жаловалась на его отношение к ней.
Две недели она с трепетом ждала ответа, и когда, получив, прочитала его, – то разревелась до истерики от радости и разочарования. Ответ был сух и краток; в нем Тарас извещал, что через месяц будет по делам на Волге и не преминет зайти к отцу, если старик против этого действительно ничего не имеет. Письмо было холодно; она со слезами несколько раз перечитывала его, и мяла и комкала, но оно не стало теплее от этого, а только взмокло. С листочка жесткой почтовой бумаги, исписанного крупным, твердым почерком, на нее как бы смотрело сморщенное, недоверчиво нахмуренное лицо, худое и угловатое, как лицо отца.
На отца письмо сына произвело иное впечатление. Узнав, что Тарас написал, старик весь встрепенулся и оживленно, с какой-то особенной улыбочкой торопливо обратился к дочери:
– Ну-ко, дай-ко сюда! Покажи-ко! Хе! Почитаем, как умники пишут… Где очки-то? «Дорогая сестра!» Н-да…
Старик замолчал, прочитал про себя послание сына, положил его на стол и, высоко подняв брови, с удивленным лицом молча прошелся по комнате. Потом снова прочитал письмо, задумчиво постукал пальцами по столу и изрек:
– Ничего, – писание основательное… без лишних слов… Что ж? Может, и в самом деле окреп человек на холоде-то… Холода там сердитые… Пускай приедет… Поглядим… Любопытно… Н-да… В псалме Давидове сказано: «Внегда возвратитися врагу моему вспять…» – забыл, как дальше-то… «Врагу оскудеша оружия в конец… и погибе память его с шумом…» Ну, мы с ним без шума потолкуем…
Старик старался говорить спокойно, с пренебрежительной усмешкой, но усмешка не выходила на лице у него, морщины возбужденно вздрагивали, и глазки сверкали как-то особенно.
– Ты ему еще напиши, Любавка… валяй, мол, смело приезжай!
Любовь написала Тарасу еще, но уже более краткое и спокойное письмо, и теперь со дня на день ждала ответа, пытаясь представить себе, каким должен быть он, этот таинственный брат? Раньше она думала о нем с тем благоговейным уважением, с каким верующие думают о подвижниках, людях праведной жизни, – теперь ей стало боязно его, ибо он ценою тяжелых страданий, ценою молодости своей, загубленной в ссылке, приобрел право суда над жизнью и людьми… Вот приедет он и спросит ее:
«Что же, ты свободно, по любви выходишь замуж?»
Одна за другой в голове девушки рождались унылые думы, смущали и мучили ее. Охваченная нервным настроением, близкая к отчаянию и едва сдерживая слезы, она все-таки, хотя и полусознательно, но точно исполнила все указания отца: убрала стол старинным серебром, надела шелковое платье цвета стали и, сидя перед зеркалом, стала вдевать в уши огромные изумруды – фамильную драгоценность князей Грузинских, оставшуюся у Маякина в закладе вместе со множеством других редких вещей.
Глядя в зеркало на свое взволнованное лицо, на котором крупные и сочные губы казались еще краснее от бледности щек, осматривая свой пышный бюст, плотно обтянутый шелком, она почувствовала себя красивой и достойной внимания любого мужчины, кто бы он ни был. Зеленые камни, сверкавшие в ее ушах, оскорбляли ее, как лишнее, и к тому же ей показалось, что их игра ложится ей на щеки тонкой желтоватой тенью. Она вынула из ушей изумруды, заменив их маленькими рубинами, думая о Смолине – что это за человек?
Потом ей не понравились темные круги под глазами, и она стала тщательно осыпать их пудрой, не переставая думать о несчастии быть женщиной и упрекая себя за безволие. Когда пятна около глаз скрылись под слоем белил и пудры, Любови показалось, что от этого глаза ее лишились блеска, и она стерла пудру… Последний взгляд в зеркало убедил ее, что она внушительно красива, – красива добротной и прочной красотой смолистой сосны. Это приятное сознание несколько успокоило ее тревогу и нервозность; она вышла в столовую солидной походкой богатой невесты, знающей себе цену.
Отец и Смолин уже пришли.
Любовь на секунду остановилась в дверях, красиво прищурив глаза и гордо сжав губы. Смолин встал со стула, шагнул навстречу ей и почтительно поклонился. Ей понравился поклон, понравился и сюртук, красиво сидевший на гибком теле Смолина… Он мало изменился – такой же рыжий, гладко остриженный, весь в веснушках; только усы выросли у него длинные и пышные да глаза стали как будто больше.
– Каков стал, а? – крикнул Маякин дочери, указывая на жениха.
А Смолин жал ей руку и, улыбаясь, говорил звучным баритоном:
– Смею надеяться – вы не забыли старого товарища?
– Вы после поговорите, – сказал старик, ощупывая дочь глазами. – Ты, Любава, пока распорядись тут, а мы с ним докончим один разговорец. Ну-ка, Африкан Митрич, изъясняй…
– Вы извините меня, Любовь Яковлевна? – ласково спросил Смолин.
– Пожалуйста, не стесняйтесь, – сказала Любовь.
«Вежлив!» – отметила она и, расхаживая по комнате от стола к буфету, стала внимательно вслушиваться в речь Смолина. Говорил он мягко, уверенно.
– Так вот, – я около четырех лет тщательно изучал положение русской кожи на заграничных рынках. Лет тридцать тому назад наша кожа считалась там образцовой, а теперь спрос на нее все падает, разумеется, вместе с ценой. И это вполне естественно – ведь при отсутствии капитала и знаний все эти мелкие производители-кожевники не имеют возможности поднять производство на должную высоту и в то же время – удешевить его… Товар их возмутительно плох и дорог… Они повинны пред Россией в том, что испортили ее репутацию производителя лучшей кожи. Вообще – мелкий производитель, лишенный технических знаний и капитала, – стало быть, поставленный в невозможность улучшать свое производство сообразно развитию техники, – такой производитель – несчастие страны, паразит ее торговли…
Любовь почувствовала в простоте речи Смолина снисходительное отношение к ее отцу, это ее задело.
– Мм… – промычал старик, одним глазом глядя на гостя, а другим наблюдая за дочерью. – Так, значит, твое теперь намерение – взбодрить такую агромадную фабрику, чтобы всем другим – гроб и крышка?
– О, нет! – воскликнул Смолин, плавным жестом отмахиваясь от слов старика. – Моя цель – поднять значение и цену русской кожи за границей, и вот, вооруженный знанием производства, я строю образцовую фабрику и выпускаю на рынки образцовый товар… Торговая честь страны…
– Много ли, говоришь, капитала-то требуется? – задумчиво спросил Маякин.
– Около трехсот тысяч…
«Столько отец не даст за мной», – подумала Любовь.
– Моя фабрика будет выпускать и кожу в деле, в виде чемоданов, обуви, сбруи, ремней…
– А о каком ты проценте мечтаешь? – спросил старик.
– Я – не мечтаю, я – высчитываю со всей точностью, возможной в наших русских условиях, – внушительно сказал Смолин. – Производитель должен быть строго трезв, как механик, создающий машину… Нужно принимать в расчет трение каждого самомалейшего винтика, если ты хочешь делать серьезное дело серьезно. Я могу дать вам для прочтения составленную мною записочку, основанную мной на личном изучении скотоводства и потребления мяса в России…
– Ишь ты! – усмехнулся Маякин. – Принеси записочку, – любопытно! Видать – ты в Европах недаром время проводил… А теперь – поедим чего-нибудь, по русскому обычаю…
– Как поживаете, Любовь Яковлевна? – спросил Смолин, вооружаясь ножом и вилкой.
– Она у меня скучно живет… – ответил за дочь Маякин. – Домоправительница, все хозяйство на ней лежит, ну и некогда ей веселиться-то…
– И негде, нужно добавить, – сказала Люба. – Купеческих балов и вечеринок я не люблю…
– А театр? – спросил Смолин.
– Тоже редко бываю… не с кем…
– Театр! – воскликнул старик. – Скажите на милость – зачем это там взяли такую моду, чтобы купца диким дураком представлять? Очень это смешно, но – непонятно, потому – неправда! Какой я дурак, ежели в думе я – хозяин, в торговле – хозяин, да и театришко-то мой?.. Смотришь на театре купца и видишь – несообразно с жизнью! Конечно, ежели историческое представляют – примерно. «Жизнь за царя» с пением и пляской али «Гамлета» там, «Чародейку», «Василису» – тут правды не требуется, потому – дело прошлое и нас не касается… Верно или неверно – было бы здорово… Но ежели современность представляешь, – так уж ты не ври! И показывай человека как следует…
Смолин слушал речь старика с вежливой улыбкой на губах и бросал Любови такие взгляды, точно приглашал ее возразить отцу. Немного смущенная, она сказала:
– А все-таки, папаша, в большинстве купеческое сословие необразованно и дико…
– Н-да, – утвердительно кивнув головой, молвил Смолин. – К сожалению, – это печальная истина… А в обществах вы ни в каких не участвуете? Ведь у вас тут много разных обществ…
– Да, – вздохнув, сказала Любовь. – Но я как-то в стороне от всего живу…
– Хозяйство! – вставил отец. – Вон сколько разной дребедени у нас… требуется содержать все на счету, в чистоте и порядке…
Он самодовольно кивнул головой на стол, уставленный серебром, и на горку, полки которой ломились под тяжестью вещей и напоминали о выставке в окне магазина. Смолин осмотрел все это, и на губах его мелькнула ироническая улыбка. Потом он взглянул в лицо Любови; она в его взгляде уловила что-то дружеское, сочувственное ей. Легкий румянец покрыл ее щеки, и она внутренно с робкой радостью сказала про себя:
«Слава богу!..»
Огонь тяжелой бронзовой лампы как будто ярче засверкал в гранях хрустальных ваз, в комнате стало светлей.
– А мне нравится наш старый, славный город! – говорил Смолин, с ласковой улыбкой глядя на девушку. – Такой он красивый, бойкий… есть в нем что-то бодрое, располагающее к труду… сама его картинность возбуждает как-то… В нем хочется жить широкой жизнью… хочется работать много и серьезно… И притом – интеллигентный город… Смотрите – какая дельная газета издается здесь… Кстати – мы хотим ее купить…
– Кто это – вы? – спросил Маякин.
– Да вот я… Урванцов, Щукин.
– Это – похвально! – ударив рукой по столу, сказал старик. – Пора им глотку заткнуть – давно пopa! Особенно Ежов там есть… пила такая зубастая… Вот его вы и приструньте! Да хорошенько!..
Смолин снова бросил Любови улыбающийся взгляд, и вновь ее сердце радостно дрогнуло. С ярким румянцем на лице она сказала отцу, внутренно адресуясь к жениху:
– Насколько я понимаю Африкана Дмитриевича, он покупает газету совсем не для того, чтобы зажать ей рот, как вы говорите…
– А куда ее? – спросил старик, пожав плечами. – Одно пустозвонство и смута от нее… Конечно, ежели деловой народ, сам купец возьмется в ней писать…
– Издание газеты, – поучительно заговорил Смолин, перебивая речь старика, – рассматриваемое даже только с коммерческой точки зрения, может быть очень прибыльным делом. Но помимо этого, у газеты есть другая, более важная цель – это защита прав личности и интересов промышленности и торговли…
– Вот я и говорю, – ежели сам купец будет руководствовать ей, газетой, тогда – она нужна…
– Позвольте, папаша, – сказала Любовь.
Она чувствовала потребность высказаться пред Смолиным; ей хотелось убедить его, что она понимает значение его слов, она – не простая купеческая дочь, тряпичница и плясунья. Смолин нравился ей. Первый раз она видела купца, который долго жил за границей, рассуждает так внушительно, прилично держится, ловко одет и говорит с ее отцом – первым умником в городе – снисходительным тоном взрослого с малолетним.
«После свадьбы уговорю его свозить меня за границу…» – вдруг подумала она и, смутившись от этой думы, забыла то, что хотела сказать отцу. Густо покраснев, она несколько секунд молчала, вся охваченная страхом, что это молчание Смолин может истолковать нелестно для нее.
– Вы, за разговором, совсем забыли предложить гостю вина… – нашлась она после нескольких неприятных секунд молчания.
– Это твое дело: ты хозяйка… – возразил отец.
– О, пожалуйста, не беспокойтесь! – живо воскликнул Смолин. – Я ведь почти не пью…
– Ой ли? – спросил Маякин.
– Уверяю вас! Иногда рюмку, две, в случае утомления, нездоровья… А вино для удовольствия – непонятно мне. Есть другие удовольствия, более достойные культурного человека…
– Барыни, что ли? – подмигнув, спросил старик.
Смолин взглянул на Любовь и сухо сказал ее отцу:
– Театр, книги, музыка…
Любовь так вся и расцвела при его словах.
А старик исподлобья посмотрел на достойного молодого человека, усмехнулся остренько и вдруг выпалил:
– Эх, двигается жизнь-то! Раньше песик корку жрал, – нынче моське сливки жидки… Простите, любезные господа, на кислом слове… слово-то больно уж к месту! Оно – не про вас, а вообще…
Любовь побледнела и с испугом взглянула на Смолина. Он сидел спокойно, рассматривая старинную солонку-ковчежец, украшенную эмалью, крутил усы и как будто не слыхал слов старика… Но его глаза потемнели, и губы были сложены как-то очень плотно, отчего бритый подбородок упрямо выдался вперед.
– Так, значит, господин будущий фабрикант, – как ни в чем не бывало заговорил Маякин, – триста тысяч целковых, и – дело твое заиграет пожаром?
– Через полтора года я выпущу первую партию товара, который у меня оторвут с руками, – с непоколебимой уверенностью сказал Смолин и уставился в глаза старика твердым, холодным взглядом.
– Стало быть: торговый дом Смолин и Маякин и – больше никаких? Тэк-с… Поздно мне будто бы новое дело затевать, а? Надо полагать, что уж давно для меня гробик сделан, – ты как думаешь про это?
Вместо ответа Смолин несколько секунд смеялся сочным, но равнодушным и холодным смехом, а потом сказал:
– Э, полноте…
Старик вздрогнул при смехе его и пугливо отшатнулся чуть заметным движением корпуса. После слов Смолина все трое с минуту молчали.
– Н-да-а… – сказал Маякин, не поднимая низко опущенной головы. – Надо подумать об этом… надобно мне подумать… – Потом, подняв голову, он пристально осмотрел дочь и жениха и, встав со стула, сказал угрюмо и грубо: – На минуточку я отойду от вас в кабинетишко к себе…
И ушел, тяжело шаркая ногами, согнув спину, опустив голову…
Молодые люди, оставшись один на один, перекинулись несколькими пустыми фразами и, должно быть, почувствовав, что это только отдаляет их друг от друга, оба замолчали тяжелым и неловким, выжидающим молчанием. Любовь, взяв апельсин, с преувеличенным вниманием начала чистить его, а Смолин осмотрел свои усы, опустив глаза вниз, потом тщательно разгладил их левой рукой, поиграл ножом и вдруг пониженным голосом спросил у девушки:
– А… извините меня за нескромность! – должно быть, в самом деле тяжело вам, Любовь Яковлевна, жить с папашей… ветхозаветен он у вас и – простите – черствоват!
Любовь вздрогнула и взглянула на рыжего человека благодарными глазами, говоря ему:
– Нелегко, но я привыкла… У него есть свои достоинства…
– О, это несомненно! Но вам, молодой, красивой, образованной, вам с вашими взглядами…
Он ласково и сочувственно улыбался, голос у него был такой мягкий… В комнате повеяло теплом, согревающим душу. В сердце девушки все ярче разгоралась робкая надежда на счастье.






