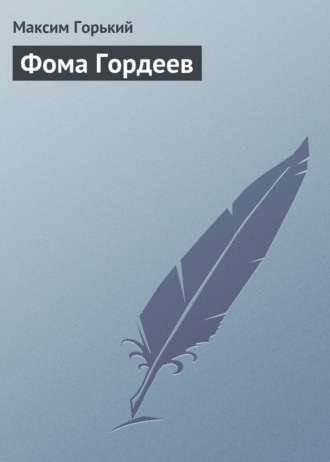
Максим Горький
Фома Гордеев
VIII
На третий день после сцены в клубе Фома очутился в семи верстах от города, на лесной пристани купца Званцева, в компании сына этого купца, Ухтищева, какого-то солидного барина в бакенбардах, с лысой головой и красным носом, и четырех дам… Молодой Званцев носил пенсне, был худ, бледен, и когда он стоял, то икры ног его вздрагивали, точно им противно было поддерживать хилое тело, одетое в длинное клетчатое пальто с капюшоном, и смешную маленькую головку в жокейском картузе. Господин с бакенбардами называл его Жаном и произносил это имя так, точно страдал застарелым насморком. Дамой Жана была высокая женщина с пышной грудью. Голова ее была сжата с боков, низкий лоб опрокинулся назад, длинный нос придавал ее лицу что-то птичье. Это некрасивое лицо было совершенно неподвижно, и лишь глаза на нем – маленькие, круглые, холодные – постоянно улыбались проницательной и хитрой улыбкой. Даму Ухтищева звали Верой, это была высокая женщина, бледная, с рыжими волосами. Их было так много, что казалось, женщина надела на голову себе огромную шапку и она съезжает ей на уши, щеки и высокий лоб; из-под него спокойно и лениво смотрели большие голубые глаза.
Господин с бакенбардами сидел рядом с молоденькой девушкой, полной, свежей и, не умолкая, звонко хохотавшей над тем, что он, склонясь к плечу ее, шептал ей в ухо.
А дама Фомы была стройная брюнетка, одетая во все черное. Смуглолицая, с волнистыми волосами, она держала голову так прямо и высоко и так снисходительно смотрела на все вокруг нее, что было сразу видно, – она себя считала первой здесь.
Компания расположилась на крайнем звене плота, выдвинутого далеко в пустынную гладь реки. На плоту были настланы доски, посреди их стоял грубо сколоченный стол, и всюду были разбросаны пустые бутылки, корзины с провизией, бумажки конфет, корки апельсин… В углу плота насыпана груда земли, на ней горел костер, и какой-то мужик в полушубке, сидя на корточках, грел руки над огнем и искоса поглядывал в сторону господ. Господа только что съели стерляжью уху, теперь на столе пред ними стояли вина и фрукты.
Утомленная двухдневным кутежом и только что оконченным обедом, компания была настроена скучно. Все смотрели на реку, беседовали, но разговор то и дело прерывался паузами. День был ясен и, по-вешнему, бодро молод. Холодно-светлое небо величаво простерлось над мутной водою широко разлившейся реки. Далекий горный берег был ласково окутан синеватой дымкой мглы, там блестели, как большие звезды, кресты церквей. У горного берега река была оживлена – сновали пароходы, шум их доносился тяжким вздохом сюда, в луга, где тихое течение волн наполняло воздух звуками мягкими. Огромные баржи тянулись там одна за другой против течения, – точно свиньи чудовищных объемов взрывали гладь реки. Черный дым тяжелыми порывами лез из труб пароходов и медленно таял в свежем воздухе. Порой гудел свисток – как будто злилось и ревело большое животное, ожесточенное трудом. В лугах было тихо, спокойно. Одинокие деревья, затопленные разливом, уже покрывались ярко-зелеными блестками листвы. Скрывая их стволы и отразив вершины, вода сделала их шарообразными, и казалось, что при малейшем дуновенье ветра они поплывут, причудливо-красивые, по зеркальному лону реки…
Рыжая женщина, задумчиво глядя вдаль, тихо и грустно запела:
Вдоль по Волге ре-ке
Легка лодка плы-э-ве-от…
Брюнетка, презрительно прищурив свои большие, строгие глаза, сказала, не глядя на нее:
– Нам и без этого скучно…
– Не тронь, пусть поет! – добродушно попросил Фома, заглядывая в лицо своей дамы. Он был бледен, в глазах его вспыхивали какие-то искорки, по лицу блуждала улыбка, неясная и ленивая.
– Давайте хором петь!.. – предложил господин с бакенбардами.
– Нет, пускай вот они две споют! – оживленно воскликнул Ухтищев. – Вера, спой эту, – знаешь? «На заре пойду…» Павленька, спойте!
Хохотунья взглянула на брюнетку и почтительно спросила ее:
– Можно спеть, Саша?
– Я сама буду петь! – заявила подруга Фомы и, обратившись к даме с птичьим лицом, приказала ей: – Васса, пой!
Та тотчас погладила рукой горло и уставилась круглыми глазами в лицо сестры. Саша встала на ноги, оперлась рукой о стол и, подняв голову, сильным, почти мужским голосом певуче заговорила:
Хорошо-о тому на свете жить,
У кого нету заботушки,
В ретивом сердце зазнобушки!
Ее сестра качнула головой и протяжно, жалобно, высоким контральто застонала:
Эх-у-ме-ня-у-кра-сно-й-де-еви-цы…
Сверкая глазами на сестру, Саша низкими нотами сказала:
Как былинка, сердце высохло-о-о!
Два голоса обнялись и поплыли над водой красивым, сочным, дрожащим от избытка силы звуком. Один жаловался на нестерпимую боль сердца и, упиваясь ядом жалобы своей, – рыдал скорбно, слезами заливая огонь своих мучений. Другой – низкий и мужественный – могуче тек в воздухе, полный чувства обиды. Ясно выговаривая слова, он изливался густою струей, и от каждого слова веяло местью.
Уж я ему это выплачу… —
жалобно пела Васса, закрыв глаза.
За-азноблю его, по-овысушу… —
уверенно и грозно обещала Саша, бросая в воздух крепкие, сильные звуки… И вдруг, изменив темп песни и повысив голос, она запела так же протяжно, как сестра, сладострастные угрозы:
Суше ветра, су-уше буйного,
Суше той травы коше-оные…
Ой, коше-ные, просушеные…
Фома, облокотясь на стол, смотрел в лицо женщины, в черные, полузакрытые глаза ее. Устремленные куда-то вдаль, они сверкали так злорадно, что от блеска их и бархатистый голос, изливавшийся из груди женщины, ему казался черным и блестящим, как ее глаза. Он вспоминал ее ласки и думал:
«И откуда она, такая? Даже боязно с ней…»
Ухтищев, прижавшись к своей даме, с блаженным лицом слушал песню и весь сиял от удовольствия. Господин в бакенбардах и Званцев пили вино и тихо шептались о чем-то, наклонясь друг к другу. Рыжая женщина задумчиво рассматривала ладонь руки Ухтищева, держа ее в своих руках, а веселая девушка стала грустной, наклонила низко голову и слушала песню, не шевелясь, как очарованная. От костра шел мужик. Он ступал по доскам осторожно, становясь на носки сапог, руки его были заложены за спину, а широкое бородатое лицо все преобразилось в улыбку удивления и наивной радости.
Эх, – ты восчувствуй, добрый молодец! —
тоскливо взывала Васса, покачивая головой. Сестра, еще выше вскинув голову, закончила песню:
Какова тоска любо-овная-а-а!
Кончив петь, она гордо посмотрела вокруг и, опустившись рядом с Фомой, обняла его за шею сильной рукой.
– Что, хороша песня?..
– Славная! – сказал Фома, улыбаясь ей.
– Браво-о! Браво, Александра Савельевна! – кричал Ухтищев, а все остальные били в ладони.
Но она не обращала на них внимания и, властно обнимая Фому, говорила:
– Вот ты мне и подари что-нибудь за песню…
– Ладно, я подарю… – согласился Фома.
– Что?
– Ты скажи…
– Скажу в городе… И, если подаришь, что я хочу, – о, как я тебя любить буду!
– За подарок-то? – спросил Фома, недоверчиво усмехаясь. – А ты бы просто…
Она спокойно взглянула на него и, секунду подумав, решительно сказала:
– Просто – рано… Я лгать не буду, прямо говорю – люблю за деньги, за подарки… Можно и так любить… да. Ты подожди, – я присмотрюсь к тебе и, может, полюблю бесплатно… А пока – не обессудь… мне, по моей жизни, много денег надо…
Фома слушал ее, улыбался и вздрагивал от близости ее тела. В уши ему лез какой-то надтреснутый и скучный голос Званцева:
– Я не могу понять красот этой прославленной русской песни… Что в ней? Волчий вой, голодное что-то, дикое… Э… это собачьи немощи… Нет веселья, нет шика… Вы послушайте, что и как поет француз! Или – итальянец…
– Позвольте, Иван Николаевич… – возмущенно кричал Ухтищев.
– Я должен с этим согласиться – русская песня однообразна и тускла… – прихлебывая вино, говорил человек с бакенбардами.
Заходило солнце. Опускаясь где-то далеко, в луговой стороне, оно бросало на темную, холодную воду розоватые и золотые пятна. Фома смотрел на игру солнечных лучей, следил, как трепетно они переливались по гладкой равнине вод, и, ловя ухом отрывки разговора, представлял себе слова роем темных мотыльков, суетливо носившихся в воздухе. Саша, положив голову на плечо ему, тихо говорила прямо в ухо ему слова, от которых он краснел и смущался, они возбуждали в нем желание обнять эту женщину и целовать ее без счета и устали. Кроме нее – никто не интересовал его из людей, собравшихся тут. Званцев же и барин были противны ему…
– Ты чего глазеешь, а? – услышал он строгий возглас Ухтищева.
Ухтищев кричал на мужика. Тот сдернул с головы картуз, хлопнул им себя по колену и, улыбаясь, отвечал:
– Я – барыню послушать подошел…
– Хорошо поет?
– Что и говорить! – с восхищением оглядывая Сашу, сказал мужик. – Бо-ольшая сила голосу в грудях у них!
Его слова вызвали смех и двусмысленные речи мужчин.
Саша спросила мужика:
– Ты – поешь?
– Как мы поем! – махнул он рукой.
– Какие песни знаешь?..
– Да всякие… я петь люблю… – И он виновато усмехнулся.
– Давай споем со мной.
– Куда нам! Разве вы мне – пара?
– Ну, запевай!
– Как это весело! – воскликнул Званцев, сморщив лицо.
– Если вам скучно – утопитесь!.. – сказала Саша, сердито сверкнув на него глазами.
– Нет, холодна вода… – ответил Званцев, ежась под ее взглядом.
– А уж пора вам! И воды много теперь, не всю бы вы испортили ее гнилым вашим телом…
– Фи, как остроумно! – воскликнул юноша и с презрением добавил: – В России даже кокотки грубы…
Он обращался к своему соседу, тот ответил ему пьяной улыбкой. Ухтищев тоже был пьян. Посоловевшими глазами глядя в лицо своей дамы, он что-то бормотал. Дама с птичьим лицом клевала конфеты, держа коробку под носом у себя. Павленька ушла на край плота и, стоя там, кидала в воду корки апельсина.
– Никогда я не участвовал в такой нелепой прогулке, – жалобно говорил Званцев соседу.
Фома с усмешкой следил за ним и был доволен, что этот изломанный человек скучает, и тем, что Саша обидела его. Он ласково поглядывал на свою подругу, – нравилось ему, что она говорит со всеми резко и держится гордо, как настоящая барыня.
Мужик, стоя около нее, говорил:
– Барыня! Ты бы поднесла мне для-ради храбрости?!
– Фома, поднеси ему стакан!
И, когда мужик, выпив, вкусно крякнул, Саша скомандовала:
– Начинай…
Скосив рот на сторону, мужик высоким тенором затянул:
Мне не пье-отся и-эх-ни-глотатся-а-а…
Женщина трепетно подхватила:
Ви-ина душа-а не прима-ат…
Мужик сладко улыбнулся, заболтал головой и, закрыв глаза, пролил в воздух дрожащую струю высоких нот:
О э-мне пришла-а-а пора-а-а проща-ться-а-а…
А женщина застонала и заплакала:
Ой со-о-ро-одныи-ими надо расставаться-а…
Понизив голос, мужик с изумительной силой скорби пропел-сказал:
Эх и в чужу сто-рону надоть мне идти…
Когда два голоса, рыдая и тоскуя, влились в тишину и свежесть вечера, – вокруг стало как будто теплее и лучше; все как бы улыбнулось улыбкой сострадания горю человека, которого темная сила рвет из родного гнезда в чужую сторону, на тяжкий труд и унижения. Точно не звуки, не песня, а те горячие слезы человеческого сердца, на которых выкипела эта жалоба, – сами слезы увлажнили воздух. Тоска души, измученной в борьбе страдания от ран, нанесенных: человеку железной рукой нужды, – все было вложено в простые, грубые слова и передавалось невыразимо тоскливыми звуками далекому, пустому небу, в котором никому и ничему нет эха.
Отшатнувшись от певцов, Фома смотрел на них с чувством, близким испугу, песня кипящей волной вливалась ему в грудь, и бешеная сила тоски, вложенная в нее, до боли сжимала ему сердце. Он чувствовал, что сейчас у него хлынут слезы, в горле у него щипало, и лицо вздрагивало. Он смутно видел черные глаза Саши, – неподвижные, они казались ему огромными и становились все больше. И ему казалось, что поют не двое людей – все вокруг поет, рыдает и трепещет в муках скорби, все живое обнялось крепким объятием отчаяния.
Когда кончили петь, он, вздрагивая от возбуждения, с мокрым от слез лицом, смотрел на них и улыбался.
– Что – тронуло? – спросила Саша. Бледная от усталости, она дышала тяжело и быстро. Фома взглянул на мужика, – он вытирал потный лоб и оглядывался вокруг себя такими растерянными глазами, как будто не понимал – что случилось?
Было тихо. Все сидели неподвижно, молча.
– Ах, господи! – вздохнул Фома, поднимаясь на ноги. – Эх, Саша! Мужик! Кто ты такой? – почти крикнул он.
– Степан… – виновато улыбаясь, ответил мужик.
– Как ты поешь, а? – с изумлением восклицал Фома, тревожно переминаясь на одном месте.
– Э-эх, ваше степенство! – вздохнул мужик. – Горе заставит – бык соловьем запоет… А вот барыня с чего поет, так… это уж богу одному известно… а поет она – ложись и помирай! Н-ну, – барыня!
– Спет-то очень хорошо! – сказал Ухтищев пьяным голосом.
– Черт знает что! – раздраженно и почти со слезами закричал вдруг Званцев, вскакивая из-за стола. – Я приехал гулять, – я хочу веселиться, а меня отпевают!.. Что за безобразие! Я не хочу больше, – я уезжаю!
– Жан! Я тоже уезжаю… – заявил господин с бакенбардами.
– Васса! – кричал Званцев. – Одевайся!..
– Да, пора ехать, – спокойно сказала Ухтищеву его рыжая дама. – Холодно… И скоро будет темно…
– Степан! Собирай все, – командовала Васса.
Все засуетились, заговорили о чем-то; Фома смотрел недоумевающими глазами и все вздрагивал. Люди, покачиваясь, ходили по плотам, бледные, утомленные, и говорили друг другу что-то нелепое, бессвязное. Саша бесцеремонно толкала их, собирая свои вещи.
– Степан! Крикни лошадей…
– А я – выпью еще коньяку, – кто хочет коньяку со мной? – тянул блаженным голосом господин с бакенбардами, держа в руках бутылку.
Васса укутывала шею Званцева шарфом. Он стоял перед нею, капризно выпятив губы, сморщенный, икры его вздрагивали. Фоме стало противно смотреть на них, он отошел на другой плот. Его удивляло, что все эти люди ведут себя так, точно они не слышали песни. В его груди она жила, вызывая у него беспокойное желание что-то сделать, сказать.
Уже солнце зашло, даль окуталась синим туманом. Фома посмотрел туда и отвернулся в сторону. Ему не хотелось ехать в город с этими людьми. А они всё расхаживали по плоту неровными шагами, качаясь из стороны в сторону и бормоча бессвязные слова. Женщины были трезвее мужчин, только рыжая долго не могла подняться со скамьи и, наконец поднявшись, объявила:
– Ну, я пьяна…
Фома сел на обрубок дерева и, подняв топор, которым мужик колол дрова для костра, стал играть им, подбрасывая его в воздух и ловя.
– Ах, как это пошло! – раздался капризный возглас Званцева.
Фома почувствовал, что ненавидит его, – его и всех, кроме Саши, возбуждавшей в нем смутное чувство удивления пред нею и боязни, что она может сделать что-то неожиданное и страшное.
– С-скотина! – визгливо крикнул Званцев.
Фома увидел, что он толкнул мужика, а мужик, сняв шапку, виновато пошел в сторону…
– Ду-урак! – шагая за ним и взмахивая рукой, кричал Званцев.
Фома вскочил на ноги и громко, угрожающе сказал:
– Ты! Не тронь его!
– Что-о? – обернулся Званцев к нему.
Фома приподнял плечи, шагнул к нему… И вдруг в голове его вспыхнула одна мысль. Он злорадно усмехнулся и тихо спросил Степана:
– В трех местах звено счалено?
– В трех, как же!
– Руби связи…
– А они?..
– Молчи! Руби…
– Да ведь…
– Руби! Тише, – чтобы не заметили!
Мужик взял в руки топор, не торопясь подошел к месту, где звено плотно было связано с другим звеном, и, несколько раз стукнув топором, воротился к Фоме.
– Я, ваше степенство, не в ответе, – сказал он.
– Не бойся…
– Поехали!.. – прошептал мужик со страхом и торопливо перекрестился. А Фома, тихонько посмеиваясь, испытывал жуткое чувство, остро и жгуче щекотавшее ему сердце какой-то странной, приятной и сладкой боязнью.
Люди на плоту всё еще расхаживали, двигаясь медленно, сталкиваясь друг с другом, помогая одеваться дамам, смеясь и разговаривая, а плот тихонько, нерешительно повертывался на воде.
– Ежели их на караван снесет, – шептал мужик, – на пыжи ткнутся – разобьет вдрызг…
– Молчи… Лодку подашь, догонишь…
– Вот!.. Все-таки люди.
Довольный, усмехаясь, мужик прыжками бросился по плотам к берегу. Фома стоял над водой, и ему страстно хотелось крикнуть что-нибудь, но он удерживался, желая, чтобы плот отплыл подальше и эти пьяные люди не могли перепрыгнуть с него на причаленные звенья. Он ощущал приятное, ласкавшее его чувство, видя, как плот тихо колеблется на воде и уходит от него с каждой секундой все дальше. Вместе с людьми на плоту из груди его как бы уплывало все тяжелое и темное, чем он наполнил ее за это время. Он вдыхал свежий воздух и вместе с ним что-то здоровое, отрезвляющее его голову. На самом краю уплывавшего плота стояла спиной к Фоме Саша; он смотрел на ее красивую фигуру и невольно вспоминал о Медынской. Та была меньше ростом… Воспоминание о ней укололо его, и он громким насмешливым голосом крикнул:
– Эй вы! Прощайте…
Темные фигуры людей вдруг и все сразу двинулись к нему и сбились в кучу на средине плота. Но уже между ними и Фомой холодно блестела полоса воды шириною почти в сажень. Несколько секунд длилось молчание…
И вдруг на Фому полетел целый ураган звуков, визгливых, полных животного страха, противно-жалобных, а выше всех и всех противней резал ухо тонкий, дребезжащий крик Званцева:
– Спа-асите…
Кто-то – должно быть, солидный господин с бакенбардами – ревел басом:
– Топят… топят людей…
– Разве вы люди?! – зло крикнул Фома, раздраженный криками, которые точно кусали его.
Люди в безумии страха метались по плоту; он колебался под их ногами и от этого плыл быстрее. Было слышно, как вода плещет на него и хлюпает под ним. Крики рвали воздух, люди прыгали, взмахивали руками, и лишь стройная фигура Саши неподвижно и безмолвно стояла на краю плота.
– Кланяйтесь ракам! – кричал Фома. Ему все легче и веселее становилось по мере того, как плот уходил дальше.
– Фома Игнатьевич, – нетвердым, но трезвым голосом заговорил Ухтищев, – смотрите, это опасная шутка!.. Я буду жаловаться!..
– Когда утонешь? Жалуйся! – весело ответил Фома.
– Ты – убийца!.. – рыдая, вскричал Званцев. Но в это время раздался звучный плеск воды, точно она ахнула от испуга или удивления. Фома вздрогнул и замер. Потом взмыл опьяняющий, дикий вой женщин, полные ужаса возгласы мужчин, и все фигуры на плоту замерли, кто как стоял. Фома, глядя на воду, окаменел, – по воде к нему плыло что-то черное, окружая себя брызгами…
Инстинктивно Фома бросился грудью на бревна плота и протянул руки вперед, свесив над водой голову. Прошло несколько невероятно долгих секунд… Холодные, мокрые пальцы схватили его за руки, темные глаза блеснули перед ним…
Тупой страх, овладевший им, исчез, сменясь мятежной радостью. Он схватил женщину, вырвав ее из воды, прижал к груди и с удивлением, не зная, что сказать ей, смотрел в ее глаза. Они ласково улыбнулись ему…
– Холодно! – сказала Саша, вздрогнув.
Фома счастливо засмеялся при звуке ее голоса, вскинул ее на руки и быстро, почти бегом, бросился по плотам к берегу. Она была мокрая и холодная, как рыба, но ее дыхание было горячо, оно жгло щеку Фомы и наполняло грудь его буйной радостью.
– Утопить меня хотел? – говорила она, крепко прижимаясь к нему.
– Как это ты хорошо сделала, – бормотал Фома на бегу.
– Ну, и ты не худо выдумал… хоть с виду смирный…
– А те – всё орут!
– Черт с ними! Утонут – мы с тобой в Сибирь пойдем… – сказала женщина. Она начала дрожать, и дрожь ее тела, ощущаемая Фомой, заставила его ускорить свой бег.
С реки вслед им неслись вопли и крики о помощи. Там, по спокойной воде, удаляясь от берега к струе главного течения реки, плыл в сумраке маленький остров, на нем метались темные человеческие фигуры.
Ночь надвигалась на них.
IX
Однажды в полдень воскресенья Яков Маякин пил чай у себя в саду. Расстегнув ворот рубахи и обмотав шею полотенцем, он сидел на скамье под навесом зелени вишен, размахивал руками в воздухе, отирая пот с лица, и немолчно рассыпал в воздухе быструю речь.
– Дурак и подлец тот человек, который позволяет брюху иметь власть над собой!
Глаза старика блестели раздраженно и злобно, губы презрительно кривились, и морщины темного лица вздрагивали.
– Был бы Фомка сын мой родной – я б его вышколил!
Играя веткой акации, Любовь молча слушала речь отца, внимательно и пытливо поглядывая на его возмущенное, дрожащее лицо. Становясь старше, она незаметно для себя изменяла недоверчивое и холодное отношение к старику. Всегда кипевший в делах, бойкий и умный, он одиноко шел по своему пути, а она видела его одиночество, знала, как тяжело оно, и ее отношение к отцу становилось теплее. Уже порой она вступала в споры со стариком; он всегда относился к ее возражениям пренебрежительно и насмешливо, но с каждым разом внимательней и мягче.
– Если б покойник Игнат прочитал в газете о безобразной жизни своего сына – убил бы он Фомку! – говорил Маякин, ударяя кулаком по столу. – Ведь как расписали? Срам!
– За дело! – сказала Любовь.
– Я не говорю – зря! Облаяли, как и следовало… И кто это разошелся?
– Не все ли вам равно? – спросила девушка.
– Любопытно… Бойко, жулик, изобразил Фомкино поведение… Видимо – сам с ним гулял и всему его безобразию свидетелем был…
– Н-ну, он не станет с Фомой гулять! – убежденно сказала Любовь и густо покраснела под пытливым взглядом отца.
– Ишь ты! Ха-арошие знакомства у тебя, Любка! – юмористически-ядовито сказал Маякин. – Ну, кто это писал?
Ей не хотелось говорить, но отец настаивал, и голос его становился все суше и сердитей. Тогда она беспокойно спросила его:
– А вы ему ничего не сделаете?
– Я? Я ему – голову откушу! Ду-реха! Что я могу сделать? Они, эти писаки, неглупый народ… Сила, черти! А я не губернатор… да и тот ни руку вывихнуть, ни языка связать не может… Они, как мыши, – грызут помаленьку… н-да! Ну, так кто же это?
– А помните, когда я училась, гимназист ходил к нам, Ежов? Черненький такой…
– Видал, как же! Так это он? Мышонок!.. И в ту пору видно уже было, что выйдет из него – непутевое… Надо бы мне тогда заняться им… может, человеком стал бы…
Любовь усмехнулась, взглянув на отца, и с задором спросила:
– А разве тот, кто в газетах пишет, не человек?
Старик долго не отвечал дочери, задумчиво барабаня пальцами по столу и рассматривая свое лицо, отраженное в ярко начищенной меди самовара. Потом, подняв голову, он прищурил глаза и внушительно, с азартом сказал:
– Это не люди, а – нарывы! Кровь в людях русских испортилась, и от дурной крови явились в ней все эти книжники-газетчики, лютые фарисеи… Нарвало их везде и все больше нарывает… Порча крови – отчего? От медленности движения… Комары откуда? От болота… В стоячей воде всякая нечисть заводится… И в неустроенной жизни то же самое…
– Вы не то говорите, папаша! – мягко сказала Любовь.
– Это как же – не то?
– Писатели – люди самые бескорыстные… это – светлые личности! Им ведь ничего не надо – им только справедливости, – только правды! Они не комары…
Любовь волновалась, расхваливая возлюбленных ею людей; ее лицо вспыхнуло румянцем, и глаза смотрели на отца с таким чувством, точно она просила верить ей, будучи не в состоянии убедить.
– Э-эх ты! – со вздохом сказал старик, перебивая ее. – Начиталась! Ты мне скажи – кто они? Неизвестно! Ежов вот – что он такое? Нашему богу – бя! Только правды им надо, – скажете?! Ишь, скромники какие?! А если она, правда-то, самое дорогое и есть?.. Ежели ее, может быть, каждый молча ищет? Ты мне поверь – бескорыстным человек не может быть… за чужое он не станет биться… а ежели бьется – дурак ему имя, и толку от него никому не будет! Нужно, чтоб человек за себя встать умел… за свое кровное… тогда он – добьется! Правда! Я почти сорок лет одну и ту же газету читаю и хорошо вижу… вот пред тобой моя рожа, а предо мной – на самоваре вон – тоже моя, но другая… Вот газеты эти самоварную рожу всему и придают, а настоящей не видят… А ты им веришь… Я знаю – в самоваре моя рожа испорчена.
– Папаша! – тоскливо воскликнула Любовь. – Но ведь в книгах и газетах защищают общие интересы, всех людей.
– А в какой газете написано про то, что тебе жить скучно и давно уж замуж пора? Вот те и не защищают твоего интересу! Да и моего не защищают… Кто знает, чего я хочу? Кто, кроме меня, интересы мои понимает?
– Нет, папаша, это все – не то, не то! Я не умею возразить вам, но я чувствую – это не так! – говорила Любовь почти с отчаянием.
– То самое! – твердо сказал старик. – Смутилась Россия, и нет в ней ничего стойкого: все пошатнулось! Все набекрень живут, на один бок ходят, никакой стройности в жизни нет… Орут только все на разные голоса. А кому чего надо – никто не понимает! Туман на всем… туманом все дышат, оттого и кровь протухла у людей… оттого и нарывы… Дана людям большая свобода умствовать, а делать ничего не позволено – от этого человек не живет, а гниет и воняет…
– Что же надо делать? – спросила Любовь, облокачиваясь на стол и наклоняясь к отцу.
– Все! – азартно крикнул старик. – Все делай!.. Валяй, кто во что горазд! А для того – надо дать волю людям, свободу! Уж коли настало такое время, что всякий шибздик полагает про себя, будто он – все может и сотворен для полного распоряжения жизнью, – дать ему, стервецу, свободу! На, сукин сын, живи! Ну-ка, живи! А-а! Тогда воспоследует такая комедия: почуяв, что узда с него снята, – зарвется человек выше своих ушей и пером полетит – и туда и сюда… Чудотворцем себя возомнит, и начнет он тогда дух свой испущать…
Старик сделал паузу и с ехидной улыбкой, понизив голос, продолжал:
– А духа этого самого строительного со-овсем в нем малая толика! Попыжится он день-другой, потопорщится во все стороны и – вскорости ослабнет, бедненький! Сердцевина-то гнилая в нем… Ту-ут его, голубчика, и поймают настоящие, достойные люди, те настоящие люди, которые могут… действительными штатскими хозяевами жизни быть… которые будут жизнью править не палкой, не пером, а пальцем да умом. Что, скажут, устали, господа? Что, скажут, не терпит селезенка настоящего-то жару? – И, повысив голос, властным тоном старик закончил свою речь: – Ну, так теперь вы, такие-сякие, – молчать и не пищать! А то, как червей с дерева, стряхнем вас с земли! Цыц, голубчики! Вот оно как произойдет, Любавка! Хе-хе-хе!
Старику было весело. Его морщины играли, и, упиваясь своей речью, он весь вздрагивал, закрывал глаза и чмокал губами, как бы смакуя что-то…
– Ну и тогда-то вот те, которые верх в сумятице возьмут, – жизнь на свой лад, по-умному и устроят… Не шаля-валя пойдет дело, а – как по нотам! Не доживешь до этого, жаль!..
На Любовь слова отца падали одно за другим, как петли крепкой сети, – падали, опутывая ее, и девушка, не умея освободиться из них, молчала, оглушенная речами отца. Глядя в лицо его напряженным взглядом, она искала опоры для себя в словах его и слышала в них что-то общее с тем, о чем она читала в книгах и что казалось ей настоящей правдой. Но злорадный, торжествующий смех отца царапал ей сердце, и эти морщины, что ползали по лицу его, как маленькие, темные змейки, внушали ей боязнь за себя пред ним. Она чувствовала, что он поворачивает ее куда-то в сторону от того, что в мечтах казалось ей таким простым и светлым.
– Папаша! – вдруг спросила она старика, повинуясь внезапно вспыхнувшей мысли и желанию. – Папаша! А кто, по-вашему, Тарас?
Маякин вздрогнул. Брови у него сердито зашевелились, он пристально уставился острыми глазками в лицо дочери и сухо спросил ее:
– Это что за разговор?
– Разве нельзя говорить про него? – тихо и смущенно сказала Любовь.
– Не хочу я о нем говорить… И тебе не советую! – Старик погрозил дочери пальцем и, сурово нахмурившись, опустил голову.
Но, сказав, что не хочет говорить о сыне, он, должно быть, неверно понял себя, ибо через минуту молчания заговорил хмуро и сердито:
– Тараска – тоже нарыв… Дышит жизнь на вас, молокососов, а вы настоящих ее запахов разобрать не можете, глотаете всякую дрянь, и оттого у вас – муть в башках… Тараска… Лет за тридцать ему теперь… пропал он для меня!.. Тупорылый поросенок…
– Что он сделал? – спросила Любовь, жадно вслушиваясь в речь старика…
– А кто это знает? Он сам, поди, теперь понять себя не может… ежели умен стал… А должно – стал-таки умником… не глупого отца сын… и потерпел немало… Балуют их, нигилистов!.. Мне бы их – я бы им указал дело… В пустыни! В пустынные места – шагом марш!.. Ну-ка вы, умники, устройте-ка здесь жизнь по своему характеру! Ну-ка! А в начальники над ними поставил бы крепких мужичков… Нуте-ка, честные господа, вас поили, кормили, учили – чему вы научились? Пожалуйте должок… Я бы ломаного гроша на них не истратил, а весь сок из них выжал бы – отдай! Человеком пренебрегать нельзя, – в тюрьму его посадить – мало! Ты переступил закон да и барин? Нет, ты мне поработай… От зерна одного колос целый родится, а чтобы человек без пользы пропадал – нельзя этого допускать!.. Расчетливый столяр каждой щепочке место в деле найдет – так человек должен быть израсходован с пользой для дела, весь, до последней своей жилки. Всякая дрянь в жизни место имеет, а человек – никогда не дрянь… Эх! плохо, когда сила живет без ума, да нехорошо, когда и ум без силы… Вот теперь Фомка… Кто это там лезет, взгляни-ка!
Обернувшись, Любовь увидала, что по дорожке сада, почтительно сняв картуз и кланяясь ей, идет Ефим, капитан «Ермака». Лицо у него было безнадежно виноватое, и весь он какой-то пришибленный. Яков Тарасович узнал его и, сразу обеспокоившись, крикнул:
– Что случилось?
– Так что – я к вам! – сказал Ефим, с низким поклоном остановившись у стола.
– Ну, вижу, ко мне… В чем дело? Где пароход?
– Пароход – там! – Ефим сунул рукой куда-то в воздух и тяжело переступил с ноги на ногу.
– Где, черт? Говори – что случилось? – гневно закричал старик.
Ефим вобрал в грудь много воздуха и медленно проговорил:
– Баржу № 9 разбили. Человеку спину перешибли, – а одного совсем нет, так что, пожалуй, утоп.
– Та-ак! – зловеще измеряя глазами капитана, протянул Маякин. – Н-ну, Ефимушка, сдеру же я с тебя шкуру…
– Это не я! – быстро сказал Ефим.
– Не ты? – крикнул старик и весь затрясся. – Кто?
– Сами хозяин…
– Фомка?! А ты, ты что?
– Я – в люке лежал…
– А-а! Ты ле-жал…
– Связанный…
– Что-о? – взвизгнул старик тонким голосом.
– Позвольте по порядку… Так что они были выпимши и кричат: «Ступай прочь! я сам буду командовать!» Я говорю: «Не могу! Как я – капитан…» – «Связать, говорят, его!» И, связавши, спустили меня в люк, к матросам… А как сами были выпимши, то и захотели пошутить… Встречу нам шел воз… шесть порожних барж под «Черногорцем». Фома Игнатьич и загородили им путь… Свистали те… не раз… надо говорить правду – свистали!






