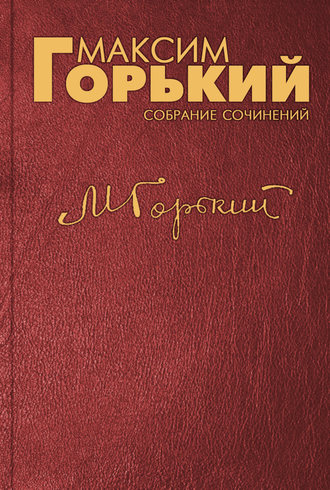
Максим Горький
Три дня
– Отчего?
– Та-ак.
Он поднялся на ноги, оглядываясь, прислушался – где-то неподалёку бил коростель, а Христина тихонько говорила:
– Мне к Мишиным надо зайти…
Глаза у неё разбегались, по лицу расплылась слащавая улыбочка.
– Врёшь ты, – тихо сказал Николай.
– Ей-богу – правда! – воскликнула она, прижимая руки к высокой груди.
– Врёшь, – повторил парень раздумчиво и, тряхнув головою, подошёл вплоть к ней. – Погляди-ка в глаза мне – ну?
Она испуганно выкатила карие зрачки, улыбка сошла с лица её, и губы вздрогнули.
– Что ты, Коленька!
– Знаю я, о чём ты думаешь! – сказал он сердито. – И почему не едешь сегодня со мной – понимаю!
– Да что ты! – повторила она обиженно. – Что тебе кажется? Господь с тобой, право!
Он подвинулся к ней, тихо говоря:
– Ты на что мне в то воскресенье про Федосью Шилову рассказала?
– И не помню я даже…
– Не помнишь?
Но вдруг покраснев, она взмахнула рукой и, широко крестясь, заговорила торопливо:
– Вот – на! – святой крест – правда это! Все говорят про неё, только доказать нельзя, ведь уж семь месяцев прошло, как он помер…
Она смотрела прямо в глаза ему, речь её становилась всё многословнее, оживлённее – он подумал:
«Может, ошибаюсь я, свои мысли вижу у неё…»
И вслух сказал примирительно:
– Да я не про это! Нужно ли мне в чужое дело соваться?..
– Так про что же? – спросила она удивлённо.
– Да вот… всё вместе со мной в лодке отсюда ездила, а сегодня вдруг будто испугалась чего – иду одна, пешком!
В глазах её вспыхнули и тотчас погасли зелёные искорки, она обняла его за шею и, поцеловав, шепнула на ухо:
– Не бойся!
– Чего? – спросил Назаров, тоже обняв её, а она, крепко прижимаясь к нему грудью, томно прикрыв глаза, маня и обещая, сказала:
– Ничего не бойся! Ой, люблю я тебя до смерти!
И, вдруг обессилев, тяжело повисла в его руках.
У него сладко кружилась голова, сердце буйно затрепетало, он обнимал её всё крепче, целуя открытые горячие губы, сжимая податливое мягкое тело, и опрокидывал его на землю, но она неожиданно, ловким движением выскользнула из его рук и, оттолкнув, задыхаясь, крикнула подавленно:
– Иди, уходи!
Он, шатаясь, пошёл к ней.
– Уходи, Николай! – снова крикнула она. – Не могу я… ну тебя…
Глядя на неё пьяными глазами, обессиленный возбуждением, он пробормотал:
– Доведёшь ты меня… додразнишь до греха, гляди, Христина…
И, круто отвернувшись, пошёл сквозь кусты к лодке.
Когда он оттолкнулся от берега, то увидал над зеленью кустарника её лицо: возбуждённое, глазастое, с полуоткрытыми улыбкой губами, оно было как большой розовый цветок. Простоволосая, с толстой косою на груди, она махала ему платком, рука её двигалась утомлённо, неверно, и можно было думать, что девушка зовёт его назад.
Крепко стиснув вёсла, он погрузил их в реку и рванул к себе, громко, озлобленно крякнув.
– Вечером-то увидимся ли? – негромко сказала Христина.
Он не ответил, яростно взрывая воду вёслами.
III
Доплыв до села, он вышел на берег и, подавленный смутным, тревожным желанием, которое и запрещало ему идти домой и влекло туда, – пошёл повидаться с учителем Покровским.
Павел Иванович, щуплый, сухонький человечек с длинным черепом и козлиной бородкой на маленьком лице, наскоро склеенном из мелких, разрозненных костей, обтянутых сильно изношенной кожей, пил чай со Степаном Рогачёвым, парнем неуклюжим, скуластым, как татарин, с редкими, точно у кота, усами и гладко остриженною после тифа головою.
Назаров, вяло улыбаясь, поздравил учителя с приездом, на заботливый вопрос Покровского – почему он такой невесёлый? – сообщил о болезни отца и замолчал, а учитель снова стал оживлённо и торопливо, мягким баском, рассказывать Степану что-то о кометах, звёздах. Николай не слушал, он был уверен, что все речи учителя знакомы ему, как «господи помилуй», они интересны, но лишние для жизни, – никому не нужны звёзды, и всё равно, как вертится земля, это никому не мешает. Нужно – простое, ясное: кусок земли, просторный, светлый дом, хорошая, неглупая жена и – чтобы люди уважали, не трогали, – вот что крепко ставит человека на ноги и даёт душе покой. Сначала – это, а потом уже всё другое, что кому нравится. Притеснять людей не надо, пусть каждый живёт как хочет. Люди ежедневно доказывают друг другу, что жить сообща – не могут они, нет у них для этого уменья, и задачи разные у всех.
«Дешёвый человек, – лениво думал он про учителя, – так себе живёт, без назначения…»
А Степан вызывал у него неприязненное и завистливое чувство развязностью, с которой он держался перед учителем, смелостью вопросов и речей: следя за ним исподлобья, он видел, как Рогачёв долго укреплял окурок стоймя на указательном пальце Левон руки, уставил, сбил сильным щелчком пальцев правой, последил за полётом, и когда, кувыркаясь в воздухе, окурок вылетел за окно и упал далеко на песок, Рогачёв сказал, густо и непочтительно:
– А по-моему, – никто не верит в способность народа к разуму!
«Это верно», – подумал Назаров.
– Ну-у, – недовольно протянул учитель. – Откуда ты взял?
– Да так уж! Все книжники в народе – как в лесу. Как на охоту выходят – не попадёт ли что приятное? Главное – приятное найти…
– Неосновательно говоришь ты, Степан!
– Ну?
– Нехорошо.
Облака, поглотив огненный шар солнца, раскалились и таяли, в небе запада пролились оранжевые, золотые, багровые реки, а из глубин их веером поднялись к зениту огромные светлые мечи, рассекая синеющее небо.
Назаров думал:
«Продаст Будилов землю…»
Гудя, влетел жук, ткнулся в самовар, упал и, лёжа на спине, начал беспомощно перебирать чёрными, короткими ножками, – Рогачёв взял его, положил на ладонь себе, оглядел и выкинул в окно, задумчиво слушая речь учителя.
Его басок лился густою струёй, точно конопляное масло; по лицу разбегались круглые улыбочки, он помахивал в воздухе сухонькой рукой, сжимая и разжимал пальцы.
– Понемногу, в сотне тысяч деревень, – захлёбываясь словами, говорил он, – каждогодно входят в жизнь молодые, доброжелательные умы, и скоро Русь увидит себя умной, честной.
«И Будилов то же говорит», – думалось Николаю.
– Конечно, – сказал Степан, пощипывая усы, – жизнь обязательно должна идти к лучшему – как же иначе?
Николай встал, протягивая учителю руку.
– Мне пора домой, я ведь только повидаться зашёл, а то – нехорошо, отец там…
– И я тоже иду, – сказал Рогачёв, – у меня за мельницей рыбьи делишки налажены.
– Погодите, – всё ещё мечтательно улыбаясь, заявил учитель, – я с вами, мне к отцу Афанасию! Сейчас переоденусь.
Степан потянулся, почти достав потолок руками, и сказал:
– Не люблю батьку!
– За что его любить? – отозвался учитель, суетясь в углу. – Мне по службе необходимо показывать видимость уважения к нему и всё подобное эдакое. Ну, идёмте!
Половина тёмно-синего неба была густо засеяна звёздами, а другая, над полями, прикрыта сизой тучей. Вздрагивали зарницы, туча на секунду обливалась красноватым огнём. В трёх местах села лежали жёлтые полосы света – у попа, в чайной и у лавочника Седова; все эти три светлые пятна выдвигали из тьмы тяжёлое здание церкви, лишённое ясных форм. В реке блестело отражение Венеры и ещё каких-то крупных звёзд – только по этому и можно было узнать, где спряталась река.
Лес в темноте стал похож на горы, всё знакомое казалось новым, влажное дыхание земли было душисто и ласково.
«Продаст Будилов землю, – угрюмо думал Николай, – продаст! Эх, отец…»
Рогачёв и учитель, беседуя, тихонько шли вперёд, он остановился, поглядел в спины им и свернул в сторону, к мосту, подавляемый тревогой, а перейдя мост, почувствовал, что домой ему идти не хочется. Остановился под вётлами на берегу и, обернувшись спиною к неприятным огням мельницы, посмотрел на село, уже засыпавшее, полусонно вздыхая. Редкие огни в окнах изб казались глубокими ранами на тёмном неуклюжем теле села, а звуки напоминали стоны. Вид села вечером и ночью всегда вызывал у Назарова неприятные мысли и уподобления: вскрывая стены изб, он видел в тесных вонючих логовищах больных старух и стариков, ожидающих смерти, баб на сносях, с высоко вздёрнутыми подолами спереди, квёлых, осыпанных язвами золотухи детей, видел пьянство, распутство, драки и всюду грязь, от которой тошнило. Люди в этой грязи – точно черви…
Он знал, что всё село ненавидит и боится мельника Назарова и что часть этой ненависти отражённо падает и на него. Фаддея Назарова не любили за богатство, за то, что он давал деньги в рост, за удачу во всех делах и распутство.
«Я при чём тут? – мысленно возражал людям Николай, проникаясь враждебным чувством к ним. – Али я виноват?»
И, считая себя несправедливо обиженным, он втайне обвинял отца за это наследство. Бывали дни, когда хотелось мира и дружбы с людьми, а отовсюду на него смотрели косо, недоверчиво или же заискивающе, подхалимисто. Однажды, стеснённый этой злобой и фальшью, Николай угрюмо сказал Рогачёву:
– Зря мужики на меня волками-то глядят…
– Н-да, – протянул Степан, опуская глаза. – Торопятся…
Николай не понял его.
– Куда – торопятся?
– Это они – в счёт будущего, – подумав и усмехаясь, сказал Рогачёв.
– А может, я добра хочу им? – сердито воскликнул Назаров. – Как знать, чем я для них буду?
– Стало быть – не ждут они добра, – снова задумчиво молвил Степан и, вздохнув, добавил: – Гляжу я на всё и думаю: легко быть худым человеком, а хорошим – трудно! Ей-богу, так!
– Обидно это мне! – сказал Николай.
Рогачёв не ответил, не взглянул на него, и Николаю подумалось:
«И ты такой же, как все…»
На том берегу, в доме Копылова, зажгли огонь, светлая полоса легла по дороге к мосту, и в свете чётко встали три тёмные фигуры, в одной из них Николай сразу узнал Степана, а другая показалась похожею на Христину. Он посунулся вперёд, схватившись рукою за дерево, а люди окунулись в темноту и исчезли, потом стал слышен шум шагов и девичий смех. Назаров не торопясь пошёл к мельнице, но тотчас повернул назад, сбежал под мост и присел там, в сырости и запахе гнилого дерева. Чуть слышно журчала вода, шаркая о песок берега, на гладкой полосе реки дрожали отражения звёзд, бухали по мосту тяжёлые шаги, стучали каблуки женских башмаков и ясно звучал голос Рогачёва:
– Вот теперь вы и то и сё, капризитесь с парнями, дурите и будто бы считаете их ровней себе, а как повыскочите замуж, и – кончено! Всё равно как нет вас на земле, только промеж себя лаетесь, а перед мужьями – без слов, как овцы…
– Скажи-ка мужу слово-то! – весело воскликнула одна из девиц, и Назаров по голосу узнал бойкую подругу Христины, Наталью Копылову. – Чать он – власть, сейчас за волосья сгребёт…
– Не допускай!
– Рада бы, да силы не дано…
Они остановились как раз над головою Назарова, – сквозь щели моста на картуз и плечи его сыпался сор.
– Дальше не пойдёте? – спросил Степан.
– Я – нету, а вот Кристя, чать, пошла бы, до мельницы, до милёнковой…
– Видала я его нынче, – тихо и медленно выговорила Христина, и Назарову показалось, что слова её небрежны, неуважительны.
– Ну, я иду…
Рогачёв сошёл с моста, а девицы пошли назад, и Наталья тихонько запела:
Встретишь милого мово,
Скажи – я люблю его…
– Так ли, Кристюшка?
– Невесёлый он у меня, милый-то…
– Невесел, да – богат.
– Ну-у…
– Ничего, раскачаешь! Ох, девонька…
Шаги заглушили слова Натальи.
Напряжённо вслушиваясь, Назаров смотрел, как вдоль берега у самой воды двигается высокая фигура Степана, а рядом с нею по воде скользило чёрное пятно. Ему было обидно и неловко сидеть, скрючившись под гнилыми досками; когда Рогачёв пропал во тьме, он вылез, брезгливо отряхнулся и сердито подумал о Степане:
«Пустобрёх…»
А Христину – обругал:
– Дура! Туда же, невесел я для неё… Нищета козья…
И пошёл на мельницу, опустив голову, заложив руки за спину, чувствуя себя жутко одиноким в этой тёплой, расслабляющей тьме ночной.
IV
Он тихонько вошёл в сени, остановился перед открытой дверью в горницу, где лежал больной и откуда несло тёплым, кислым запахом.
На столе горела лампа, окна были открыты, жёлтый язык огня вздрагивал, вытягиваясь вверх и опускаясь; пред образами чуть теплился в медной лампадке другой, синеватый огонёк, в комнате плавал сумрак. Николаю было неприятно смотреть на эти огни и не хотелось войти к отцу, встречу шёпоту старухи Рогачёвой, стонам больного, чёрным окнам и умирающему огню лампады.
– И вот, сударыня ты моя, – певуче шептала знахарка Рогачёва, – как родилось у них дитё…
А больной бормотал густым, всхрапывающим голосом:
– Хо-осподи! Да-а, да-да-ай…
– Будто просит чего? – заметила тётка Татьяна.
– Бредит! И как уведомила она…
Николай, шагнув через порог, угрюмо сказал тётке, сидевшей в ногах кровати:
– Поправила бы лампадку-то…
И спросил Рогачёву:
– Хуже стало?
Маленькая, круглая старушка, с румяным личиком и мышиными глазками, помахивая полотенцем над головою больного, приторно ласково ответила, положив руку на красный лоб старика:
– Не заметно лучше-то, вот уж что буде о́полночь…
Перекатывая голову по подушке, старый мельник хмурил брови и торопливо говорил:
– Хосподи, хосподи…
Лицо у него было багровое, борода свалялась в комья, увеличив и расширив лицо, а волосы на голове, спутавшись, сделали череп неровным, угловатым. От большого тела несло жаром и тяжёлыми запахами.
– Ничего не понимает? – осведомился Николай, отходя прочь.
Знахарка отрицательно покачала головой и угнетённо вздохнула.
– Будто нет, родимый…
– Меня не спрашивал?
– Спрашивал, как же…
– Когда?
– Да уж давненько…
Николай сел на лавку, глядя, как тётка возится с лампадой и, обжигая пальцы, дует на них, посмотрел на стены, гладко выскобленные и пустые, днём жёлтые, как масло, а теперь – неприятно свинцовые, и подумал:
«Это неверно, что от обоев клопы заводятся, – клопы от нечистоты. Здесь мне придётся прожить года два ещё – пока строишься, да пока продашь… Перед свадьбой оклею обоями».
И снова привстал на ноги, заглядывая через спинку кровати на большое, вздувшееся тело отца.
Гудели мухи, ныли комары, где-то трещал сверчок, а с воли доносилось кваканье лягушек. Покачиваясь на стуле, Рогачёва всё махала полотенцем, и стул под нею тихонько скрипел.
– Кто тут? – вдруг строго спросил больной и тотчас закашлялся.
– Я, батюшка, – отозвался Николай, обходя знахарку и становясь перед глазами старика.
– За доктором послали? – хрипел мельник, высвобождая изо рта дрожащими пальцами усы и бороду.
– Да, – тихо ответил Николай.
– Не слышу!
– Послали.
– Кого?
– Ванюшку Скорнякова.
– А Левон?
– Пьяный.
– У-у! – застонал старик, жадно хватая воздух широко открытым ртом. – Вот – пьяный, издохнуть не дали, началось…
– Праздник сегодня, – напомнил Николай.
– Какой праздник – отец умирает! Хозяин умирает! – плаксиво и зло хрипел отец, хлопая ладонями по постели и всё перекатывая голову со стороны на сторону. Уши у него были примятые, красные, точно кожа с них сошла. Он глядел в лицо сына мутными, налитыми кровью глазами и всё бормотал непрерывно, жалобно, а сзади себя Николай слышал предостерегающий голос тётки:
– Ванька-то, гляди, поехал ли? Недавно ещё, незадолго до стада, видела я его около моста, выпивши он, с девками стоял…
– Молчи, тётка! – сказал Николай.
– Чего? – спросил отец, испуганно вытаращив глаза, – чего шепчешь?
– Я ничего, батюшка…
А старик, точно не веря ему, допрашивал, едва двигая сухим языком:
– На чьей лошади?
– Ванюшка-то?
– На чьей?
– На своей…
– О-ох, – застонал мельник, прикрыв глаза, – на нашей надо было, на нашей…
– Хромает…
– Торопить надо, что вы-и…
Он снова начал бредить и стонать.
Николай отошёл к окну и сел там, задумавшись; он не помнил, чтобы отец когда-нибудь хворал, и ещё в обед сегодня не верил, что старик заболел серьёзно, но теперь – думал, без страха и без сожаления, только с неприятным холодком в груди:
«Пожалуй, не встанет. Узнают, что не посылал я за доктором – осуждать будут, нарочно, скажут, сделано это…»
За рекой над лесом медленно выплывал в синее небо золотой полукруг луны, звёзды уступали дорогу ему, уходя в высоту, стало видно острые вершины елей, кроны сосен. Испуганно, гулко крикнула ночная птица, серебристо звучала вода на плотине и ахали лягушки, неторопливо беседуя друг с другом. Ночь дышала в окна пахучей сыростью, наполняла комнату тихим пением тёмных своих голосов.
У постели шептались женщины:
– Умный мужик был Хомутов-то…
– Живи, как все, небойсь, никто не тронет…
Николай вспомнил бородатого рослого мужика с худым, красивым лицом и серьёзными добрыми глазами, вспомнил свою крёстную сестру, бойкую, весёлую Дашутку, и брата её Ефима, высокого парня, пропавшего без вести. Слова тётки напомнили ему рассказы Рогачёва, обвинявшего отца в том, что он разорил и довёл до тюрьмы кума своего Хомутова, и теперь, слушая шёпот Татьяны, Николай испытывал двойственное чувство: её слова как бы несколько оправдывали его холодное отношение к отцу, но, в то же время, были неприятны, напоминая о Степане, – не хотелось, чтобы Степан был прав в чём-либо.
– Будет, тётка! – сказал он. – Лучше вот – как насчёт доктора-то? Не посылал ещё я за ним, думал, обойдётся без него. Послать, что ли?
Женщины замолчали, слышнее стал зовущий на волю звон воды – потом старуха Рогачёва тихонько и как бы с некоторой обидой сказала:
– Что ж – иной раз и доктора помогают…
– Уж лучше позвать бы, коли просит он, – подтвердила Татьяна.
– Тогда придётся самому мне ехать – кого пошлёшь?
– Дашку можно, – предложила тётка. – Я схожу, найду её, она на селе шлёндает где-нибудь с парнями…
– Нет, – сказал Николай, подумав, – я сам съезжу верхом…
Татьяна удивилась:
– Почто верхом? А доктор как?
– У него лошадь есть. Да, может, ещё не застану…
Последние слова вырвались как-то сами собой, Николай тотчас понял, что они – лишние, и добавил:
– Он ведь тоже гоняет день и ночь…
– Теперь, летом-то, не так, – заметила Рогачёва.
Николай подозрительно взглянул на неё и вышел из комнаты, а вслед ему, точно подгоняя, текло густое храпенье задыхавшегося старика.
Он вывел коня, бросил на хребет его вчетверо сложенное рядно и шагом съехал со двора в открытые тёмные ворота.
– С богом, – сказала Татьяна.
– Спаси бог, – ответил он машинально.
Ему не хотелось ехать через мост и селом, он направил лошадь вдоль реки – там, версты на четыре ниже плотины, был брод, а ещё дальше – другой, новый мост. Ехал шагом по узкой тропе, среди кустарника, ветки щекотали бока лошади, она пугливо прядала ушами, качала головой и косилась, фыркая. Справа по растрёпанным кустам, освещённым луною, ползла тень, шевеля ветки, а слева за чёрной грядою блестела вода, вся в светлых пятнах и тёмной узорчатой ткани. На той стороне у самого берега тесно стоял лес, иногда мелькала, уходя глубоко в него, узкая просека, густо покрытая мелкою порослью, и часто там, в чёрных ветвях, что-то вздыхало, вздрагивало.
Он дёргал повод, тихонько чмокал и думал об отце, доискиваясь чего-то прочного, решительного.
За всё время, как Николай помнит себя, он не слыхал ни одного искренно доброго слова об отце. Если отец помрёт – после него останется много долгов, надо будет собирать их, и Николай знал, что это ещё больше восстановит против него людей, хотя – долги платить надо.
«Отказаться разве, – пусть пойдёт в поминок ему?» – спросил он себя, но вспомнив, что долги восходят до двух тысяч, тяжело вздохнул.
«Со многих, всё равно, ничего не получишь», – думал он и вдруг почувствовал, что думает об этом нарочно, чтобы заглушить другие мысли, более серьёзные, – и вот они быстро побежали одна за другой.
«Не жалко мне его, а даже – хочется, чтоб он помер. Христина, давеча, догадалась об этом, она прямо намекала, чтоб не боялся, – уж, наверно, она об этом. Бедная, а бедные – все жадные; винить их в этом и нельзя, пожалуй…»
Из кустов выпорхнула, перелетев тропу, какая-то птица, лошадь, вздрогнув, остановилась, Николай качнулся вперёд и, рассердясь, ударил её по бокам каблуками сапог, но когда она пошла рысью, он приостановил её, продолжая думать всё открытее.
«Павел Иваныч и Степан ждут всё, что между людьми образуется связь и все друг другу близки будут, – нельзя в это верить, нет! Если у сына с отцом – у людей одной крови – связи нет и живут они без жалости друг ко другу – чего ждать между чужими? Дети не считаются за людей и сами отцов нисколько не уважают – это везде! Значит – положено это навсегда, если даже между отцами-детьми нет связи».
Впереди река развернулась в небольшое, почти круглое озерко, и в середине его стояла, колыхаясь, чёрная длинная точка, похожая на рыбу. Николай, потянув повод, остановил лошадь.
«Степан!»
Ему хотелось поворотить назад, и он стал дёргать направо, а лошадь топталась на месте и не шла в кусты.
«Услышит», – сердито подумал Назаров, и в то же время челнок вздрогнул, поплыл к берегу, скользя по светлой, гладкой воде быстро, бесшумно и оставляя за собою чешуйчатый след.
Николай видел, что ему не миновать встречи с Рогачёвым; это рассердило его, он зло ударил лошадь; подбрасывая его, она поскакала, споткнулась, и он перелетел через голову её в кусты, а когда поднялся на ноги, Степан, разведя руки, стоял на тропе, чмокая и ласково оговаривая испуганную, топтавшуюся на месте лошадь.
– Не ушибся? – участливо спросил он.
– Нет, – сердито ответил Назаров и тотчас прибавил: – Это ты её испугал!
– Ну вот, – усмехнулся Степан, звучно похлопывая лошадь по шее, – я вон откуда услыхал топот и вдруг – что такое? И побежал.
Говорил он ласково и весело, видимо, чем-то довольный.
– За доктором, что ли?.
– Да.
– Хуже отцу-то?
– Хуже.
– Ну, садись, поезжай…
Назаров не торопясь оправлял одежду и молчал, не вылезая из кустов.
– Да ты, может, ушибся? – беспокойно спросил Степан, присматриваясь к нему. – Ты – вот что, иди-ка домой, а я – поеду, слышь?
– Не надо. Я – сейчас…
Подошёл к лошади, взялся за чолку и, усмехнувшись, с неожиданным для себя приливом добродушия сказал:
– Вот так полетел я!
И Рогачёв усмехнулся.
– Бывает! А мне, брат, повезло, да так – прямо на диво! Леща зацапал фунтов на пять, едва выволок, завтра к Будилову снесу – целковый! Да пару щук – добрые щуки! – попу – полтина! Да ещё не всё – в вентерях, поди, есть что-нибудь, и опять перемёт поставил. До утра провожусь тут…







