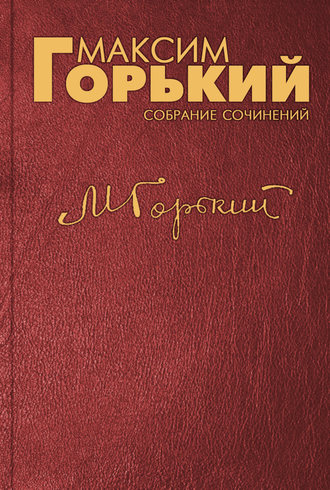
Максим Горький
Три дня
Николай вздохнул и неохотно взвалился на хребет лошади.
– Ночь хороша! – задумчиво сказал Рогачёв, отступая в сторону. – Просто – не ночь, а милая подруга. Валяй, поезжай, ну!
– Да, ночь хорошая…
И вдруг он пробормотал почти с завистью:
– Простая у тебя жизнь, Степан…
– Скачи, брат!
До брода Назаров ехал тряскою рысью, а когда перебрался через реку и перед ним в ночи жутко встала высокая стена молчаливого хвойного леса, лошадь снова пошла ленивым шагом.
Тихо думалось о Степане – конечно, он стал как будто зазнаваться, слишком явно кичился прямотой своих суждений, а всё-таки он самый хороший парень в селе и желает всем добра. Ведь и давеча, на мосту, говоря с девицами, он не сказал ничего обидного…
«Он девок добру учил – жене овцой не приходится быть. Да и кто знает, что Христина любит, – меня самого али то, что со мной сытно и не в каторжной работе жить можно? А со Степаном мне надо быть дружелюбней».
Дорога накрыта чёрным пологом сосновых ветвей, неподвижный, он казался вырезанным из ночной тьмы. Сквозь узорные прорезы на тёмные стволы мачтовых сосен мягко падал лунный свет, рыжая кора древних деревьев отсвечивала тусклой медью, поблескивали янтарём и топазом бугорки смолы. Шум копыт был почти не слышен на песке, смешанном с хвоей, увлаженном ночною лесною сыростью, лишь изредка хрустел сухой сучок да всхрапывала лошадь, вдыхая густой, смолистый воздух. В немой, чуткой тишине, в темноте, скудно украшенной полосами лунного света, дорога, прикрытая тенями, текла в даль, между деревьев, точно ручей, спрятанный в траве, невидимый и безмолвный. Иногда она упиралась в толстые стволы и вдруг круто поворачивала снова в лесную тьму, не имевшую, казалось, границ.
Он дремотно покачивался, думал и смотрел вверх на синие лоскутья неба, где иногда блестели едва различимые, бледные и маленькие звёзды.
Вспоминалось, как отец говорил о Степане, – раньше, когда Рогачёв хаживал на мельницу, он говорил о нём часто, но особенно веско легли в память такие слова отца:
– Пчеле муха – не компания, так и тебе не следует водить компанию с парнями вроде Стёпки. Ты – работой деда и отца – поставлен хозяином у дела, – стой твёрдо!
Короткая летняя ночь быстро таяла, чёрный сумрак лесной редел, становясь сизоватым. Впереди что-то звучно щёлкнуло, точно надломилась упругая ветвь, по лапам сосны, чуть покачнув их, переметнулась через дорогу белка, взмахнув пушистым хвостом, и тотчас же над вершинами деревьев, тяжело шумя крыльями, пролетела большая птица – должно быть, пугач или сова.
Назаров вздрогнул, поднял голову и натянул повод – лошадь покорно остановилась, а он перекрестился, оглядываясь сонными глазами. Но в лесу снова было тихо, как в церкви; протянув друг другу ветви, молча и тесно, словно мужики за обедней, стояли сосны, и думалось, что где-то в сумраке некто невидимый спрятался, как поп в алтаре, и безмолвно творит предрассветные таинства.
«Бог даст – всё будет хорошо», – медленно зрела усыплявшая мысль.
На траве у корней тускло светились капли росы, ночная тьма всё торопливее уходила с дороги в лес, обнажая рыжий песок, прошитый чёрными корнями.
Лошадь, зябко встряхивая кожей, потопталась на месте и тихонько пошла, верховой покачнулся, сквозь дрёму ему показалось, что он поворотил назад, но не хотелось открыть глаза, было жалко нарушить сладкое ощущение покоя, ласково обнявшее тело, сжатое утренней свежестью. Он ещё плотнее прикрыл глаза. Он слышал насмешливый свист дрозда, щёлканье клестов, тревожный крик иволги, густое карканье ворон, и, всё поглощая, звучал в ушах масляный голос Христины:
«Миленький, миленький – думаю я, как мы жить будем с тобой, – хорошо будем жить…»
Он чувствовал на своём лице её тёплое дыхание, щекотавшее глаза, потянулся обнять девушку и – едва удержался на хребте лошади, быстро откинувшись всем корпусом назад.
– Что ты, чёрт, – пробормотал он, щурясь от солнца.
Щупая ногой воду, лошадь, опустив голову, стояла над рекой.
Николай прикрыл глаза ладонью, оглянулся и, смущённый, рассерженный, стал бить ногами по бокам животное, дёргая повод.
– Куда ты, куда, дьявол!
Лошадь тяжко вздохнула и пошла вброд, он бессильно опустил руку, предоставив ей волю, а когда она перешла на тот берег, угрюмо подумал:
«Стало быть, так надо, не зря это…»
И, ласково потрепав животное по шее, погнал его быстрей. Вот снова на розоватом серебре воды виден челнок Степана, большая голова рыбака торчит над ним, слышен негромкий вопрос:
– Съездил?
– Бог на помочь! – виновато сказал Назаров.
– Спасибо! Скоро ты оборотился…
Не останавливая коня, Николай спросил:
– Как дела?
– Шибко идут.
Назаров погнал лошадь быстрее. В кустах хлопотливо щебетали птицы, по ту сторону реки ярко горел лес, облитый щедрым утренним солнцем, звенели жаворонки, голова Николая тяжело покачивалась, и он лениво думал:
«Ну, что ж? Кабы совсем без помощи – другое дело, а ведь там лекариха есть. Она старушка знающая».
Но в груди неприятно покалывало.
Дома, войдя в комнату отца, он сразу успокоился и даже едва мог сдержать довольную улыбку: старик, растрёпанный, в спутанных седых вихрах, жалкий и страшный, сидел на постели, прислонясь спиною к стене и открыв рот.
«Вот оно! – воскликнул про себя Николай. – Животное-то почувствовало!»
– Ну что? – спросил отец, громко икнув.
– Не застал, – ответил Николай.
– О, господи…
– Надо будет ещё сгонять, послать ещё кого-нибудь, – бормотал Николай, не глядя на больного.
– Пошли-и, пошли-ка, – жалобно просил отец, снова икая.
Николай вышел в сени; у него слипались глаза, и лицо словно паутиной было покрыто, он крепко тёр ладонями щёки и слышал, как тётка Татьяна на дворе будит Дарью:
– Вставай, слышь! Дашка, лошадь убери…
– А лошадь-то нисколько не устала, – тихо звучал слащавый голосок старухи Рогачёвой, – гляди-ко ты, а?
– И впрямь ведь…
– Взад-вперёд двадцать вёрст! Скоро обернул!
Николай, нахмурясь, слушал, думая:
«Надо Дашку послать, сейчас пошлю…»
И вдруг очнулся от дремоты, вздрогнув испуганно:
«Эдак пойдёт про меня слух, что я нарочно – ах, ведьмы!»
Он тотчас вышел на крыльцо, хозяйственно говоря:
– Тётка Татьяна, пускай Дарья запряжёт гнедого, да сейчас же едет по доктора – живее!
Сел на ступени крыльца и схватился руками за голову, крепко сцепив зубы.
– Икать начал – это нехорошо! – шептала старуха Рогачёва, подойдя ко крыльцу. – Это уж всегда перед концом бывает…
– Плохо, значит?
– Бог боле нас знает, а по моему разуму – попа надо бы! Дарья-то пускай бы заехала?
– Скажи ей…
– А ты не убивайся, ведь не маленький остаёшься, а – как надо быть – хозяин…
Николай встал и ушёл в комнату. «Надо мне ласково с ними, а то они меня ославят», – думал он угрюмо и вяло.
– Что вы все – где? – встретил его отец.
– Я – вот, батюшка!
– Погодите, успеете меня бросить, успеете…
Николай прижался спиною к косяку двери, исподлобья глядя на больного: за ночь болезнь так обсосала и обгрызла старое тело, что сын почти не узнавал отца – суровое его лицо, ещё недавно полное, налитое густой кровью, исчерченное красными жилками, стало землисто-дряблым, кожа обвисла, как тряпка, курчавые волосы бороды развились и стали похожи на паутину, красные губы, масленые и жадные, потемнели, пересохли, строгие глаза выкатились, взгляд блуждал по комнате растерянно, с недоумением и тупым страхом. Больной непрерывно икал, вздрагивая, голова его тряслась, переваливаясь с плеча на плечо, то стуча затылком о стену, то падая на грудь, руки ползали по одеялу, щипали его дрожащими пальцами и поочередно, то одна, то другая, хватались за расстёгнутый ворот рубахи, бились о волосатую грудь. Из открытого рта со свистом и хрипом изливался тяжёлый, острый запах, и всё это отравленное болезнью, рыхлое тело, казалось, готово развалиться по постели, как перекисшее тесто.
– Умираю! – хрипел старик, отделяя каждое слово паузой, едва шевеля пересмякшими губами и облизывая их сухим языком. – Умираю, Николай! Вот, живи теперь своим умом, один. Татьяне – сто рублей дай, корову чёрную, материно там осталось – ей же! Для жены твоей не годится это. Меня хорони – скромно, береги деньги-то! Людям – не верь, гляди, обманут, никому не верь, жене – не верь! Кроме бога – никому! Господь-батюшка да ты. Жену держи в руках, гляди, – кто всего ближе, он всех опасней! Хомутову Василью пошли полста рублей. В Сибири он, Василий Петрович, в Бурнаул-городе. Степана Рогачёва – Степку – берегись, гляди! Он тоже – справедливости ищет, а чуть что – за горло тебя! Знаю я это. Вот и Василий тоже – добра хотел людям мужик, травил меня, как пса чужого. Деньги береги! Бог – всё знает. Ему цена копейки известна, он видел, сколько в неё вложено. Жениться будешь – выбирай девку здоровую. Это прежде всего надо – здоровье! Василью деньги пошлёшь, напиши, что помер я; не согласен был я с ним, обижал он меня, а я – его. Три года рычали друг на друга, лаяли, а – вот оно! Не было дружков крепче меня да его! За тёткой гляди – воровка она…
Николай сидел на скамье, держась за неё руками, слова отца толкали и покачивали его, он слушал их и, чувствуя за ними великое смятение души, сжатой предсмертной тоскою, сам ощущал тоску и смятение.
За окном весело разыгралось летнее утро – сквозь окроплённые росою листья бузины живой ртутью блестела река, трава, примятая ночной сыростью, расправляла стебли, потягиваясь к солнцу; щёлкали жёлтые овсянки, торопливо разбираясь в дорожной пыли, обильной просыпанным зерном; самодовольно гоготали гуси, удивлённо мычал телёнок, и вдоль реки гулко плыл от села какой-то странный шлёпающий звук, точно по воде кто-то шутя хлопал огромной ладонью.
Мимо окна, повизгивая и смеясь, прошли девки работать на огороде – Христина, Наталья, Анютка Сорокина и подросток Устинка.
– Тише, дылды! – закричала на них Татьяна.
Николай встряхнулся, подумав:
«Всё – как следует, как всегда было, а отец – помирает…»
– Иди, поспи, ляг, – хрипел отец. – Не спал ты, иди!
Николай покорно встал и пошёл к двери, но вдруг отец странно и страшно завыл, захрипел:
– Су-укин ты сы-ин! Али не успеешь выдрыхнуться, когда помру я? А-а, ах ты, пёс, бесстыжая рожа…
Николай остановился, мотнув головою, и уставился на отца испуганными глазами.
– Ты же сам велел, – пробормотал он.
– Сам, са-ам, э-х ты! Сам я… пёс, у-у…
Парню показалось, что этот хрип и вой ударил его в грудь, встряхнул и опустошил, – он оглянулся, заметил, что фитиль в лампадке выплыл из жестяного крестика-держальца и синий огонёк чуть виден.
«Надо поправить…»
Качаясь, пошёл в передний угол, но остановился – отец, привскакивая на постели, грозил ему дрожащей рукою и всё хрипел:
– И мать твоя тоже – тоже всё ждала, когда сдохну, – дождалась, а? Нет ещё, нет – погодите! Татьяна знает всё…
Какое-то новое, острое и трезвое чувство вливалось в грудь Николая; стоя среди комнаты, он смотрел на отца, а кожа на лице у него дрожала, точно от холода, и сердце билось торопливо.
– Перестань, батюшка! – глухо сказал он.
Разбирая неверными пальцами бороду и усы, мешавшие ему говорить, точно играя пальцами на губах, старик, вздрагивая от икоты, сучил голыми ногами и бормотал, захлебываясь:
– Ведьмин сын, не криви рожу! Она, мать-то твоя, травила меня, оттого вот – ране времени помираю, – а ты рад!
– А я – рад, – неожиданно для себя повторил Николай и сначала испугался, но тут же вдруг весь вскипел злою обидой.
– Рад? – повторил он вполголоса, подвигаясь к отцу. – Чему рад? Что денег много оставишь? А сколько ты мне ненависти оставишь? Ты – считал это? Деньги ты считал, а как много злобы на меня упадёт за твои дела – это сосчитал? Мне – в монастырь идти надо из-за тебя, вот что! Да. Продать всё да бежать надо…
– Не смешь продать! – дико захрипел отец, выкатив красные глаза, бессильно взмахивая руками и хлопая ими по коленям, как недорезанный петух крыльями. Икота, участившись, мешала ему говорить, язык выскальзывал изо рта, лицо перекосилось, а седые пряди волос прыгали по щекам, путаясь с бородою. Николай снова двинулся в передний угол, говоря жёстко и угрюмо:
– Кто мне запретит? Это не шутка – без вины виноватому жить!
– Прокляну-у, – сказал Фаддей Назаров ясно и громко, но тут же вздрогнул и покатился на подушки, дёргая ногами.
Сын остановился, заглядывая через спинку кровати на тело отца, судорожно извивавшееся и хрипевшее.
«Неужто – отходит?» – мельком подумал он, видя, как шевелятся серые волосы вокруг рта и дрожит, всползая вверх, правая бровь. Осторожно, на цыпочках, вышел в сени и крикнул громким шёпотом во двор:
– Тётка Татьяна!
С огорода доносились девичьи голоса и тихий смех, солнце слепило глаза, кружилась голова.
– Идём-ка, – сказал он тётке, – нехорошо с ним!
Потом, точно сквозь сон, он видел, как тётка со знахаркой усадили отца в постели, прислонив его к стене, – он сидел, свесив голову набок и на грудь, как бы разглядывая что-то в ногах у себя одним вытаращенным глазом, досадливо прищурив другой и тихонько мыча.
Это серое тряпичное лицо, искажённое хитрой, насмешливой улыбкой, словно дразнившее кого-то, показалось Николаю чужим и испугало его.
«Пожалуй – зря говорил я», – думал он, покачиваясь на ногах.
– Ты бы пошёл, поспал немного, – сказала Рогачиха, дотрагиваясь до его локтя. – Лица нет на тебе!
– А он как?
– Что ж – он? Его дело – не в наших руках… В случае – разбудим…
Николай вышел во двор, прошёл под поветь[3], лёг там в телегу, полную сеном, и тотчас заснул.
V
Разбудила его Дарья. Стоя на ступице колеса, она трясла его за плечо и громко шептала:
– Николай жа – отходит! Встань, говорят тебе – экой!
Потный, разморённый сном, он вышел из-под навеса, протирая глаза, приглаживая волосы, – перед крыльцом собрались девки, блеснули карие глаза Христины, на ступенях стояла, что-то тихонько и торопливо рассказывая, старуха Рогачёва. Оправив рубаху, он быстро прошёл сквозь толпу девок и всё-таки слышал, как Анна Сорокина сиповатым голосом сказала:
– Отец – помирает, а сынок – почивает!
Николай мысленно обругал её, вошёл в сени и заглянул в комнату: у постели, закрыв отца, держа его руку в своей, стоял доктор в белом пиджаке. Штаны на коленях у него вздулись, это делало его кривоногим, он выгнул спину колесом и смотрел на часы, держа их левой рукою; за столом сидел широкорожий, краснощёкий поп Афанасий, неуклюжий и большой, точно копна, постукивал пальцами по тарелке с водой и следил, как тонут в ней мухи.
– Николушка-а! – заныла тётка Татьяна. Николай отступил в сени, а отец Афанасий тяжело поднялся на ноги, топая, вышел к нему, положил на плечо его тяжёлую руку и, поталкивая в тёмный угол сеней, сказал негромко, внушительно:
– Как же это ты, а? Экой ты, братец мой, а? Надо было раньше позвать меня – что же это ты, а? И доктора…
– Не верил он докторам, – глухо сказал Назаров. – Я говорил ему, а он – не надо!
– Как же вот тётка иное говорит?
– Врёт она.
– Татьяна! – позвал священник. – Подь-ка сюда!
И, когда она вышла, отирая передником мокрое лицо, ласково, тихо спросил её:
– Звал доктора Фаддей-то, велел звать, а?
Всхлипывая и кося глазом на Николая, она ответила:
– Бредил он всё, всю-ю ноченьку…
– А доктора-то звал?
– Разве поймёшь? Бредил…
– Да – погоди! Ты же сказала, что он утром вчера звал ещё…
– Не помню я, батюшка, ничегошеньки не помню. Ведь горе-то нам какое!
Священник покачал головою и сожалительно проговорил:
– Эх вы, людие! Экий вы дикий народ! Нехорошо, брат, Николай. Невнимателен ты к родителю! Вот, – по вине твоей помирает он без покаяния, видишь, а?
«Оправдался матушкин зарок!» – подумал Николай.
– Глухая исповедь-то была, а ты – дрых, да, брат! Вольнодумец ты! Нехорошо.
В сени вышел доктор. Священник спросил его:
– Финик?
Доктор утвердительно кивнул головой, вынул папироску, вставил её в рот и пошёл на двор, а поп за ним, кратко бросив Николаю:
– Вот видишь, а? То-то!
Назаров смотрел через дверь, как сопит и дёргается на сбитой постели расслабленное, неприятно пахучее тело отца, шевелятся серые усы на неузнаваемом лице. Тучей вились мухи, ползали по клейкому лбу, путались в бороде, лезли в чёрный рот, – он сурово сказал тётке:
– Отгоняй мух-то!
Со двора в сени наползал тихий говор девичьих голосов – Дарья торопливо, как сорока, рассказывала что-то, а её перебивали жадные восклицания:
– Неужто?
– Не был?
«Это она про меня, пожалуй, плёха», – сообразил Николай и, отворив дверь в клеть, крикнул:
– Дашка!
Она вбежала в сени на цыпочках, остановилась, заглядывая в избу, откуда истекал густой храп и беспокойное гудение встревоженных мух, вытерла рукавом рубахи потное лицо, и оно стало испуганным.
– Ты чего там врёшь девкам?
– Я? Ничего не вру, – шёпотом ответила она.
– Слышал я! Про меня!
– Вот те крест…
– Погоди!
Николай задумался на минуту – как лучше говорить с ней? Потом спросил тихонько:
– Знаешь, что не был я у доктора?
– Работник его сказывал…
– А ты разболтала всем? – зло прошептал он. – На что?
– Почём я знала, что не надо говорить? Да и не я первая-то, а тётка Татьяна! Чай – смешно всем, – поехал, а не доехал!
Она говорила простодушно, и ей, видимо, хотелось улыбнуться: толстые губы дрожали на красном, широком лице с овечьими глазами.
– Дьяволы! – тоскливо сказал Николай. И вдруг неожиданно для себя заговорил укоризненно: – Тебе же хуже, что язык распустила зря! Кто знает, что я сделаю? Может, я бы на тебе женился?
«Что я говорю? – спросил он сам себя. – Зачем это?»
А Дарья, удивлённо открыв рот и смигнув глазами, шепнула, точно задыхаясь:
– Как же Христина-то?
– Ты – работница хорошая, – смущённо молвил Николай. – Мне что? Моя воля! Кого хочу, того и выберу! А теперь вот…
Он замолчал, продолжая про себя: «Начнут смеяться…»
Дарья, закрыв рот ладонью, улыбалась, ресницы у неё дрожали, высокая грудь надулась.
– Чему смеёшься? – бормотал Николай. – Дурёха! Поди, пошли ко мне Христину, да тихонько, не ори там! А Устюшку пошли на село, пусть найдёт Степана Рогачёва, шёл бы сюда. Он дома, спит, наверно.
И, сделав голос ласковее, добавил:
– Ты – послужи мне честно, за совесть, я тебе замуж выйти помогу, поблагодарю хорошо, слышишь? Скажи девкам, что соврал докторов работник…
Дарья вздохнула, с сожалением прошептав:
– Да уж разошлось ведь…
– Ну – иди! Ступай! – сердито крикнул Назаров, присев на мешки с мукой.
В клети вкусно пахло сушёными грибами, хлебом и копчёной свининой; Николай вспомнил, что он не ужинал вчера и сегодня тоже не ел, – сразу мучительно захотелось есть, рот налился слюною, он с усилием проглотил её, стыдясь своего желания. Чуть слышно доносились хриплые вздохи умирающего, тихонько сморкалась Татьяна, а Рогачиха шептала молитвы.
В дверь осторожно заглянула Христина, он схватил её за руку, торопливо спрашивая:
– Что они говорят?
– Кто?
– Девки, ну?
Тихонько выдёргивая свои пальцы из его руки, она прошептала:
– Пусти-ка, нехорошо тебе теперь со мной…
– Что говорят?
– Да – ничего! Пусти, – повторила она и вдруг, странно дёрнув головою, сказала чуть слышно:
– Неладно, что не съездил ты по доктора-то! Ведь всё одно – умер бы он, али доктор поможет?
У него опустились руки, неприятная слабость обняла тело. Христина, невнятно прошептав что-то, ушла, и тотчас в дверь сунулось оплаканное, фальшивое лицо тётки с покрасневшим, точно у пьяницы, длинным носом.
– Затворил бы двери-то, мухи набьются!
«Следит, дьявол!» – подумал Николай, а вслух грубо сказал: – Время тебе про мух думать!
Время ползло медленно, точно тяжёлый воз в гору, иногда оно как будто совсем останавливалось, и Николай чувствовал тяжесть в груди, она давила все мысли, внушая желание уйти куда-нибудь, спрятаться.
«Придёт Степан – скажу ему всё, – соображал он. – Вот теперь хорошо бы покурить, курильщики говорят – табак приводит мысли в порядок». Всё сильнее хотелось есть. Он поставил локти на колени, спрятал голову в ладони, чтобы не видеть съестного, и замер, бессвязно думая о происходившем.
Было слышно, как за воротами спорят поп и доктор, а с крыльца в сени втекал певучий шёпот Рогачихи:
– И вот, сударыни мои, говорит он ему, начальнику-то: эдак вы меня, ваше благородие, ничему доброму не научите, – а у самого кровь-то из носа в два ручья так и хлещет, так и льёт – с того времени и курнос он, а вовсе не от французской болезни.
– Дашка! Грей чугуны! – крикнула тётка Татьяна.
«Это – чтобы покойника обмывать», – сообразил Назаров.
– Ну? – раздался на дворе строгий возглас Рогачёва.
Назаров вскочил, выглянул за дверь: Степан, поставив ногу на ступень и держась рукою за перила, слушал быстрый шёпот матери и перебивал её возгласами:
– Ну, так что? Тебе какое дело? А ты брось ерунду пороть, матушка!
Шагнул вперёд и, встретя взгляд Николая, спросил:
– Что, брат?
– Про что она говорила?
– Да так, своё, старушечье, – нехотя ответил Степан, подходя.
Назаров ввёл его в клеть, затворил дверь и сразу рассказал, как заснул по дороге к доктору, а лошадь поворотила назад. Сначала Рогачёв слушал серьёзно, потом – губы его дрогнули, и по скуластому лицу добродушно расползлась улыбка.
– Во-он что! То-то больно скоро ты оборотился! Ну, ездок!
– Боюсь я – выдумают про меня чего не надо?
– А ты не бойся – уж выдумали.
– Ну-у?
– На это – чтобы деготьком подмазать человека – времени много не надо!
– Как же быть?
– Да никак! Что тебе?
– Что? Хочется жить примерно, чтоб дурного не говорили…
– Не делай – не скажут.
– А что я сделал?
Степан подумал и ответил просто, без упрёка:
– Надо было всё-таки позвать доктора тотчас, как он лёг.
– Да ведь никогда не хворал!
– И умирает – впервой.
Николай замолчал, оглянулся и сконфуженно сказал:
– А тут – есть хочется до смерти!
– Так что ж? Вон еды сколько!
«Да – стыдно!» – хотел сказать Назаров, а сказал: – Отрезать нечем.
– Чудишь ты что-то! – медленно выговорил Рогачёв, сунув руку в карман вытертых и заплатанных шаровар. – Будто ножа в дому нет! На вот!
Он протянул складной нож, присматриваясь к Николаю и говоря:
– Осунулся за ночь-то…
Назарову было приятно услышать это. Кромсая хлеб, он переспросил:
– Осунулся? Тяжело мне!
Потом, сидя на мешках, они смачно жевали хлеб с ветчиной, а через минуту дверь открылась, Дарья сунула к ним своё румяное лицо и, поражённо открыв рот, с ужасом прошептала:







