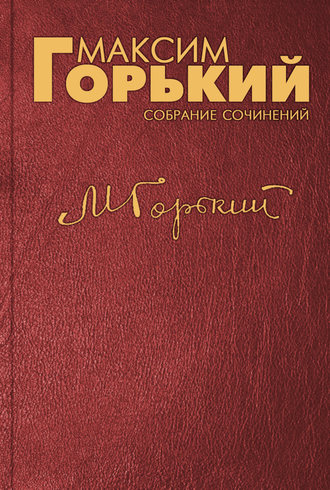
Максим Горький
Три дня
– Глядите-тко – ест!
– Чего тебе? – спросил Николай, но она уже исчезла, а Рогачёв тихо засмеялся, говоря:
– Побежит теперь и всем скажет о жестоком твоём сердце – отец у тебя помирает, а ты – ешь!
Назаров отложил в сторону кусок хлеба, встал, угрюмо оглянулся и вздохнул.
– Надо было дверь запереть!
– Вот! – кивнул головою Степан. – А то не есть вплоть до поминок – ещё лучше!
Снова отворилась дверь – тётка Татьяна пропела голосом нищей:
– Пошёл бы ты, Николаюшко, к родителю-то, в остатний раз, поглядел бы, как расстаётся душенька его добрая с телом-плотью-то!
– Иду, – сказал Николай, отирая рот рукавом рубахи, и, прежде чем тётка скрылась, проворчал:
– Слышишь – добрая душенька! Я те скажу – терпеть она его не может, отца-то, да и он ею помыкал хуже, чем Дашкой, воровкой звал и всё…
– Уж так, брат, повелось, – усмехнулся Рогачёв.
Около постели, вздыхая, перешёптываясь, отирая дешёвые слезы, стояли девки, уже много набилось людей из села, в углу торчал, потирая лысину, Левон, пьяный и скучный с похмелья, а на скамье сидел древний старик Лукачёв, тряс жёлтой бородою и шепеляво бормотал, точно молясь:
– С малых лет знал его, господи Исусе, махоньким знал…
Крепкий запах пота девок, смешанный с тяжёлым запахом больного, наполнял горницу, в окна вместе с солнцем смотрели чумазые рожи детей, к спинке кровати были прикреплены две восковые свечи, тихо колебались бледные огоньки с тёмными зрачками внутри, похожие на чьи-то робкие, полуслепые глаза. Отец лежал спокойно, сложив руки на груди, коротко и отрывисто вздыхая, в чёрные пальцы ему тоже сунули зажжённую свечу, она торчала криво, поднималась, опускалась, точно вырываясь из рук, воск с неё капал на открытую грудь, трепет огня отражался в блестящем конце носа старика и в широко открытых, уснувших глазах.
Глаза смотрели сосредоточенно и важно, отражение огня свечи оживляло их, казалось, что свет истекает из их глубины, что он и есть – жизнь, через некоторое время он выльется до конца – тогда старик перестанет дышать и прекратится это опасное качание свечи, готовой упасть и поджечь серые волосы на груди умирающего.
– Царица небесная, матушка, – всхлипывая, шептала Татьяна, девки сморкались, шелестел голос Лукачёва, а Христина, стоя в стороне ото всех, наклонив голову и глядя на руки свои, беззвучно шевелила губами и пальцами.
«Словно деньги считает», – мельком подумал Николай и спросил тётку: – Где же поп?
– Чай пить пошёл с доктором, послали за ним!
– Христе милостивый, – бормотал Лукачёв, – со святыми упокой иде же нет печали и вздыхания…
Здесь печали было так много, что Назаров чувствовал, как она, точно осенний туман, обнимает всё его тело, всасывается в грудь, теснит сердце, холодно сжимая его, тает в груди, поднимается к горлу потоком слёз и душит.
– Ко-ончился, – неестественно взвизгнула тётка Татьяна.
Николай ткнулся головой в стену и завыл угрюмым, волчьим воем, топая ногами, вскрикивая:
– Батюшка, – как же я теперь? Батюшка, – родной!
И все завыли, точно устав покорно наблюдать тихую работу смерти, хотели как можно скорее оповестить друг другу, что все они остались живы.
Испуганного почти до обморока Николая Степан и Христина вывели на двор, на солнце, и посадили его под окном на завалинке – Рогачёв молчал, ковыряя землю пальцами ноги, а Христина, наклонясь к Назарову, плачущим голосом говорила:
– Николай Фаддеич, миленький – как же быть-то? Все помрём! Не убивайся, не надрывай сердечко!
День был жаркий, сухой, солнце смотрело прямо в мокрое лицо Назарова, щекотало веки, заставляя щуриться, и сушило слёзы, покрывая кожу точно коростой. Он двигал мускулами, чувствуя всё лицо склеенным, плакать было неудобно, а перестать – неловко. Да уже и не хотелось плакать.
– Дайте умыться! – попросил он расслабленно. Христина убежала, а Степан сел рядом и негромко посоветовал:
– Теперь – гляди в оба! Начнут воровать – растащат всё!
– Кто? Тётка? – спросил Николай, настораживаясь.
– Кому удобно, всякий! Ты вот что – позови Христинину мать, она баба честная, да и тёщей тебе будет, ей есть интерес добро твоё беречь!
– Это – верно, – сказал Назаров, тяжко вздохнув. Подбежала Христина с ведром воды и железным ковшом.
– Наклони голову-то! Господи, спаси!
Она вылила на голову ему три ковша студёной, как лёд, воды, а он, судорожно споласкивая щёки, думал:
«Погожу, не буду звать Христинину матку – так сразу в чужие руки попадёшь! Кто знает, что я решу? Нет, Это нельзя ещё!»
А Христина, наклонясь, шептала в ухо ему:
– Ты бы пошёл в избу-то – сейчас обмывать станут покойника, батюшку твоего, – ключ-то от укладки с деньгами взять бы тебе!
– Это – надо, – пробормотал Николай и, отжав мокрые волосы, пошёл в избу – там, раздевая труп, возились тётка и Рогачиха.
– Да ты согни ему руку-то, экая! – уговаривала старуха Татьяну, а та, покряхтывая, отвечала обиженно:
– Легко сказать – согни, не подниму я его!
Покосившись на большое жёлтое тело, Назаров спросил:
– Где ключ?
– Тут где-нибудь – погляди под подушкой, – ответила Татьяна, поддерживая тяжкое тело в то время, как знахарка стаскивала с него рубаху.
Ему не хотелось совать руку под подушку, она казалась влажной и липкой, и он знал, что под нею не найдёт ключа, – отец носил ключ на поясе. Видя, как опасливо шмыгает тётка носом, стараясь не глядеть в лицо Николая, он понял, что она уже спрятала ключ, и снова спросил:
– Пояс где?
– Да погоди, батюшка, постыдись, чать, видишь – дело делаю, – укоризненно и громко сказала Татьяна.
Николай смутился, а старуха Рогачёва скомандовала:
– Теперь – снизу подними!
Татьяна выпустила тело брата из рук, оно шмякнулось о постель, голова упала на подушку боком, на глаз усопшего наползла со щеки кожа. Николаю показалось, что отец подмигивает ему, словно говоря:
«Вот, брат, как со мною обращаются, а?»
– Господи, спаси, помилуй, – бормотала знахарка, стягивая штаны с толстых ног покойника.
– Давай ключ, – глухо сказал Назаров, подвигаясь к тётке, она окинула его суровым взглядом и, сунув руку за пазуху, швырнула к ногам племянника грязный шнурок.
– На, бери!
«Выгоню её!» – решил Назаров, нагибаясь, чтобы поднять ключ.
На двор он вышел сцепивши зубы, угрюмый и подавленный, сел рядом со Степаном на завалинке и сказал, жалуясь:
– Тётка уж подобрала ключ-то!
– Какой?
– От денег!
– Так, – равнодушно отозвался Рогачёв. Он резал ножом поплавок из куска сосновой коры, а у ног его бесстрашно прыгали воробьи, поклёвывая стружки и разочарованно отскакивая.
Назарову хотелось говорить о похоронах отца – как лучше сделать их, о необходимости прогнать тётку, о Христине и своих планах, но он не находил слов и, отягчённый желаниями, вздыхал, почёсывая мокрую голову. По двору бегали девки, нося воду, точно на пожар, ими хозяйственно командовала Дарья, бесцельно расхаживал скучный, измятый Левон, пиная ногами всё, что попадалось по дороге. Вот Дарья облилась водою и стала встряхивать юбку, высоко обнажая крепкие ноги.
«Здоровая девка! – задумался Николай, глядя на неё. – Смирная. Что хочешь, то и сделает. Сирота, к тому же…»
И, думая это, вслух медленно говорил:
– Просто как всё!
– Что? – осведомился Степан, не взглянув на него.
– Да вот, – был человек, распоряжался, боялись его, и нет человека!
– Другой будет.
– Это ты про меня?
– Хоть про тебя.
– Да-а, я уж другой!
Степан, взвесив на ладони вырезанный поплавок, обдул с него пыль.
– Не веришь?
– Чему?
– Что другой я буду?
– Конечно, другой! – не сразу ответил Степан, глядя в открытые ворота на реку.
– Не веришь! – сказал Николай, вздыхая, и опустил голову.
Рогачёв приподнял своё татарское лицо, поглядел в небо, сощурив глаза, и сказал:
– Полдень.
И обернулся к товарищу боком, глядя на деревню из-под широкой ладони. Назаров почувствовал себя обиженным.
Солнце стояло в зените, посреди села, точно огромный костёр, ярко горела красная церковь; от пяти её глав во все стороны, как иглы ежа, раскинулись, ослепляя, белые лучи, золочёный крест колокольни таял в синем небе, потеряв свои очертания. Над песчаными буграми струился горячий воздух, синеватая пелена покрывала лес, по берегу реки бродили полуголые ребятишки, смешно маленькие издали. Раскрашенные солнцем поля, одетые золотом ржи, казались пустынными, горячая тишина стояла над ними, доносился сытный запах гречихи, и всюду, с нагретой земли, напрягаясь, поднималось к небу живое.
Воробьи, чирикая, купались в пыли, из окна избы вместе с тяжёлым запахом изливались скучные слова тётки:
– Живёшь – живёшь, работаешь – ломишь спину, да и охнешь – господи!
– Положено мучиться нам…
– Обедать! – крикнула Дарья.
Молчание Степана всё более обижало Николая, в голове у него мелькали задорные, злые слова и мысли, но он понимал, что с этим человеком бесполезно говорить, да и лень было двигать языком – тишина и жара вызывали сонное настроение; хотелось идти в огород, лечь там в тень, около бани, и лежать, глядя в чистое небо, где тают все мысли и откуда вливается в душу сладкая спокойная пустота.
Ему так захотелось этого, что он должен был напомнить себе:
«Отец помер…»
Подошла Дарья и попросила:
– Николай Фаддеич, ты в клети ел, так ты скажи тётке Татьяне, что это ты, чтобы мне не отвечать!
– Она тут – не хозяйка, – сурово сказал Николай.
– Ты всё-таки скажи!
– Ладно.
Дарья ушла, а он, глядя вслед ей, думал:
«Не больно статна, да – сирота, вот что! А у Христины – мать, дядья – люди бедные, наянливы будут. Это надо обдумать. И ведь намекала она мне, чтобы я с батюшкой сам покончил – это верно, намекала! А коли у ней к одному человеку жалости нет, и другому тоже не хватит. Всё это надобно обдумать, подробно».
Он сгрёб ногами кучу земли, поглядел на неё – она показалась ему похожей на могильный холм, и он тотчас разровнял её.
«Если дать Степану денег взаймы на обзаведенье, на женитьбу – тогда он, пожалуй, иначе поведёт себя со мной».
Под поветью собрались за длинным столом девки, туда прошла тётка со знахаркой, Назаров проводил их озабоченным взглядом и сам себе ответил:
«Нет, не надо этого. Должник другом не бывает».
С нагретой земли двора поднимались одуряющие запахи, и среди них ясно различался вытекавший из окна запах мертвеца.
«Трудно будет мне! Станут говорить, что я хотел смерти отцу, нарочно доктора не звал, и к его грехам, на меня оставленным, этот прибавят ещё».
Ему стало горько думать о будущем, на глаза выкатились слёзы, и снова захотелось уйти куда-нибудь.
– Будилова надо известить, что помер отец-то! Вот те и долговечны мельники! Ошибся барин. Как бы и мне не ошибиться в чём.
Жара, сгущаясь, вызывала жажду, он облизал губы и крикнул:
– Дарья, дай квасу!
Там зашумели, несколько раз повторив торопливо и озабоченно:
– Квасу! Квасу просит!
Назаров внутренне усмехнулся, этот шум был приятен:
«Признали хозяином!»
Вышла Дарья с ковшом в руке, шла она не торопясь, вытянув руку и глядя в ковш – подошла и сказала ласково:
– Выпей на здоровье!
Он выпил, отдал ковш, внимательно оглянул её с ног до головы, как лошадь, и, кивнув головою, кратко бросил:
– Спасибо.
Освежённый, отодвинулся из-под окна, прислонился спиною к брёвнам избы и, закрыв утомлённые блеском солнца глаза, успокоенно подумал:
«Пёс с вами со всеми, проживу и один!»
VI
Дарья, размахивая лопатой, загоняя во двор куриц; петух шёл не торопясь и Величественно, а куры истерически кудахтали, метались, растопырив крылья и пыля. С куском хлеба во рту и огурцом в руке, Дарья топала тяжёлыми ногами и мычала:
– У-у, дуй вас горой!
Её большие груди тряслись под рубахой, как вымя стельной коровы, и живот у неё был велик, как у беременной, а ступни ног, казалось, не имеют костей.
«Неряха, – сердито думал Назаров, глядя на неё исподлобья, – нескладная! Как её не одень – всё ступа будет. Такою женой – не похвастаешься. Всё это я – зря… тороплюсь всё…»
Он угрюмо оглянулся: по двору лениво расходились девки, отяжелевшие от еды, Христина шла в обнимку с Натальей и через плечо огляделась на него, задумчиво прикусив губы, а Наталья, тихонько посмеиваясь, что-то говорила ей в ухо – был виден её тёмный, бойкий глаз.
«Покойник в доме, а она смеётся», – подумал Назаров, потом, когда они ушли в огород, встал, поглядел на реку, где в кустах мелькали, играя ребятишки, прислушался к отдалённому скрипу плохо смазанной телеги, потом, ища прохлады, прошёл в сарай. Там, услыхав девичьи голоса на огороде, он пробрался осторожно к задней стене, нашёл в ней щель и стал смотреть: девки собрались в тени, под сосной; тонкая, худощавая Наталья уже лежала на земле, вверх лицом, заложив руки за голову, Христина чистила зубы былинкой, присев на стол и болтая голою ногой, а Сорокина, сидя на земле, опираясь затылком о край стола, вынула левую грудь и, сморщив лицо, разглядывала тёмные пятна на ней.
– Ай-яй, как тебя отделали, – качая головою, сказала Христина, тоже кривя губы.
– От милого и боль сладка, – сиповато отозвалась Анна, поглаживая грудь. – А вы думаити – как? Погодите, будете замужни – узнаити скус да-а! Иной щипок – как огнём ожжёт, будто уголь приложен к телу, ажно сердце зайдётся, остановится! Это надо зна-ать!
Наталья медленно и будто сонно спросила:
– Да кто у тебя милый-то?..
– Уж есть такой!
– Где же? Со всяким ты путаешься, кто хочет – строго и пренебрежительно сказала Христина, отбросив былинку и нагнувшись сломить другую.
– С кем хочу, да-а, – с усилием говорила Анна, спрятав грудь за пазуху и сладостно вытягиваясь по земле. – Я женщина вдовая, бездетная, моё дело свободное, с кем хочу, с тем и лечу! Закрою глаза – вот он и – он, самый желанный, самый разлюбезный!
Повернувшись на бок, спиною к Анне, Наталья, позёвывая, выговорила:
– И верно, что живёшь ты закрыв глаза!
– А вижу-то боле вашего, девоньки, – куда боле! Вам и во сне того не видать, чего я наяву знаю, во-от – во сне даже!
Она говорила негромко, почти шёпотом, растягивая слова и чмокая, точно целуя их. Жадно вслушиваясь в речь её, Николай понимал, что Анна поддразнивает девиц, но её бесстыдные слова приятно щекотали его. Он неотрывно следил за игрой её круглого, почти девичьего лица, – немного уже помятое, оно освещалось глазами голубымн, как васильки, и светлыми, точно у ребёнка. И рот у неё был маленький, ребячий. Когда она улыбалась, на щеках и подбородке её являлись ямки, лицо становилось добрым, ласковым и как-то славно, тихо весёлым.
«Слова говорит бесстыжие, – напомнил он себе. – А те, дуры, расспрашивают! Разве можно с такой водиться? Надо сказать Христине!»
Христина тоже села на землю, рядом с Натальей, тихо спросив у неё:
– У тебя как со Степаном?
– Да так всё, – не сразу ответила девушка, вздыхая. – Не в тех он мыслях, – добавила она, подумав, а Сорокина, вдруг приподняв голову, сказала с улыбкой:
– Правда ли, врут ли, а есть будто, девоньки, словечко такое, всё позволяет, по-христиански, как надобно, и ограждает от детей, – ей-бо!
– Ну, врёшь, – сказала Христина, хмурясь и строго поджимая губы. Назаров одобрительно отметил:
«Ишь какая! Так…»
– Я и говорю – не знай, правда ли, это мне саяновская попадейка говорила.
Над выполотыми грядами жуликовато перепархивали воробьи, на ветвях сидели две вороны и жирно каркали, словно сообщая друг другу что-то очень важное.
– Не в тех он мыслях, чтобы жениться, – потягиваясь, задумчиво повторила Наталья. – Да и я сама, тоже как-то…
– Разонравился?
– Не-ет, зачем! Он парень хороший, – нет! А так, как-то – не знаю, что сказать! Дружба у нас с им.
– Чай, то и хорошо!
– Ещё бы! Вот и боязно будто – женимся, да как начнётся бедность, да дети и всё это, как положено, – не потерялась бы дружба-то, думаешь…
– Ой, девоньки, девоньки! Не сладка доля рабья, а того горше – бабья! Пожить бы годок хоть без работы!
Анна засыпала – это уж сквозь дрёму было сказано ею. Христина заглянула в остроносое, смуглое лицо подруги и сказала неодобрительно:
– Мудришь ты чего-то.
Наталья спросила тихонько:
– А вы – скоро поженитесь?
– Торопить буду. Измаялась я от этой сухой-то любови!
– Обнимаетесь?
– Ну а как? Чай, и вы…
– Не охоч Степан.
– А мой – ух как! – хвастливо сказала Христина. – Того и гляди, обабит!
Назаров самодовольно улыбнулся, но тотчас же подумал, невесело и нерешительно:
«Анка, пожалуй, проще их! Это всё Степаново внушенье! А Хриська рано рот разевает, ещё кусок не в руке!»
Он рассматривал её как незнакомую, и, хотя слова её были неприятны ему, всё-таки она была красивее подруг – такая сильная, рослая, с аккуратными грудями.
«Эту хоть в лохмотья одень, не выдаст! И крепости неиссякаемой», – соображал он, вглядываясь в её лицо с прямым носом и тёмными, строго сросшимися бровями.
– Я даже думаю так, чтобы сегодня вечером решительно с ним поговорить.
– Чай, погодила бы?
– А чего? Любил, что ли, он отца-то? Я, девка, душу его знаю – душа у него очень жидкая!
«Так!» – мысленно воскликнул Назаров, крепко стискивая зубы.
Анна вздохнула и замычала во сне, а Назаров, откачнувшись от стены, вышел из сарая на двор и остановился посредине, под солнцем, один в тишине.
«Жидкая душа! – с обидой думал он, оглядываясь. – Ладно – погоди!»
На дворе было странно пусто и тихо. Из телеги торчала до колена голая, красная нога Дарьи, под поветью храпел Левон, в сенях точно шмель гудел – ворчала Рогачёва.
«Умер отец, – ещё раз напомнил он себе, – а всё – как всегда, как следует!»
Это удивляло его и немножко пугало, но удивление и испуг – были мимолетны, – всё думалось о Христине. Вдруг он представил себе её испуганной до слёз: стоит она перед ним в одной рубахе, лицо бледное, глаза часто мигают, а из-под ресниц катятся слёзы, обе щеки мокры от них и – дрожат.
Он тряхнул головою, усмехаясь, и снова предостерёг себя:
«Не надо торопиться!»
В сердце всё более тревожно колебалось беспокойное чувство, вызывая неожиданные мысли, раскачивая его из стороны в сторону, точно маятник, – он всё яснее ощущал, что земля стала нетверда под ногами у него и в душе будто осенний ветер ходил, покрывая её время от времени скучной, мелкой рябью.
Из окна избы на двор, в жаркую тишину, изливался однообразный звук – это старуха Паромникова читала псалтирь:
– «Что есть человек, яко помниши его, или сын человечь, яко посещавши его? Умалил еси его малым сим от ангел, славою и честью венчал еси его и поставил еси его над делы руку твоею, вся покорил еси под нозе его…»
«Первую кафизму читает, – сообразил Назаров. – Очень подходит к отцу: всё покорил он себе, крепко стоял»»
Он сокрушённо подумал:
«Рано помер отец-то; всё-таки недовольно окреп я!»
Вспомнились обидные слова Христины:
«Жидкая душа».
Но теперь – они не показались обидными, а только всколыхнули сердце завистливым вздохом:
«Умная, чертовка!»
Жара обнимала его, ослабляя мысли, хотелось лечь где-нибудь и подремать, он уже пошёл, но в воротах явилась высокая сутулая старуха, с падогом[4] в руке, оглянула двор, остановила глаза на лице Николая и, бросив падог на землю, стала затворять ворота, говоря глухо и поучительно:
– Покойник в дому, а ворота отперты! Али ещё смерть ждёте?
Назаров подошёл и помог ей, потом она сказала, указывая на землю:
– Сделай уважение – подай падожок, наклониться мочи нету, спинушка болит. Рогачиха тут, у тебя?
Ему понравилось, что она сказала – у тебя; подавая ей падог, он ласково ответил:
– Здесь, а что?
– Надо её! Шла бы к Яшиным, у них девчоночка на зуб бороны наступила, кровь заговорить.
– И Христина здесь.
– Знаю, – пробормотала старуха, заглядывая в окно и крестясь.
У окна явилась Рогачёва, они тихо заговорили, а Назаров прислонился к верее и смотрел на старуху, быстро вспоминая всё, что знал о ней.
Одни считали её полоумной, шалой и ругали, другие находили, что Прасковья – человек большого ума, справедливый и добрый. Некоторые мужики приходили к ней жаловаться на жён своих, другие кричали, что она портит баб, а бабы почти все боялись и уважали её.
Она была сухая, плоская, как доска, очень сутула, точно хребет у неё переломлен. Ходила всегда посреди дороги, хотя бы и в грязь, походка у неё была мелкая, спорая – голова наклонена, и лица на ходу не видно, но, останавливаясь, она поднимала голову и смотрела на всё угрюмыми глазами, неласково и неодобрительно. Лицо у неё было тоже плоское, тёмное, как на иконе, во множестве морщин, нос крючковатый, как у ведьмы, губы тонкие, сухие, а подбородок – острый. Не верилось Назарову, что она мать Христины, и как-то никогда не хотелось думать о ней.
С крыльца торопливо сбежала Рогачёва – Прасковья молча повернулась к воротам, но Николай остановил её:
– Останься на минуту, тётка Прасковья!
Она взглянула на него равнодушно и тёмно и сказала Рогачёвой:
– Ну, иди. Догоню.
– Пойдём-ка, – деловито говорил Назаров, – надо мне сказать два слова, идём на огород.
Когда проходили мимо девок, раскинувшихся под сосною на земле, Прасковья взглянула на них, на солнце и проворчала, остановись:
– Развалились! Пора вставать, работать!
– Погоди, не тронь, – торопливо сказал Николай.
– Мне – что? Дело не моё – твоё.
Он довёл её до бани, присел на завалинке, похлопал ладонью рядом с собою и вдруг – смутился, не зная, о чём и как говорить с нею.
Потом помолчал, приняв солидный хозяйский тон, заговорил, с трудом подбирая слова и запинаясь:
– Вот, тётка Прасковья, ты числишься человек справедливый, хочу я с тобой потолковать… тётке я не верю, и батюшка не верил ей… а никого больше нет, так вот, значит, ты…
Он плёл слово за словом, глядя под ноги себе и точно подбирая рассыпанные мысли, а она долго слушала его, не перебивая, потом спросила коротко:
– Про Христину, что ли, говоришь?
– И про неё, конечно…
– Ну что ж! Дело – на вею жизнь. Только – мать я ей, не поверишь ты мне…
Он сказал, подумав:
– Поверю.
Шевыряя в траве концом палки, она вполголоса продолжала, не глядя на него:
– Ну ладно, коли поверишь! Для крепости я тебе скажу – уйду я скоро. Меня в расчётах не имей.
– Куда ж ты?
– На богомолье, ко святым. Нажилась, нагляделась – будет с меня. Мне спокойно это – коли дочь пристроена хорошо. Я те скажу правду про неё, прямо как мать скажу: девка она тебе очень подходящая. Суровая девка, не жалобна, не мотовка, рта не разинет, хозяйство поведёт скупо, ладно. Она тебе будет в помощь. Есть девки добрей её, это – так, а она тебе – лучше. Чего тебе не хватит, у ней это окажется.







