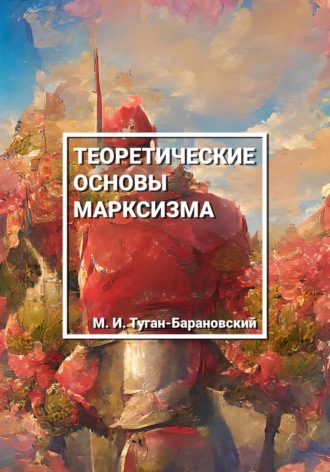
Михаил Иванович Туган-Барановский
Теоретические основы марксизма
Итак, нет никаких основавший признавать развитие семьи самостоятельным социальным процессом, находящимся вне влияния экономических условий. Половое чувство так же необходимо для поддержания рода, как и чувство самосохранения индивида; но значение обоих чувств как факторов социального развития глубоко различно. Стремление к улучшению хозяйственных условий существования толкает человечество все вперед, вызывает его на неустанную борьбу с природой, так как каждая достигнутая ступень развития хозяйства указывает человечеству на новые цели, является основанием для новых усилий, а половое чувство имеет консервативный характер и легко достигает удовлетворения. Между тем как в области хозяйства движение человечества представляет собой поступательную линию, уходящую почти в бесконечность, в области половой любви человечество вращается почти вокруг. Формы семьи некоторых примитивных народцев мало отличаются от семейных форм цивилизованных наций нашего времени. По отношению к положению женщины в семье мы со всей нашей цивилизацией мало ушли вперед, а может быть, находимся и позади, сравнительно с ирокезами, которых так превосходно описал Морган. Это показывает, быть может, всего нагляднее, какую незначительную роль в социальном прогрессе играет момент половой любви и как ошибочно видеть в «любви» социальный фактор, равносильный «голоду».
III
Существование в человеческой природе особых симпатических чувств, не сводимых ни к каким иным, не может подлежать сомнению. Чувства эти, по-видимому, двоякого происхождения. С одной стороны, они развились на основе одного из сильнейших человеческих чувств – материнской любви и вообще любви родителей к детям. Что касается этого чувства, то оно так же стихийно и первоначально, как и чувство самосохранения или половой инстинкт. Среди многих животных видов мы встречаем примеры сильнейшей материнской любви, в то время как у других видов не замечается никакой заботы родителей о своем потомстве. Эти различия всего лучше объясняются действием естественного отбора: если для сохранения вида необходимо охранение родителями потомства, то родители (обыкновенно мать) заботятся о своих детенышах, если же нет, то родители остаются к ним совершенно равнодушны. Последнее замечается у тех животных видов, которые кладут массу яиц, достаточно обеспечивающую своим количеством сохранение вида.
Новорожденный человек нуждается в материнском уходе в гораздо большей степени, чем какое-либо другое животное. Без материнской любви человеческий род не мог бы существовать, что и объясняет силу этого чувства в душе человека. На этой почве возникают чувства симпатии между членами семьи.
Другим корнем симпатических чувств, соединяющих в одно целое не только кровных родственников, но и совершенно чуждых людей, является столь же стихийный, как и материнская любовь, общественный инстинкт человека. Как и материнская любовь, этот инстинкт свойственен не только человеку, но и многим животным. Некоторые животные виды живут только группами, между тем как другие не обнаруживают к этому никакой склонности, что опять-таки естественнее всего объясняется условиями борьбы за существование. Крупные хищники, как львы и тигры, не принадлежат к числу общественных животных, и это понятно, так как их добыча рассеяна на большом пространстве: стадо львов или тигров обречено было бы на гибель от голода. Напротив, дикие ослы, быки, антилопы живут большими стадами, обнаруживая при этом чрезвычайную потребность в обществе себе подобных: зависит это от того, что от недостатка пищи стадо травоядных не страдает, а между тем соединение в стадо уменьшает для травоядных опасность нападения хищников, облегчает защиту от них и бегство. Одинокая антилопа неминуемо должна была бы погибнуть, потому в ней так и развит общественный инстинкт62.
Общественный инстинкт слагается, по мнению Грооса, из двух более элементарных: из инстинктивного стремления к приближению к себе подобным и из стремления издавать звуки призыва и предупреждения и отвечать на них63. Эти более простые инстинкты свойственны всем общественным животным, к числу которых принадлежит и человек. Мы не знаем ни одного человеческого племени, которое не жило бы более или менее значительными группами. Сила общественного инстинкта человека доказывается тяжелыми страданиями, которые причиняет человеку принудительное изолирование его от общества себе подобных (например, в одиночном заключении).
Инстинктивная любовь кровных родственников и общественный инстинкт людей представляют собой важнейшую психологическую основу человеческого общества. Симпатические чувства и взаимная любовь, которую Конт назвал в противоположность эгоизму альтруизмом, естественно развиваются между людьми, принадлежащими к одному и тому же обществу. Наличность в человеческой природе альтруистических чувств есть факт безопорный. Вопрос только в том, достигают ли эти чувства в современных людях такого развития, чтобы их можно было признавать крупной социальной силой.
Один современный социолог – Бенджамин Кидд – сделал попытку доказать именно это. По его мнению, общественный прогресс нашего времени выражается в чрезвычайном распространении в широких общественных слоях и, в частности, в господствующих классах интенсивного чувства гуманности и жалости к страданиям другого64. К этому заключению Кидд пришел на основании оригинальных социологических соображений, отправным пунктом которых является положение, что не интеллектуальная одаренность, но моральная сила обеспечивает народу победу в борьбе за существование.
С последним можно согласиться. Но Кидд глубоко заблуждается относительно характера моральных свойств, необходимых народу для победы над соперниками. Пока война не исчезла с мировой арены, до тех пор естественный отбор не может укреплять в людях альтруистические чувства. Жестокость и невосприимчивость к чужим страданиям являются необходимыми свойствами хорошего солдата. Кидд очень высокого мнения о национальном характере англосаксов и видит в последнем главную причину промышленных и политических успехов англичан и американцев. Если это и так, то, конечно, только наше национальное самоослепление внушило английскому социологу мысль, что преимущества англосаксов перед всеми другими заключаются в исключительном развитии у них альтруистических чувств. Не альтруизм, но упорство и энергия в преследовании своих, по большей части, совершенно эгоистических целей, мужество и настойчивость, с какими преодолеваются препятствия, – вот что обеспечило англосаксами победу над соперниками. Что же касается рассуждений Кидда о горячей любви к ближним капиталистов и вообще лиц господствующих классов, то рассуждения эти слишком наивны, чтобы нуждаться в опровержении.
Именно условия борьбы за существование в современном обществе объясняют нам, почему альтруистические чувства имеют пока такое слабое развитие. «Как бы это ни казалось странным, – говорит Спенсер, – но следует признать, что усиление гуманных чувств не идет шаг за шагом по следам цивилизации, но, что, напротив, первые ступени цивилизации неизбежно обусловливают относительную бесчеловечность. Среди племен первобытных людей, самые грубые, скорее, чем самые добрые, успевали в той борьбе, которая имела результатом объединение и отвердение обществ; и в течение многих последующих стадий общественной эволюции бессовестные давления на общество извне и жестокие внутренние насилия долгое время были обычными спутниками политического развития. Люди, соперничество которых образовало наилучше организованные общества, были вначале, да и долгое время потом не что иное, как дикари, но более других сильные и хитрые. И даже теперь, если они освобождаются от влияний, которые по наружности изменили их поведение, они оказываются немногим лучше»65.
Так как политическая организация слагалась под влиянием войн, то естественно, что именно наиболее воинственные, т. е. наиболее кровожадные и жестокие народности достигли цивилизации. И теперь существует немало первобытных племен, отличающихся удивительной мягкостью нравов и далеко превосходящих в этом отношении цивилизованные расы; но характерно, что ведь эти племена почти лишены политической организации66.
Современный капиталистический строй столь же мало благоприятствует развитию альтруистических чувств, как и военная организация общества прежнего времени. Нравы теперь не так грубы, убийство и другие формы физического насилия внушают больше отвращения и признаются допустимыми только в исключительных случаях, например, во время войн, которые стали реже и мене продолжительны. Мы, несомненно, не так жестоки, как наши кровожадные предки. Но капиталистический строй не является благодатной почвой для широкого развития альтруизма. Насилие приняло теперь более мягкие формы, но отнюдь не прекратилось; капиталистическое хозяйство, как и рабское, и феодальное, покоится на присвоение чужого труда, на эксплуатации немногими огромного большинства. Беспощадная конкуренция, ставшая, благодаря капиталистическому способу производства, условием хозяйственного успеха, повела к чрезвычайному обострению борьбы за существование, которая, несмотря на большую мягкость своих внешних проявлений, требует теперь большого напряжения силы личности. Связь наличных денег (cash-nexus, по выражению Карлэйля) не есть связь нежной любви.
Итак, следует признать, что альтруистические чувства никогда не были сколько-нибудь могущественным фактором социального развития. Это так же верно относительно нашего времени, как и относительно прошлого. Симпатические чувства сильны только в сравнительно тесных группах людей. Это и понятно, так как способность человека к симпатии основывается на способности воспроизводить в своем сознании чувства и ощущения другого, для чего, в свою очередь, требуется известная общность психической жизни людей. Чем больше эта общность, тем сильные и чувство симпатии. По этой причине симпатическое чувство достигает наибольшей силы в пределах семьи – и только в этом узком кругу мы встречаем действительно сильную и готовую к самопожертвованию деятельную любовь. Люди, принадлежащие к тому же социальному классу, симпатизируют друг другу, как общее правило – сильнее, чем люди разных классов. Таким образом возникает классовое чувство, вступающее в тесную связь с эгоистическими и эгоальтруистическими чувствами и в такой форме являющееся одним из могущественных двигателей истории. Национальное чувство столь же мало основано на чистом альтруизме, как и классовое чувство, так как главную роль в нем играют эгоальтруистические элементы (национальная гордость, жажда славы).
Национальность нередко представляет собой крайний предел для симпатических чувств современного человека. Между людьми различных рас симпатическое чувство может совершенно отсутствовать, что, разумеется, не оправдывает жестокости европейцев по отношению к цветным расам, но объясняет ее.
IV
Если современный человек не способен сильно симпатизировать страданиям другого, чуждого ему человека, зато он в высшей степени восприимчив к одобрению или неодобрению его поведения общественным мнением. «Я никогда никому не скажу этого, – говорит у Толстого князь Андрей Болконский, – но, Боже мой! что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую. Смерть, раны, потеря семьи, ничто мне не страшно. И как ни дороги, ни милы мне многие люди – отец, сестра, жена, – самые дорогие мне люди, – но, как ни страшно и ни неестественно это кажется, я всех их отдам сейчас за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю и не буду знать»67.
Совокупность чувств этого рода, названных Спенсером эгоальтруистическими, является одним из самых могущественных двигателей поведения как цивилизованного, так и нецивилизованного человека. «Даже самый примитивный человек, – утверждает Липперт, – не довольствуется простым животными существованием; он хочет возбуждать внимание, иметь значение для себе подобных»68. «Как ни велико тщеславие, обнаруживаемое цивилизованным человеком, оно все-таки уступает тому, которое обнаруживает человек нецивилизованный, – замечает Спенсер. – Самоукрашение занимает мысли какого-нибудь дикого вождя в еще большей степени, чем мысли какой-нибудь светской дамы наших дней»69. Дикарь охотно переносит самые тяжелые физические мучения (как, например, татуирование и изуродование различных частей тела), лишь бы придать себе более внушительный вид. «Фиджийский вождь, волосы которого, благодаря прическе, торчат, как щетина, в разные стороны, не может во время сна положить свою голову, но должен держать ее на весу, подпирая особой подставкой шею. Кольца в носу, куски дерева в нижней губе, которые носят ботокуды, обтачивание зубов в острые треугольники, к которому прибегают малайцы, – все это переносится, конечно, нелегко, но все же охотно переносится, как и самоистязания, которым себя подвергают люди для умилостивления богов»70.
Именно тщеславие первобытного человека объясняет пристрастие дикарей к блестящим безделушкам, привозимым европейцами. Конечно, не эстетические соображения побуждают негритянского князька с гордостью выступать в европейском костюме перед своими чернокожими подданными, но побуждения такого же рода, как и те, которые заставляют французского буржуа так высоко ценить знаменитую красную ленточку.
В «Основаниях психологи» Спенсер указывает, каким могущественным мотивом человеческого поведения был и остается страх перед общественным мнением. Только совершенно исключительные натуры способны к сильным альтруистическим чувствам, но почти не существует людей, совершенно равнодушных к общественному мнению. Объясняется это условиями существования современного общества. Чем сплоченнее общество, чем теснее связаны его части, чем сильнее зависимость индивида от общественного целого, тем больше оснований имеет каждый отдельный человек бояться общественного мнения и регулировать им свое поведение. Политически организованное общество обладает властью непосредственного принуждения непокорной воли отдельных лиц: награда же, обещаемая обществом послушным, так же велика, как и кара ослушникам. Классовая борьба и война, препятствующие распространению альтруистических чувств, благоприятствуют развитию честолюбия, становящегося, поэтому, главным двигателем человеческого поведения. Утверждение Ницше, что «воля к власти» есть самое существо человека, заключает в себе по отношению к нашему времени много верного.
Христианский моральный идеал есть выражение высочайшего альтруизма, но действительное поведение современных людей определяется не этим этическим идеалом. Так, христианская религия требует прощать обиды. Современное общество выработало, однако, свой собственный кодекс чести, признающий прощение обид величайшим позором, и как мало мы видим людей, имеющих мужество предпочитать волю Христа требованиям условной чести! Заповеди Христа – любить врагов своих, современное государство противопоставило требование убивать врагов на войне, и война ведется христианскими народами с величайшей беспощадностью. Христианская мораль требует отказа от богатства и признает великим грехом не подать милостыни неимущему; господствующие нравы, напротив, вполне оправдывают богатство и карают нищенство как преступление. Коротко говоря, христианская мораль несовместима с основами капиталистического общества, и самый факт его существования доказывает, что не христианский этический идеал, но правила поведения совершенно иного рода регулируют жизнь современного общества. Психологической основой этих правил являются чувства эгоальтруистического характера71.
Классовое чувство – чувство солидарности с представителями того же класса есть очень сложное чувство, в состав которого входят различные элементы, но преобладающую роль играют эгоистические и эгоальтруистические. Естественное симпатизирование друг другу людей, находящихся в одинаковом положении, содействует, конечно, возникновению этого чувства, но его главной основой является отнюдь не элемент взаимной симпатии. Это доказывается, между прочим, тем, что люди того же класса редко обнаруживают значительную готовность бескорыстно помогать друг другу. Развитию взаимной любви между лицами того же класса препятствует конкуренция между ними, заставляющая их нередко больше бояться, чем любить друг друга. Но те же люди весьма часто обнаруживают по отношению к другим классам чрезвычайную солидарность и защищают, как, например, французское дворянство в эпоху революции, с величайшим самопожертвованием интересы своего класса. Чувство сословной чести, стремление согласовать свое поведение с общественным мнением своего класса, а затем сознание тесной связи между интересами класса и своими личными играет в подобных случаях решающую роль.
Даже те немногие люди, которые решаются идти против общественного мнения своего времени, не могут освободиться от влияния общественного мнения вообще. Они презирают настоящее, но тем более они верят в будущее. Они освобождаются от подчинения реальному общественному мнению настоящего только благодаря тому, что представляют себе идеальное общественное мнение будущего и чувствуют себя зависимыми от последнего72.
Национальное чувство точно так же слагается из альтруистических, эгоистических и эгоальтруистических чувств, причем последние решительно преобладают. Национальное чувство является гораздо меньше любовью к людям той же национальности, чем неприязнью или даже отвращением к людям других национальностей. Гордость принадлежности к могущественной нации, отвращение к чуждым нравам и образу жизни, сознание общности интересов, связывающих человека совершенно эгоистически с людьми его национальности, – вот важнейшие основы этого чувства, играющего такую выдающуюся роль в истории.
Стремление к власти, почестям, славе есть, наряду с чувством самосохранения и жаждой чувственных наслаждений, важнейший мотив человеческого поведения. Борьба за власть имеет в истории человечества такое же значение, как и борьба за существование. Это является одним из характернейших признаков человеческой истории, в отличие от истории развития какого-нибудь животного вида.
Даже стремление к богатству, к хозяйственному благополучию, которое нередко противопоставляют стремлению к власти, вызывается в значительной мере стремлением этого последнего рода. Люди стремятся к богатству не только вследствие чувственных удовольствий, которые оно доставляет, но не меньше и вследствие доставляемой богатством власти над людьми. Психология скупости объясняется, главным образом, этим мотивом73. Если бы жажда богатства была просто жаждой чувственных наслаждений, то она должна была бы находить свою границу в ограниченности этих последних. Однако таких границ для жажды богатства нет.
Не подлежит сомнению, что все крупные исторические движения были и остаются в непосредственной связи со стремлением к власти отдельных лиц и народных масс. Конечно, войну нельзя объяснить только этим мотивом. Но нельзя отрицать и того, что честолюбие как отдельных лиц, так и целых наций весьма часто толкало людей на войну. И политическая, и социальная история мира приняла бы совершенно иной вид, если бы эгоальтруистические чувства не играли такой первенствующей роли в жизни человека.
V
Практический интерес господствует в жизни человека, но не исчерпывает ее. В человеческой природе есть потребности, которые не направлены на практические интересы жизни и которые, поэтому, я называю потребностями, не основанными на практическом интересе. Простейшей из них является потребность в игре.
Игра, конечно, более позднего происхождения, чем сознательная жизнь, так как низшие животные не играют. На первых ступенях животной жизни самосохранение поглощает все силы организма, и для игры места не остается. Но уже весьма рано в истории развития животного мира появляется игра как деятельность, коренным образом отличная от борьбы за существование. Животное играет, производя бесполезные движения, прыгая, бегая, притворяясь, будто оно нападает на врага или спасается от него и т. д., без всякой другой цели, кроме наслаждения от этих движений. Причиной, вызывающей последние, можно считать избыток неизрасходованной жизненной энергии организма, затрачиваемой животным за недостатком полезной работы на бесполезную, но приятную мускульную деятельность. Таким образом возникает потребность в игре, там больше сильная, чем больше в организме запас неиспользованных жизненных сил.
Наиболее деятельные животные обнаруживают наибольшую любовь к играм. Так, например, хищные животные, и среди них самый совершенный хищник – кошка. Первобытный человек также любит игры. «Известно, – говорит Карл Бюхер, – что первобытные народы с большим усердием и для нас непонятным упорством предаются деятельности разного рода, носящей характер игры, и прежде всего – танцам… Все примитивные народы танцуют, танцуют до бешенства и истощения сил, иногда до тех пор, пока танцующий не падает на землю с кровавой пеной у рта»74.
На основании огромного запаса фактов Бюхер приходит к заключению, «что первоначально работа не отделялась от игры»75. Это разделение произошло позднее. Первобытный человек играет так же серьезно, как мы работаем, и соединяет серьезную работу с элементами, которые мы относим к игре.
На высших ступенях развития, после того как работа дифференцируется от игры, низшие формы игры теряют свое прежнее значение. Только в редких случаях наблюдается и среди культурных народов такое усиление интереса к физическим играм, что этот интерес приобретает значение важной социальной силы. Так, например, в Риме и Византии игры в цирке были крупными событиями общественной жизни, иногда вызывавшими народные волнения. «Panemetcircenses!» (хлеба и зрелищ!) – это сопоставление необходимых средств к жизни с игрой крайне характерно для древнего Рима.
Но игра в особенности важна тем, что из нее возникла такая чрезвычайно важная отрасль духовной деятельности человека, как искусство. Шиллер впервые указал на связь эстетической деятельности с игрой; впрочем, мысли Шиллера были только развитием соображений Канта в «Критике способности суждения». Эстетическое наслаждение не основано на практическом интересе. А так как «мы имеем право признавать игрой всякую деятельность, которая исполняется нами исключительно ради доставляемого ею наслаждения»76, то искусство должно рассматриваться как одна из форм игры. К тому же заключению пришел в новейшее время, независимо от Шиллера и Спенсер.
Замечательное исследование Блюхера «Работа и ритм» показало, что музыка и поэзия первоначально были тесно связаны с хозяйственным трудом. Можно даже думать, что ритм, составляющий самое существо музыки и стихосложения, возник главным образом из ритмических движений работающего человека77. С течением времени музыка выросла из средства облегчения хозяйственного труда в одно из прекраснейших искусств. Но это мало увеличило ее значение как фактора социального развития. Музыка доставляет, быть может, чистейшее эстетическое наслаждение, и в этом отношении ценность ее не может быть преувеличена; но нелегко подметить влияние музыки на ход исторического развития человечества. Так, например, решительно невозможно обнаружить, какое неблагоприятное влияние на социальную историю Англии оказал недостаток музыкальной одаренности английского народа, или же, наоборот, какие социальные выгоды воспоследовали для итальянцев и евреев из их исключительной одаренности в музыкальном отношении. Если бы эти выгоды или невыгоды были значительны, их легче было бы заметить78.
То же можно сказать и о других изящных искусствах, хотя и с большими ограничениями, так как из них всех музыка стоит всего дальше от практических интересов жизни. Что касается до поэзии, то она, конечно, является крупной социальной силой, но лишь потому, что в поэзии прекрасная форма соединяется с определенным идейным содержанием. Эти идеи, однако, общи поэзии с другими областями социального мышления – с философией и наукой. Только благодаря интеллектуальному содержанию, а не благодаря своему чисто эстетическому элементу – прекрасной форме, изящная литература выросла в такую могучую общественную силу.
Область чистой эстетики не оказывает большого влияния на практику жизни, что вполне естественно, так как сущность эстетического наслаждения заключается в его независимости от практических интересов жизни. По знаменитому определению Канта, прекрасное нам нравится независимо ни от какого практического интереса79. Правда, эстетическое наслаждение заключает в себе нечто морально облагораживающее и, как на это указали Кант и Шиллер, способствует моральному подъему человека, погруженного в чувственную жизнь. Мы можем признать вместе с Шиллером, что идеал «прекрасной души» есть высочайший человеческий идеал, но из всего этого не следует, чтобы эстетический элемент искусства был крупной общественной силой. Действительная жизнь бесконечно далека от идеала; и если признать за искусством морально облагораживающее действие, то, с социологической точки зрения, это еще значит немного, так как сама-то альтруистическая мораль, как выше указано, мало осуществляется в жизни современного общества. До настоящего времени эта жизнь наполняется, главным образом, борьбой за существование и за власть, а для интереса к истине, добру и красоте в ней остается немного места.
Стремление к познанию имеет в себе нечто общее со стремлением к эстетическому наслаждению: и то и другое не основывается или может не основываться на практическом интересе. Познание может быть целью в себе совершенно независимо от проистекающих из него практических выгод. «Подобно тому как существуют музыкальные и поэтические натуры, так существуют и интеллектуальные натуры. Для них логические противоречия, неясность и бессвязность мысли так же мучительны, как для других фальшивые звуки и плохие стихи80. Человек с такой натурой стремится к истине ради нее самой. Правда, стремление к познанию очень слабо на первых ступенях исторического развития; и впоследствии люди с сильными интеллектуальными интересами встречаются гораздо реже, чем люди с эстетической натурой. Чисто научное произведение никогда не может рассчитывать на такой интерес в широкой публике, как хороший роман или музыкальная пьеса. Однако, как бы слабо, в общем, ни было чистое стремление к познанию, все же нельзя отрицать его существования в человеческом духе.
Конечно, было бы грубой ошибкой объяснять происхождение и развитие науки исключительно любознательностью человека. Наука возникла не из теоретического интереса человека, не из его стремления к объективной истине, но из практического интереса поддержания жизни. Это верно как относительно практических, прикладных, так и относительно теоретических, абстрактных наук. Практика жизни играет на первых шагах научного развития решающую роль.
Это доказывается историей всех отраслей научного знания. «Две важнейшие отрасли древней математики – арифметика и геометрия – обязаны своим разделением и самостоятельной разработкой разнообразным запросам, предъявлявшимся искусству счисления торговлей и потребностью в измерении земли»81. Строительное искусство вместе с межевым повело к возникновению геометрии, а арифметика развилась из счета ценных предметов. Естествознание точно так же создано практическими нуждами жизни. «Как следует подпереть тело определенной формы, чтобы помешать его падению, как развить определенную силу, как увеличить напряжение тетивы лука, чтобы метательная сила возросла на определенную величину: эти и подобные задачи натолкнули Архимеда и Герона Александрийского на их механические исследования»82.
В возникновении механики сыграла большую роль практическая потребность взвешивания ценных предметов. «Рациональная механика не могла иметь другого исходного пункта, кроме весов»83. Астрономия также возникла из практических интересов жизни. «Теоретический интерес к небесным явлениям был достаточно удовлетворен неопределенными представлениями Платона и Аристотеля о вращении звездных сфер; но для точного разделения времени года требовались числовые определения, достигшие своего завершения с доступной для древности точностью в астрономической системе Гиппарха и Птолемея»84.
Не теоретический, но практический интерес – найти средство превращать все в золото – повел к возникновению алхимии, из которой развилась научная химия. Теоретическая биология создалась под непосредственным влиянием своих прикладных отраслей, как медицина, зоотехния, агрономия и т. д. «Науки неразрывно сплетены с техническими искусствами; и только условно мы можем их рассматривать вне этой связи. Первоначально и те, и другие составляли нечто единое. Как установить дни религиозных празднеств, когда сеять, как возить товары и как измерять землю – вот совершенно практические вопросы, которые повели к возникновению астрономии, механики и геометрии»85.
То же следует сказать и о науках о духе. Вопросы этического и политического характера лишь сравнительно поздно стали предметом научного рассмотрения. «Только в V веке, когда в лице софистов явились учителя политического красноречия, отвергнувшие как бесполезные все спекуляции относительно связи явлений природы и посвятившие себя практическим задачам жизни и, прежде всего, подготовке учеников к политической деятельности, пробудился интерес и к теоретическим проблемам, связанным с политической и ораторской деятельностью»86. С софистов начинается и филология как особая наука о языке. Как практические учителя красноречия, софисты были поставлены в необходимость изучать и анализировать формы языка.
Что касается до юридических наук, то все они возникли и развились в непосредственной связи с практическими задачами жизни. Весьма характерно в этом отношении, что именно те отделы права впервые получили у римлян научную обработку, которые находились в наиболее тесной связи с хозяйственной жизнью, именно – гражданское и, в частности, имущественное право, между тем как наука государственного и международного права развилась гораздо позже. Другая ветвь общественных наук – экономические науки – также возникла на практической почве и сохраняет тесную связь с практикой жизни доныне.
Таким образом, история науки вполне подтверждает примат практического интереса над теоретическим, воли над разумом. Это верно относительно познания не меньше, чем относительно искусства: «Эстетическое чувство развилось из инстинктов, служащих для сохранения индивидуума и рода. Оно есть следствие избытка энергии, не израсходованной в жизненной борьбе и потому могущей быть потраченной на другие цели»87. Что же касается чистого стремления к познанию, то оно является сравнительно поздним продуктом мощного развития интеллекта, обусловленного, в свою очередь, первенствующей важностью разума в жизненной борьбе.


