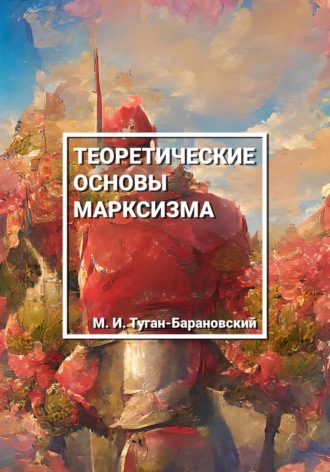
Михаил Иванович Туган-Барановский
Теоретические основы марксизма
Глава V. Общественный класс и классовая борьба
Классовое сложение современного общества.
I. Побудительные мотивы к классовой борьбе. Борьба за богатство и борьба за власть. Политическая борьба. Война у охотничьих народов, у номадов, у низших земледельцев и у цивилизованных народов. Различные побудительные мотивы к войнам.
II. Классовая точка зрения в различных областях духовной деятельности. Наука. Логические истины и классовый интерес. Мораль. Общеобязательность этических норм. Чувство долга. Религия. Искусство.
III. Классовая борьба и социальные движения новейшего времени. Кооперативное движение. Современный социализм. Социалистическая интеллигенция. Социальные реформы. Законодательство по охране труда. Новейшее обострение классовой борьбы. Его причины. Хозяйственный интерес и материальные факторы хозяйства.
Среди современного государства наблюдаются различия как по отношению к правовому положению различных общественных групп, так и по отношению к национальности, языку, религии, образованию, профессиям и пр. и пр. Но среди всех этих различий есть одно, превосходящее по своему социальному значению без всякого сравнения все остальные – хозяйственное различие принадлежности людей к тому или иному социальному классу. Классовое сложение общества есть выражение социального факта присвоения одними общественными группами прибавочного труда других групп. Но социальные классы различаются не только по своей роли в общественном хозяйстве или по степени своего хозяйственного благосостояния: каждый социальный класс является особым, чрезвычайно сложным социальным типом, так как на основе хозяйственных различий возникают многообразные различия в нравах, взглядах и во всем строе жизни данных классов. То, что мы называем современной цивилизацией, есть достояние преимущественно богатых классов; бедность неизменно сопровождается невежеством и иногда полным одичанием. На низах социальной лестницы исторический прогресс почти не вызывает перемен, и самые цивилизованные общества нашего времени обнаруживают самые глубокие контрасты культурного уровня высших и низших классов.
I
Исходя из совершенно верной мысли, что различия хозяйственных условий жизни не могут не сопровождаться культурными различиями и что в хозяйственной области интересы различных классов более или менее противоположны, творцы исторического материализма отождествили всю историю человечества с борьбой общественных классов за материальное богатство. «История всякого бывшего доселе общества есть история классовой борьбы», гласит знаменитый «Манифест». В своей полемической книге, направленной против Дюринга, Энгельс утверждает, что «насилие есть лишь средство, а экономическая выгода – цель»122, а в другой своей работе подробно доказывает, что политическая борьба всегда есть лишь замаскированная борьба за экономические интересы: «всякая политическая борьба есть борьба классов, – говорит он, – и во всякой борьбе классов за свое освобождение, несмотря на ее по необходимости политическую форму, – так как всякая классовая борьба есть политическая борьба, – дело идет об экономическом освобождении классов»123.
Такова основная идея учения о классовой борьбе. Но уже самая формулировка этой идеи Энгельсом страдает существенным логическим дефектом. Нельзя противопоставлять политическое «насилие» (власть) «экономической выгоде» (богатству) по той причине, что власть может быть и весьма часто бывает целью в себе, а богатство всегда есть лишь средство к чему-либо другому. Поэтому не «экономическая выгода», а то, чему служит эта выгода, например, поддержание жизни или чувственные наслаждения могут быть противопоставлены стремлению к власти как особая, самостоятельная цель. Но совершенно очевидно, что простое стремление к поддержанию жизни не может быть единственным или даже хотя бы важнейшим побудительным мотивом к классовой борьбе. Только самые бедные борются за голое существование; даже для высших слоев рабочих классов дело идет в хозяйственной борьбе не о самой жизни, а о более приятной, достойной человека жизни. Что же касается более достаточных классов, то им, конечно, не приходится отстаивать своего права на существование. Богатый человек, стремящийся к дальнейшему обогащению, побуждается к этому вовсе не чувством самосохранения. Уже большую роль в этом отношении играет стремление к чувственным наслаждениям. Но и оно крайне индивидуально и не имеет всеобщего характера. Весьма вероятно, что наиболее устойчивой психологической основой жажды богатства следует признать играющие столь важную роль в жизни человека эгоальтруистические стремления к почету и власти; можно думать, что люди гораздо больше стремятся к богатству как к дороге к власти, чем, наоборот, к власти как дороге к богатству.
Итак, вопреки Энгельсу, неверно, что «насилие есть лишь средство, а экономическая выгода – цель», – нередко «экономическая выгода» есть лишь средство к «насилию», иначе говоря – власти. Иными словами, политическая история общества отнюдь не есть замаскированная история борьбы классов за свои экономические интересы, так как люди борются не только за богатство, но и за власть. Политическая история сохраняет, следовательно, наряду с экономической, свое самостоятельное значение.
На первом плане политической истории стоит война, сыгравшая такую выдающуюся роль в деле сплочения общественных групп в политически организованные единицы – государства. Что же такое война – есть ли это только борьба за экономические интересы или нечто несравненно больше сложное?
У первобытных племен война, а не мир является, как известно, нормальным состоянием. «Каждое племя (индейцев), – говорит Морган, – признавалось, по общему правилу, находящимся в состоянии войны со всеми племенами, с которыми оно не заключило особого мирного договора. Каждый отдельный человек имел право во всякий данный момент организовать войско и предпринять с ним поход против любого племени»124. На то же указывает и Спенсер по отношению к другим народам125. Беспрерывные войны первобытных народностей находятся, несомненно, в самой тесной связи с характером их хозяйства – охоты. То же оружие, которое служит для охоты, употребляется и для нападения на человека; самые приемы охоты вполне совпадают с проемами войны: хороший охотник есть вместе с тем и хороший воин. Хозяйство первобытных народов благоприятствует, следовательно, в высшей степени войне.
Но вместе с тем ясно, что в войнах охотничьих народов хозяйственный мотив не играет большой роли, так как охотничьи племена не имеют значительных запасов полезных предметов, которые могли бы присвоить победители. Точно так же нельзя сказать, чтобы войны этого рода вызывались противоположностью экономических интересов охотничьих народцев, так как постоянного антагонизма интересов на этой ступени общественного развития почти нет. Никто не описывал красноречивее Энгельса гармоничности общественного строя первобытного племени. «Бедных и нуждающихся (в таком племени) не могло существовать, – говорит нам автор «Происхождения семьи», – коммунистическое хозяйство и род хорошо знали свои обязанности по отношению к старым, больным и пострадавшим на войне. Все были равны и свободны, в том числе и женщины. Рабам еще нет места в этой организации; нет места в большинстве случаев и подчинению чужих племен… А каких мужчин и женщин создает такое общество, об этом свидетельствует удивление, которое внушали всем белым, встречавшимся с неиспорченными индейцами, личное достоинство, прямота, сила характера и храбрость этих варваров»126.
Словом, совершенная идиллия, с одной только поправкой: «там, где не существовало формального мирного договора, между племенами царила война, и война эта велась с жестокостью, которая отличает человека среди всех прочих животных»127. Чем же вызывались эти бесконечные войны народов, не знавших социальных антагонизмов и еще не совершивших экономического грехопадения – присвоения прибавочного труда?
Во всяком случае, не господством хозяйственных интересов. «Насилие» у первобытных племен уже потому не могло быть простым средством к «экономической выгоде», что никакой экономической выгоды из насилия обыкновенно не проистекало. Что же побуждает эти народы к войне?
Прежде всего, любовь к самой войне, являющейся в этом случае не средством, а целью. Война первобытных народов есть один из видов спорта или игры. Игры нападения и защиты составляют, как известно, одну из самых распространенных форм игры как у человека, так и у животных. Прирожденный инстинкт борьбы так силен у человека, что «вряд ли существует какая-либо форма игры, которая не принимала бы, так или иначе, характера борьбы»128. Битвы гладиаторов в древнем Риме, турниры средневековых рыцарей, кулачные бои русского простонародья, борьба атлетов в цирках и балаганах – все это показывает, как сильны были во все времена инстинкты борьбы и любовь к воинственным играм. И первобытные народы нападают друг на друга прежде всего из любви к борьбе129.
К этому побудительному мотиву присоединяются многие другие – так, например, весьма сильное у первобытного человека чувство мести, являющееся, в связи с предшествовавшими стычками, всегда готовым предлогом к новым столкновениям. Стремление к отличию, к славе, к возбуждению удивления к себе среди себе подобных есть, быть может, сильнейший повод к войнам дикарей. Все наблюдатели говорят о необычайно развитом тщеславии первобытного человека, а что же может в большей степени питать это тщеславие, чем успехи на войне? Всем этим и объясняется воинственность охотничьих народов, несмотря на экономическую непроизводительность их войн.
Не менее воинственны многие пастушеские племена, что опять-таки стоит в тесной связи с условиями их хозяйства, так как и пастух легко превращается в воина. Но в этом случае война приобретает уже и хозяйственный смысл. Правда, и в войнах пастушеских народов мотивы тщеславия, мести и любви к борьбе играют очень большую роль; однако к ним присоединяется новый, не менее важный чисто экономически мотив – грабеж скота. «Арабский разбойник, – говорит Буркгарт, – считает свою профессию в высшей степени почетной, и название «Гарами» (разбойник) есть одно из самых лестных для молодого героя. Араб грабит врагов, друзей, соседей, если только они не находятся в его палатке, когда их собственность становится священной»130. Неудивительно, что «арабские племена ведут беспрерывные воины, хотя их войны так же кратковременны, как и периоды мира, нарушаемого по самым ничтожным поводам»131. Точно так же «пастушеские народы Пампасов живут больше от грабежа лошадей, чем от разведения их. Их постоянные войны, которые они ведут с величайшей храбростью, имеют своей непосредственной целью грабеж табунов»132.
Так же характеризует войны скотоводческих народов и Спенсер. «У бечуанов месть за прежние грабежи и разбои является обычным поводом для войны; действительным же объектом их всегда служит приобретение скота. У европейских народов древности мы находим нечто совершенно подобное. Ахиллес говорит о троянах: «они предо мной не виноваты, так как никогда не похищали моих быков и лошадей». А тот факт, что у древних шотландцев угоны скота были обыкновенной причиной междуплеменных битв, доказывает нам, как была постоянна эта борьба за средства индивидуального самосохранения»133. Войны пастушеских народов можно, поэтому, рассматривать до некоторой степени как род хозяйства; но чувства тщеславия, мести и любви к войне как таковой чрезвычайно сильно влияют на это своеобразное хозяйство.
У первобытных земледельческих народов другие побудительные причины хозяйственного характера вызывают войны; так, например, похищение рабов, споры из-за границ территориальных участков, принадлежащих отдельным племенами, и т. д. В некоторых случаях мы наблюдаем среди сравнительно вышестоящих народов настоящие охоты на человеческую дичь в целях каннибализма. «Не чем иным, как такими охотами, были так называемые войны ацтеков; дань побежденных ими племен состояла в доставке человеческого мяса»134. Однако нельзя не признать, что у низших земледельческих народов война в гораздо меньшей степени служит хозяйственным целям, чем у пастушеских племен.
То же следует сказать и о цивилизованных народах. Войны ведутся ими по самым разнообразным поводам и мотивам – даже мотив альтруизма может иногда толкать народы на войну, как, например, в тех случаях, когда дело идет о защите слабого народа от нападений сильного. Религиозный фанатизм вызывал долгое время самые ожесточенные и беспощадные войны. Оскорбленное чувство национальности является до настоящего времени обычным поводом к войнам. Но, в общем, и у цивилизованных народов эгоальтруистические чувства, стремление к славе и власти всего более содействуют войнам.
Мотивы хозяйственного рода могут также при этом играть большую роль, как, например, в колониальных войнах нового времени. Однако большая война только в редких случаях может быть выгодна даже для победителя, – слишком много она уже стоит. Многие социологи (Сен-Симон, Конт, Бокль, Спенсер и др.) не без основания противопоставляют воинственному типу общества промышленный тип как социальные противоположности и усматривают в войне величайшую помеху хозяйственному прогрессу. Политико-экономы не устают со времен Адама Смита приводить доказательства экономической нецелесообразности войн, экономические выгоды которых обыкновенно не окупают расходов; все это, однако, нисколько не препятствует народам нашего времени разоряться в беспрерывных войнах, доказывая этим, что нехозяйственные интересы толкают их на войну.
Действительно, какие общественные классы экономически выигрывают от войны? Быть может, капиталисты? Если бы даже это было и так (хотя, на самом деле, промышленность и торговля, а следовательно, и предприниматели несут огромные убытки даже при победоносных войнах), все же это нисколько не объясняет, почему народные массы, состоящие, конечно, не из капиталистов, настроены так воинственно и с такой готовностью поддерживают воинственную политику правительства. Ничто не вызывает до настоящего времени такого воодушевления, такого энтузиазма в массах народа, как военные триумфы; и только глубокое непонимание человеческой души может объяснять этот энтузиазм какими-либо расчетами на экономические выгоды победоносной войны. Солдат нашего времени не имеет ничего общего с разбойником кочевых народов, он борется не за богатство, а за идеальные цели, как честь, слава, могущество Родины и т. д.
Таким образом, учение о господствующей роли в общественной жизни хозяйственных интересов не может дать удовлетворительного объяснения социальному факту огромной важности – войны. Войну нельзя рассматривать как одну из формы классовой борьбы, так как характерная черта войны именно в том и заключается, что перед лицом общего неприятеля все классы общества, несмотря на противоположность своих экономических интересов, действуют более или менее солидарно. Национальное чувство и другие подобные же чувства, объединяющие в одно политическое целое многоразличные классы, входящие в состав государства, оказываются во время войны достаточно сильными, чтобы на время оттеснить на задний план сознание классовых антагонизмов. В этом случае обнаруживается всего яснее несостоятельность всяких попыток отрицать самостоятельное историческое значение политического момента, несводимого, на самом деле, ни к каким экономическим моментам и являющегося особым и независимым социальным фактором.
Мы должны различать в истории, поскольку она слагается из борьбы общественных групп, два рода борьбы: борьбу классов внутри политически организованного общества и борьбу целых агрегатов классов, организованных в политические единицы. И та и другая борьба есть в большей или меньшей степени борьба за власть. Но в борьбе первого рода важнейшим средством к власти является богатство, почему богатство и составляет весьма часто ближайший объект борьбы; другой характер имеет борьба второго рода, важнейшим объектом которой богатство бывает лишь в редких случаях, чаще же этим объектом является непосредственное политическое подчинение противника и расширение собственного политического могущества, по отношению к чему все классы воюющего государства чувствуют себя солидарно заинтересованными.
Существование известной солидарности даже экономических интересов различных классов того же государства не подлежит сомнению. Это определенно признается Каутским, указывающим, что «капиталистическое общество образует собой, как и всякое другое, единый организм, в котором повреждение одной части неблагоприятно влияет на другие части», и приходящим к заключению, что известная гармония интересов различных классов «бесспорно существует»135. Поэтому мы не имеем никакого права рассматривать государство исключительно как организацию классового господства. В защите политической самостоятельности государства в равной мере заинтересованы все классы общества, поскольку эта самостоятельность имеет для них идеальную ценность. В чисто хозяйственной области государство есть организация не только классового господства, но и хозяйственного прогресса, увеличения общей суммы национального богатства, что соответствует интересам всех общественных классов как целого. Нельзя отрицать и культурной миссии государства, материально заинтересованного в подъеме духовной культуры населения, так как политическое и экономическое могущество страны неразрывно связано с успехами культуры.
II
По отношению к высшим областям духовной деятельности человека – науке, философии, искусству, морали, религии – недостаточность теории классовых интересов совершенно очевидна. Научное и философское познание следует своим собственным логическим законам, не имеющим ничего общего с интересами классов. Маркс и Энгельс были всего меньше склонны отрицать, со своей гносеологической точки зрения, объективное значение научных истин. Как материалисты, они верили в объективное существование матери, которое, следовательно, признавалось ими доступным нашему познанию. «Способно ли наше мышление, – спрашивает Энгельс, – познавать истинный мир, могут ли наши представления и понятия о реальном мире быть точным зеркалом действительности?»136– и отвечает утвердительно. «Если мы можем доказать правильность нашего понимания какого-либо процесса природы тем, что сами его производим, создаем его из его условий и, кроме того, подчиняем его своим интересам, то непостижимой «вещи в себе» Канта приходит конец»137. Опытная наука познает, по мнению Энгельса, объективную истину.
Если так, то истинное научное познание должно быть совершенно независимым от классовых интересов, ибо в противном случае оно не было бы объективным, т. е. истинным познанием. Таким образом, даже с точки зрения творцов учения о классовой борьбе существует по крайней мере одна область, относительно которой господство классовых интересов прекращается, – область объективного научного познания. Классовые интересы очень могущественны, но все же они не могут, например, заставить Солнце вращаться вокруг Земли; а так как наши научные представления, с гносеологической точки зрения Энгельса, отражают действительность, то классовые интересы бессильны и по отношению к ним: объективный и независимый от классовой борьбы ход мирового процесса природы должен с роковой необходимостью вызывать независимые от классовых интересов представления и понятия в нашем сознании. Как бы мы ни были заинтересованы в отрицании геометрических аксиом, мы не в силах этого сделать, если бы и хотели. Никакие усилия воли не способны создать в нашем воображении треугольник, сумма углов которого была бы больше или меньше двух прямых.
Итак, как бы плоха ни была гносеология Энгельса, одно она, несомненно, показывает: невозможность прилагать классовую точку зрения к оценке истинности научного познания. Каждая теория познания, кроме абсолютного скептицизма, принуждена исходить из признания общеобязательности логических процессов мышления и таким образом признавать существование объективной истины, независимой от практических интересов жизни.
Для последовательного марксизма остается только один выход из этого положения – возвращение к тезису Протагора: «человек есть мера всех вещей». Но философский скептицизм несовместим с материалистической метафизикой марксистов, так как материализм исходит из признания возможности познания сущности вещей (усматривая таковую в материи). Таким образом, марксизм стоит перед дилеммой: отказаться от классовой точки зрения или от философского материализма. И в том, и в другом случае марксизм перестает быть самим собой.
Так же бессильна классовая точка зрения и по отношению к морали. Энгельс с этим, разумеется, не согласен. «Мораль Фейербаха, – замечает он, – такова же, как и все другие теории морали. Она должна быть обязательной для всех времен, всех народов, и потому никогда и нигде не имеет применения и остается по отношению к действительному миру так же беспомощна, как и категорический императив Канта. В действительности же каждый класс, даже каждая профессия имеет свою особую мораль и нарушает эту мораль, как только получает возможность сделать это без наказания, а любовь, которая должна все объединить, обнаруживается в войнах, раздорах, судебных процессах, семейных столкновениях, разводах и всевозможной эксплуатации людьми друг друга»138.
В этой тираде Энгельс утверждает две разные вещи: во-первых, что правила морали нарушаются в современном обществе и, во-вторых, что таких общеобязательных правил совсем не существует. Первое верно, второе же опровергается самим Энгельсом, замечающим, что каждый класс готов нарушить признаваемые им правила морали. Есть, следовательно, что нарушать. Если бы действительно люди каждого класса и каждой профессии имели свою особую мораль, то непонятно, почему бы эта мораль не могла настолько приспособиться к интересам данной социальной группы, что надобности нарушать мораль совсем бы не возникало.
Не подлежит сомнению, что нравы, обычаи, господствующие чувства и привычки различных классов глубоко различны; однако и богатые, и бедные признают, в общем, одно и то же морально дурным или хорошим – христианская мораль является уже многие сотни лет моральным идеалом для всего цивилизованного человечества. Этические суждения первобытных народов значительно отличаются от таковых же нашего времени. Но это так же мало доказывает отсутствие общеобязательных этических норм, как постоянная смена научных воззрений и теорий не доказывает необязательности логических законов мышления. Мнение Бокля, что моральные учения почти не испытывают перемен в истории, конечно, несправедливо, но оно меньше противоречит фактам, чем обратное утверждение Энгельса, что не только каждая эпоха, но даже каждая профессиональная группа людей имеет свою особую мораль.
У каждого общественного класса есть свои особые экономические интересы, в известной мере противоположные интересам других классов. Но нравственное сознание далеко не совпадает с сознанием классовых интересов. Сущность нравственного одобрения или порицания заключается в том, что известное действие признается хорошим или дурным ради него самого, не как средство к какой-либо иной цели. Таким образом возникает представление о нравственном долге. Классовые интересы могут до такой степени затемнять нравственное сознание, что человек начинает признавать их самих за этическую норму; но и в этом случае они приобретают нравственную санкцию не в качестве классовых интересов, а в качестве выражения нравственного долга. Формальный принцип долга стоит, следовательно, выше всех классовых различий, и в признании этого принципа, нравственного долга как такового, сходятся все люди с нравственным сознанием без различия классов и профессий. «Отдельные виды долга могут быть эмпирически обусловлены, но сознание долга вообще есть сознание a priori, т. е. оно не может быть обосновано эмпирическим путем и, наоборот, само обосновывает возможность различных видов долга, получающих свое эмпирическое содержание от эмпирических условий»139.
Понятие сознательной классовой морали заключает в себе внутреннее противоречие, так как сущность морали в том и заключается, что не своекорыстный интерес, а долг признается законом поведения. Теория господства классовых интересов так же неспособна объяснить основной этический факт сознания долга, как она бессильна объяснить общеобязательность законов мышления. В сущности, последовательное проведение классовой точки зрения равносильно упразднению как морали, так и объективной науки.
Но теория классовых интересов противоречит очевиднейшим образом и фактам эмпирического содержания нравственного сознания. Нравственные суждения различных народов действительно различны, но эти различия, несомненно, уменьшаются по мере прогресса общества. Чем выше ступень развития, тем более единообразия в моральных оценках. Существует определенное направление развития морали, и это убеждает нас в реальности единой общеобязательной морали, независимой от исторических условий, времени и места. Уже Демокрит сказал, что «кто несправедливо поступает, несчастнее того, кто испытывает несправедливость»140, а категорический императив Канта сформулирован почти теми же словами в Веданте141. Со времени Евангелия между цивилизованными народами не существует разногласия относительно того, что считать нравственно хорошим и дурным. 19 столетий всестороннего прогресса не дали в этом отношении ничего нового.
Этические нормы могут иметь весьма ограниченное значение в качестве побудительных мотивов человеческого поведения. Но как бы бессильны он ни были, все же их нельзя устранить из социальной действительности, и им нужно дать научное объяснение. А так как теория классовых интересов исполнить этого не может, то она принуждена отрицать самый факт существования внеклассовой морали. Но факты сильные всякой теории.
Столь же мало может быть объяснена классовыми интересами и религия, теснейшим образом связанная с моралью. Чувство благоговения, являющееся психологической основой религиозного настроения, не основано на практическом интересе и принадлежит к элементарным чувствам человеческого духа. Конечно, классовое строение общества оказывает влияние на господствующие в обществе религиозные верования, равно как и на его нравы. В этом марксизм совершенно прав; но сторонники учения о классовой борьбе заблуждаются относительно характера этого влияния, которое состоит не в замене морали и религии в человеческом сознании классовым интересом, а в зависимости конкретного содержания религии и морали от экономических условий жизни данных общественных групп. Так, например, тот факт, что христианская религия была прежде всего воспринята беднейшими классами римского общества, несомненно, объясняется экономическим положением этих классов. Можно согласиться с Ницше, что христианство было «восстанием рабов в области морали». Но Ницше идет гораздо дальше и утверждает, что не любовь к людям, а классовая вражда бедных к богатым явилась основой первоначального христианства142. В этом Ницше, безусловно, не прав, так как, хотя угнетенные и страдающие, естественно, были более склонны к принятию новой религии любви, чем их угнетатели, это не значит, чтобы новая религия явилась для них средством классовой борьбы. Никакой классовый интерес не был совместим с тем высоким религиозным воодушевлением, которое побуждало первых христиан презирать не только все личные выгоды, но и самую смерть.
Еще меньше применима классовая точка зрения к оценке явлений искусства. Эстетические суждения людей находятся в сильной зависимости от условий жизни этих людей, а следовательно, и от принадлежности их к тому или иному общественному классу. В известном смысле можно сказать, что каждый класс имеет свое искусство. Богатые и образованные классы находят нередко безвкусным то, что нравится более бедным и невежественным. Но хотя вкусы и различны, все же область эстетики подчиняется своим законам, не имеющим ничего общего с классовыми интересами. Как превосходно разъяснил Кант, сущность прекрасного в том, между прочим, и заключается, что предмет, признаваемый нами прекрасным, признается нами таковым не только для нас, но и для всех без различия. В этом различие прекрасного от просто приятного. Поэтому можно спорить о том, прекрасно данное произведение искусства или нет, но нельзя спорить, нравится оно нам или нет. Утверждая существование особой эстетической способности «вкуса», которой отдельные люди одарены далеко не в одинаковой степени, мы утверждаем общеобязательность эстетических суждений подобно общеобязательности этических и логических суждений. Эмпирическим доказательством неизменности законов изящного является то, что произведения древнего искусства, например, античные статуи, несмотря на прошедшие тысячелетия и колоссальные социальные перемены, продолжают вызывать наше восхищение143.
Таким образом, учение о господстве классовых интересов совершенно бессильно объяснить истинную сущность морали, религии, искусства и науки, ибо классовый интерес не составляет критерия добра, истины и красоты. Человеческая история есть нечто несравненно более высокое, чем простая борьба общественных групп за средства к жизни.
III
Есть два рода социальных движений. Одни носят резко классовый характер, в других классовый характер выражен слабо. В новейшей социальной истории движения первого рода играют большую роль, чем вторые; но из этого не следует, чтобы последние можно было совсем игнорировать. Примером движений этого последнего рода может служить новейшее кооперативное движение, которое рядом с политическим движением социал-демократии и тред-юнионизмом образует третью мощную ветвь современного рабочего движения.
Два последних движения носят резкий классовый отпечаток и входят в состав великой классовой борьбы Нового времени: иной характер имеет кооперативное движение, которое является грандиозным опытом если не мирного решения социального вопроса, то, по крайней мере, мирного содействия этому решению. Современный социализм есть, в общем, классовое движение, но все же не без существенных ограничений. Великие утописты – Оуэн, Сен-Симон, Фурье – не призывали к борьбе классов и были глубоко убеждены, что коренное преобразование капиталистического строя совершится не путем ожесточенной борьбы, а солидарной и мирной работы всех классов общества. Фурье всю жизнь прождал мифического капиталиста, который должен был принести ему миллион для устройства первого фаланстера; Оуэн был сам миллионером и делал неудачные опыты создать ассоциацию будущего посреди мрачного капиталистического мира настоящего; сенсимонисты были проникнуты теми же стремлениями и надеждами. Все это могло быть крайне утопично, но факт остается фактом, что эти утописты были основателями учения современного социализма, выросшего, следовательно, не из классовых интересов порабощенных народных масс, но из чуждого личной заинтересованности стремления немногих благородных людей создать лучший общественный строй. Историческая мощь нового социального идеала основывается не только на его соответствии классовым интересам рабочих, но и на его соответствии моральным идеям нашего времени, признавшего равноценность каждой человеческой личности.


