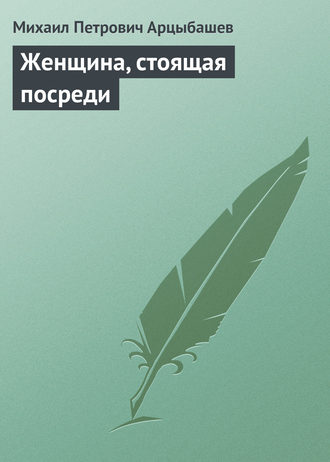
Михаил Петрович Арцыбашев
Женщина, стоящая посреди
Тут книжники и фарисеи привели
к Нему женщину, взятую в
прелюбодеянии.
…………
Они же, услышавши то, и будучи
уличаемы совестью, стали уходить
один за другим, начиная от старших
до последних, и остался один Иисус и
женщина, стоящая посреди.
Иисус, восклонившись и не видя
никого, кроме женщины, сказал ей:
Женщина! где твои обвинители?
Иоанн VIII
I
Ночь была лунная, светлая. На горе трава казалась белой, а деревья серебряными и курчавыми от росы. За крутым обрывом, далеко внизу, освещенные луною, стояли седые туманы в лугах. В черном небе висели крупные горящие звезды. От невидимой реки тянуло сыростью и болотными травами. Лягушки неумолчно, на тысячу голосов, кричали в болотах, и казалось, что все они там сошли с ума от радости.
Нина подошла к самому краю обрыва и перегнулась над ним, высоко подобрав платье. В лунном свете, окруженная звездным пространством, девушка казалась легкой, как птица перед полетом.
– Ух, как высоко! – сказала она, засмеялась и пугливо отошла подальше от предательской бездны, круто уходящей вниз среди повисших кустов.
Луганович посмотрел на ее бледное от луны лицо, с чересчур большими, точно нарисованными, глазами, и досадливо пожал плечами.
– Вы еще совсем ребенок, Нина! С вами нельзя говорить серьезно! – сказал он, и по голосу было слышно, что он злится той особенной нервной злостью, которую вызывает неудовлетворенное желание.
Нина чутко уловила сердитую нотку, сделала серьезное лицо и смиренно уселась рядом на широкий пень давно срубленного старого дерева.
– Прежде тут был большой дубовый лес… Сколько было птиц, цветов, если бы вы знали!.. Его мужики вырубили, и в прошлом году одни кусты оставались, а теперь уже опять целые деревья… Как быстро растет все!.. – проговорила девушка, засунув руки в кармашки своей светлой кофточки и глядя кругом такими глазами, точно для нее и невесть какая радость была в том, что все так быстро растет.
Луганович с досадой отшвырнул папиросу. Красный огонек описал в воздухе блестящую дугу, ударился об ветки куста и, рассыпавшись золотыми искорками, тихо погас за обрывом.
Нина робко оглянулась.
– Вы на меня сердитесь?.. – тихо спросила она.
Голосок ее прозвучал так по-детски чисто, что студенту стало стыдно. Он начал придумывать, что бы такое хорошее, нежное сказать ей, но ничего не придумал. Назойливо и мучительно было в нем одно желание, сводившее его с ума. Уже давно Луганович не мог ни о чем другом говорить с нею. Немеркнущее представление о ее теле, таком близком и недоступном, неотвязно стояло у него в мозгу, и порою он готов был силой взять девушку. Это было невыносимо, и временами Луганович просто ненавидел Нину. Каждое ее слово раздражало его.
Лягушки, не умолкая, звенели на реке, как будто наперебой спешили рассказать всему свету о чем-то чрезвычайно важном, случившемся этой светлой теплой ночью.
– И когда они спят?.. – как бы про себя, задумчиво прошептала Нина, и глаза у нее стали грустными.
– А черт их знает!.. – внезапно сорвался Луганович, который как раз собрался с духом заговорить о том, что его мучило.
Прерванный на полуслове, он с досадой выдернул молодой побег, проросший из старого пня, злобно скрутил его и бросил.
Нина опять удивленно и даже испуганно оглянулась на него. При луне ее глаза странно и загадочно блестели. Ей было не столько обидно, сколько непонятно: бессознательно девушка чувствовала причину его раздражения, но душа ее оставалась чуждой этому темному чувству.
Луганович смотрел в сторону и судорожно потирал пальцы.
С минуту Нина неподвижно искоса наблюдала за ним, потом что-то нежно-лукавое мелькнуло у нее в глазах.
– Ну, не сердитесь!.. – сказала она и дотронулась до его локтя своими тонкими осторожными пальцами.
– Не могу я не сердиться!.. – хрипло, еле сдерживая безумное раздражение, возразил Луганович.
– Но чего же вы хотите от меня?.. – спросила Нина, и тоска прозвучала в ее голосе. – Ну, хорошо… я…
Она хотела сказать, что согласна на все, и на одно мгновение ей показалось, что это действительно так просто и легко. Ему это нужно, ну и пусть делает с нею, что хочет!.. Но сейчас же все существо ее содрогнулось от стыда и отвращения, сердце упало и голос сорвался.
Луганович быстро оглянулся. Мимо, прямо на луну, широко открытые и печальные, с покорной тоской смотрели большие темные глаза. Нина молчала и не мигая глядела на круглый светлый диск, стоявший посреди озаренного неба.
Лягушки звенели, как зачарованные. Луна, большая и холодная, торчала прямо над соседней горой, и длинные полосы света тянулись от нее вниз, в чащу оврага. Туманы на лугах ткались колдовски и призрачно. Внизу, в глубокой балке, настойчиво пищала какая-то злая ночная птица, должно быть, маленькая совка.
Не дождавшись последнего слова, в ожидании которого замерло все тело и пересохло во рту, Луганович тяжко вздохнул и закурил новую папиросу. Ощущение тягостного бессилия и даже уныние какое-то охватили его.
Вдруг послышался дрожащий от сдержанных слез голос:
– Я знаю!.. – проговорила Нина.
– Что?.. – вздрогнув, как пойманный, спросил Луганович.
Но девушка опять не договорила и по-прежнему смотрела мимо него, на луну. Лугановичу показалось, что глаза ее полны слез.
– Что вы знаете?.. – переспросил он, испугавшись, что девушка опять замолчит.
– Чего вы хотите… – упавшим голосом, неподвижно глядя перед собою, но вряд ли видя даже эту светлую луну, докончила Нина.
– Знаете?..
– Знаю… – повторила девушка без всякого выражения, словно неживая.
– А если знаете, так зачем же мучаете и себя и меня?
– Чем я вас мучаю?.. – еще тише, с непонятным укором, спросила Нина.
И как будто все – и луна, и звенящие голоса ночи, и белые деревья – все отступило, исчезло куда-то. Остались только два голоса: один робкий, печальный, как у страдающего ребенка, другой – жестокий, неверный и требовательный.
– Чем?.. Вы прекрасно знаете… Я больше не могу так, Нина. Вы еще ребенок, вы и не жили вовсе, а я уже не мальчик, я не могу удовлетворяться поэтическими разговорами и прогулками при лунном свете!
– Почему же прежде вы не говорили этого…
– Прежде я еще не любил вас так!
– Вы меня и теперь не любите!.. – утвердительно и печально возразила девушка.
Для нее это действительно было так: разве недостаточно радости и счастья в том, что они вместе, что луна светит так ярко, ночь так светла и тиха, сколько есть такого, о чем хочется рассказать только друг другу?.. А то грубое, грязное, пошлое, зачем?.. Разве любовь в этом?.. Конечно, для него она готова на все, но как это опоганит их светлое чувство, как будет стыдно и гадко потом!.. Теперь весь день проходит в ожидании встречи, а тогда нельзя будет думать о нем, потому что эта мысль соединится с грязным воспоминанием и вызовет только стыд и отвращение к самой себе. Это не любовь!..
– Не любите!.. – повторила девушка и вся сжалась от внутреннего холода.
Луганович даже зубами скрипнул.
– Любите, не любите!.. Не понимаю, что же тогда значит любовь?.. Нет, я люблю, но я не умею любить наполовину!.. Да и почем я знаю, любовь это или не любовь… Я знаю только, что когда вижу вас, вижу ваше тело…
Нина чуть вздрогнула, и Луганович невольно запнулся, но овладел собою и продолжал упрямо, с нарочитой грубостью:
– Ну, да… тело!.. Отчего вы так боитесь этого слова?.. Ведь вы же умная, развитая девушка, а не кисейная барышня, которая думает, что любить это значит фиалки на лугах собирать!.. Удивительное дело: почему вы все так смелы на словах, а сами пугаетесь малейшего намека на себя как на женщину?.. Не понимаю, что это – трусость или игра какая-то?.. Надо смотреть на вещи проще, смелее!.. Жизнь есть жизнь, и мы не можем ее изменить!.. И чего вы так боитесь?.. Ведь вы же любите меня?.. Да?.. Так чего же вам нужно? Законного брака, что ли!..
– Зачем вы это говорите?.. Ведь вы же знаете, что это неправда!.. – зазвеневшим от обиды голосом проговорила Нина.
– Выходит, что правда!.. – окончательно не владея собою, возразил Луганович даже с некоторым злорадством. – А иначе, что же вам мешает быть счастливой?
– Разве счастье только в этом?.. – бледно и невыразительно сказала девушка.
– Счастье в том, чтобы жить полной жизнью, без преград и запретов!.. – твердо выговорил Луганович, и в эту минуту ему искренно казалось, что все возможное на земле счастье заключается в том, чтобы она отдалась ему тут же, сейчас, ни минуты не медля. Главное – сейчас же. Он помолчал и прибавил вкрадчиво: – И ведь это же неизбежно, Нина!.. Вы женщина…
– Только женщина?.. – переспросила Нина.
Именно потому, что в это мгновение она и была для него только женщиной в самом узком смысле этого слова, Луганович обозлился.
– Ах, оставьте вы это!.. Ну, и человек!.. Что ж из этого? Разве это мешает быть женщиной?.. Как будто женщина, ставши женщиной, будет менее человеком… Этим вы больше оскорбляете женщину, чем можно оскорблять ее самыми грубыми желаниями!.. Любите как женщина, мыслите и работайте как человек!.. Не бойтесь вы этих громких слов!..
Луганович воодушевился, но тут же почувствовал, что как раз и выходит слишком много громких слов. И чем их больше, тем он дальше от цели. Студент даже удивился: как будто и слова те самые, какие необходимы в данном случае, а между тем чем больше он говорит, тем холоднее в душе, тем слабее ощущение в себе мужчины, в ней – женщины. Он даже увидел, что Нина, несмотря на грубую обнаженность этих слов, мало-помалу успокаивается и начинает слушать с тем детским интересом, с каким слушала всякие умные разговоры. Девушка как будто чувствовала, что, пока он говорит такие страшные и серьезные вещи, он не может коснуться ее. Луганович круто оборвал свою речь и стал просить униженно и страстно:
– Ниночка, не мучьте меня!.. Будьте моею!.. Ведь вы же любите меня?.. Ниночка!..
И сейчас же вновь выросла таинственная тяга их тел, зажигая кровь, туманя ненужное сознание. Луганович тихо обвил рукою ее мягкое гибкое тело и потянул к себе, заглядывая в глаза и губами отыскивая ее губы.
Нина не сопротивлялась, как будто ослабев, и вся стала какая-то мягкая, гибкая. Глаза ее закрылись, щеки потемнели, от губ повеяло сухим жаром. Они были горячи и влажны, а дыхание как вино. У Лугановича все поплыло в голове. Он уже ничего не соображал.
Луна закружилась, подпрыгнула, на мгновение исчезла с неба и вдруг стала на самом краю обрыва, большая, светлая, с белым, что-то говорящим лицом. Лягушки замолкли. Все сдвинулось и замерло кругом. Стало душно и жарко. Руки сами собою скользили по краю платья, по жестковатой ткани тонкого обтянутого чулка. Оглушительной трелью залились лягушки, точно все разом перессорились между собою. Холодными призраками отошли и стали вдали белые от росы деревья.
Что-то произошло, чего Луганович даже не понял. Луна отскочила и повисла в небе, далекая и равнодушная.
Луганович сидел на траве оглушенный. В ушах у него звенело, руки и ноги дрожали, во всем теле была бесконечная слабость. Он все еще тянулся к Нине, но девушка стояла уже в двух шагах, закрыв лицо руками и повернувшись к нему спиной.
Злоба обманутого порыва охватила Лугановича до помрачения. Ему было бешено стыдно, и казалось, что ничего на свете не может быть комичнее его позы, с протянутыми руками, на коленях, с бессмысленным лицом. Он почувствовал, что из уголка рта вытекала на подбородок струйка горячей слюны, и кто знает, если бы Нина увидела это, возможно, что Луганович убежал бы и застрелился за первым кустом.
Но Нина стояла, закрыв лицо руками, полумертвая от стыда и страха, что обидела его.
Луганович опомнился.
– Так, – сквозь зубы проговорил он, – прекрасно… Ну, как вам угодно!.. Очевидно, мы не понимаем друг друга!.. Ну и хорошо!.. Желаю вам счастья в законном браке!..
Студент встал, неловко отряхивая пыль и листья с колен и чувствуя, что говорит совсем не то, что хочет.
Нина отвела руки от лица и взглянула на него с удивлением.
– Н-да, – холодно и бессмысленно, страдая сам и в то же время наслаждаясь мстительной грубостью своих слов, продолжал Луганович, – мы с вами, Нина Сергеевна, разные люди!.. Я не признаю половины ни в чем!.. Вздыхать и мечтать я не хочу и не умею!.. Слуга покорный! Это может делать ваш Коля Вязовкин, но не я!..
«И при чем тут Коля?.; Как это пошло и глупо!» – мелькало у него в голове, но он уже не мог остановиться.
– Ведь это же ваш нежный рыцарь?.. Вот вам достойный жених!.. Уж он-то, конечно, до свадьбы не посмеет руки вашей поцеловать!.. Правда, немножко на барана смахивает, но зато чувствовать… о!
Нина смотрела на него во все глаза, точно не узнавая.
– Что вы так на меня смотрите?.. Разве не правда, что он на барана похож?..
Луганович ломался, был жалок и смешон, и сам отлично сознавал это.
– Мне пора… идемте, – вдруг быстро, видимо страдая за него, проговорила Нина.
– О, пожалуйста!.. Прикажете проводить вас?.. – насмешливо, но с полным отчаянием в душе подхватил Луганович.
Нина, не отвечая, быстро пошла прочь. Луганович, неизвестно для кого делая презрительную улыбку, последовал за нею. На душе у него было совсем скверно. Он презирал себя, ненавидел Нину, готов был заплакать и сразу обнаружить, что еще очень и очень молод.
– Итак, мы расстаемся?.. Жаль!.. Если бы вы не были так трусливы!..
Нина молча и поспешно шла по тропинке между высокими редкими деревьями. Обрыв остался далеко позади, луна стала меньше и бледнее, все тише доносилось неумолчное кваканье лягушек. Скоро уже казалось, что только какая-то бесконечная трель, замирая, звенит в воздухе.
Луганович наконец замолчал и шел вне себя, сжимая кулаки. Он то усмехался, то пытался беспечно насвистывать, то окидывал Нину, идущую впереди, циничными взглядами, но неизменно чувствовал, что все, что бы он теперь ни сделал, фатально обращается в мальчишество и глупость.
У калитки своей дачи Нина остановилась.
Здесь начинался сплошной сосновый бор, который жуткой стеной стоял за белыми домиками дач. Луна светила прямо на него, и передние стволы сосен белели, как колонны, а за ними был черный глубокий мрак. На соседней даче лаяла собака.
– Ну вот вы и дома!.. – сказал Луганович каким-то дурацким тоном.
Он развязно приподнял фуражку и поклонился. Нина протянула маленькую белую руку, на которой синеватым огоньком вспыхнул при луне узенький ободок колечка. Но рука осталась в воздухе. Девушка с тоскливым недоумением и мольбой о прощении взглянула в лицо Лугановичу, и губы ее страдальчески дрогнули. Она не могла понять, что произошло между ними.
Луганович видел, что она страдает, и сам готов был удариться головой о ближайшую сосну, но в то же время ощущал и жгучую сладость мести.
«Ага, – мысленно говорил он, – сама виновата!..»
Рука Нины медленно опустилась и повисла. Она, видимо, что-то хотела сказать и не могла. Студент стоял, небрежно пощелкивая хлыстом по сапогам и беззаботно оглядываясь кругом.
– Зачем… зачем так грубо?.. – вырвалось у девушки.
– Что – грубо?.. – с великолепным удивлением переспросил Луганович, высоко подымая брови.
Но Нина быстро повернулась и торопливо пошла к дому.
Светлая кофточка замелькала между молодыми сосенками, которыми была обсажена дачная аллейка, исчезла за ними, еще раз ярким пятном вспыхнула на темном крыльце и пропала совсем.
Луганович долго стоял на месте, весь с головы до ног облитый лунным светом, и не знал, что теперь делать. Все вышло так неожиданно и глупо, он вел себя как мальчишка. Ему было жаль Нину и хотелось просить у нее прощения, но снова вспыхнуло в мозгу представление о ее недоступном теле и новый приступ животной злобы охватил его.
– Хорошо же!..
С размаху студент треснул хлыстом по сосне, сломал ее и, крупно шагая, пошел прочь.
II
Жара была невыносимая. По стволам сосен крупными каплями стекала смола, и липкий запах ее густо и душно стоял в воздухе. Сухостью и жаром веяло от прошлогодней хвои, толстым пыльным слоем лежавшей на земле, среди тонких острых иголок жесткой лесной травы. Вверху, над соснами, таяло белесое небо. По насыпи гудя проехала пустая дачная конка, и мул, везший ее, бежал так, точно ежеминутно был готов свалиться под дерево, протянув все четыре ноги. Его длинные уши беспомощно висели над унылой мордой.
Нина лежала в гамаке, подвешенном меж двух сосен, и, заложив руки под голову, смотрела вверх, туда, где верхушки замерли в высоте, каждой иголочкой отчетливо вырисовываясь в густой синеве.
Какие-то липкие жучки всползали на шею и руки, горячие солнечные пятна тихо двигались по всему телу, от раскрасневшегося влажного лица до маленьких туфелек, высунувшихся из-под легкой юбки.
Нина смотрела не отрываясь, но видела не сосны и небо, а свои мысли. Мысли же были только о Лугановиче, которого она не встречала после той ссоры. Она ясно представляла себе его красивое тонкое лицо, высокую гибкую фигуру и большие белые руки, которые возбуждали в ней волнующее представление о мужской силе и нравились Нине больше всего. Девушка не отдавала себе отчета в этом, но всегда ей хотелось смотреть на эти руки и тихонько дотрагиваться до них.
Возле гамака, прямо на земле, поджав одну ногу и опершись рукой на горячие жесткие иголки, сидел студент Коля Вязовкин. У него было круглое, как-то все книзу, действительно баранье лицо, с выпуклым лбом и глупыми влюбленными глазами. Сидеть ему было жарко и неудобно, и он жестоко страдал от любви.
Боже, какой прелестной казалась ему Нина, висящая в тонкой сетке гамака, сквозь которую ему были видны все линии ее молодого тела и нежный профиль, золотившийся мягким солнечным загаром.
Коля Вязовкин сильно потел в своей черной кургузой тужурке с инженерными наплечниками и терзался невыносимо, но ничего путного о своей любви сказать не мог. Во-первых, он страшно боялся Нины, а во-вторых, не выговаривал буквы «л». Вместо «люблю» у него вышло бы «вубью», и это лишало его последней энергии. Но все-таки он изо всех сил старался занять девушку и говорил почти не умолкая:
– Я так понимаю, Нина Сергеевна, что вубовь довжна быть повная. Есви бы я повубив, я бы всю жизнь отдав бы!.. Потому что иначе – подвость, и бойше ничего!.. Вубовь это такое чувство, которое на всю жизнь… Я не понимаю так называемой свободной вубви. По-моему, это просто разврат, и бойше ничего. И всегда это обман!..
– Почему – обман?.. – спросила Нина и тоскливо переложила голову на руках, которые резала узловатая тонкая бечевка гамака.
– Конечно, обман. Всегда это обман, Нина Сергеевна!.. Это тойко красивые фразы, а на самом деве одна подвость!.. Просто та сторона, которая товкуется о страсти без всяких обязатейств, не чувствует никакой вубви, а потому и говорит, что ее вовсе не нужно!.. И никогда из этого ничего, кроме гадости, не выходит. Одна подвость и грязь. А вы как смотрите на вубовь, Нина Сергеевна?..
Нина закрыла глаза и задышала неровно и быстро.
– Я тоже, Коля, думаю, что о свободе страсти говорят только тогда, когда никакой страсти и нет… Кто любит, тот ни о чем не говорит и ни в чем не уславливается!.. – тихо, со странным выражением, точно желая убедить самое себя, сказала Нина.
Легкая краска проступила сквозь прозрачный янтарный загар ее щек.
– Вот, вот… – радостно заблеял Коля Вязовкин. Девушка открыла полные тоски глаза и продолжала, немного задыхаясь:
– Я могла бы… принадлежать человеку только тогда, когда знала бы, что для него это так же важно и громадно, как и для меня… Это должно быть такое чувство, чтобы совсем раствориться в нем, чтобы жить одной жизнью… Если бы я была уверена в таком чувстве, я бы ни на минуту не задумалась бы… Я бы ни перед чем не остановилась!.. Неужели кто-нибудь может думать, что для меня важно выйти замуж?.. Это глупо и оскорбительно, Коля!.. – не ему, бедному, потеющему от жары и любви, а кому-то другому бросила Нина. Губы у нее задрожали, а на нежных до прозрачности щеках выступили зловещие пятна. – Не могу же я… ну, быть близкой… человеку, которому нужно только мое… тело… – краснея до слез и неподвижно глядя вверх перед собою, продолжала девушка. – Это грубо и гадко!.. Я понимаю, что когда два человека любят друг друга, то у них даже тело становится общим… Тогда это понятно и не… гадко… А так!.. Да неужели же это так важно, Коля?.. Вот вы мужчина, скажите?..
Такая тоска и такое недоумение прозвучали в этом неожиданном вопросе, что бедный мужчина засопел и его крутое лицо стало смущенным, возмущенным и окончательно глупым. Он понял, что Нина с кем-то спорит, догадался, что кто-то предлагал ей отдаться, и ревность жгучим пламенем разлилась под его узкой тужуркой.
– Есть люди, для которых это – самое важное, Нина Сергеевна… Но я их не уважаю, Нина Сергеевна!.. – важно ответил он.
– Ах, все вы такие, должно быть!.. – с неожиданным раздражением возразила девушка и задумалась.
Коля Вязовкин, уязвленный в самое сердце, сидел на горячей хвое и глупо, исподлобья смотрел на нее. Ему было жарко и обидно.
А Нина лежала в гамаке, смотрела, как тихо покачиваются верхушки сосен, и думала о том, что, должно быть, она не такая, как все другие девушки. Почему другие выходят замуж, живут с мужчинами и совершенно спокойны, веселы и счастливы, а у нее при одной мысли об этом содрогается стыдом и отвращением все тело?.. В груди у нее такое восторженное, светлое, полное радости и нежности чувство, и готова она на какую угодно самую беззаветную жертву, а между тем без ужаса не может даже подумать об «этом»…
А как они могли бы быть счастливы!.. Нине грезилась какая-то необыкновенная жизнь: всегда и во всем вместе, все друг для друга, общие мысли и чувства!.. Девушка ощущала, как растут в сердце тоска и нежность, и слезы подступали у нее к глазам.
Коля Вязовкин смотрел на нее и готов был немедленно положить живот свой тут же, на горячей хвое, чтобы только оградить ее от всего дурного, темного и грязного. Рыцарем гордым и великодушным чувствовал он себя, но лицо у него по-прежнему было глупое.







