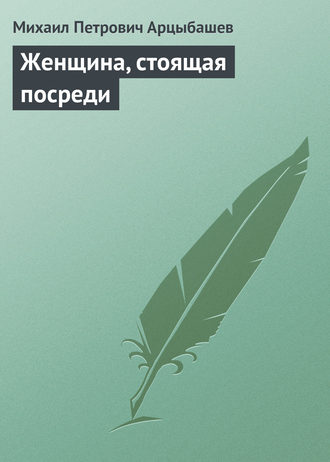
Михаил Петрович Арцыбашев
Женщина, стоящая посреди
VI
Должно быть, где-то за лесом уже светало, потому что стволы сосен явственно выступили из мрака и промежутки между ними посерели.
На стенах дачи лежал синеватый свет. На дворе побелела трава, и откуда-то потянуло резким ветерком. Звезды как будто углубились в синеву побледневшего неба.
Луганович стоял перед калиткой и чутко прислушивался. Глаза у него вдруг стали зорки, слух тонок, движения быстры и ловки.
Он все еще не верил тому, что хотел сделать. Было страшно и стыдно, и казалось, что это совершенно невозможно. А вдруг она вовсе и не думала ничего подобного, и выйдет глупо и скверно?..
Но темное желание было уже сильнее голоса рассудка. Нина вдруг вылетела у него из головы, и навязчивое невыносимое представление о большом мягком теле и черных бесстыдных глазах одно стояло перед ним.
Чувствуя, как сладко ноет и слабеет у него под коленками, Луганович отворил калитку, на цыпочках пробежал весь двор и, как вор, юркнул за угол дома. Ему казалось, что со всех сторон видят и следят за ним. Сердце безумно колотилось.
По эту сторону дачи был садик, окруженный молодой фруктовой посадкой. За обвитым хмелем плетнем шли какие-то пустыри и огороды, а еще дальше виднелась холодная белая полоса утреннего тумана над рекой. Было как-то особенно пусто и светло.
На стене странно и неожиданно чернело открытое окно.
– Я всегда сплю с открытым окном!.. – вспомнил Луганович лукавый женский голос, в котором звучал откровенный и циничный намек.
Голова у него закружилась. Луганович подкрался к самому окну и прислушался. В комнате было тихо и темно, но студенту послышалось мерное дыхание. Может быть, это просто шумело у него в ушах.
– Раиса Владимировна!.. – прерывающимся шепотом проговорил он.
Никто не ответил, только какая-то птица шелохнулась на верхушке дерева.
– Раиса Владимировна!.. – громче повторил Луганович и облизал вдруг пересохшие губы. Что-то шевельнулось в комнате и затихло.
– Раиса Владимировна!.. – в третий раз позвал студент почти громко. Он уже не владел собою и был готов на все.
Шорох послышался сильнее, и сонный женский шепот что-то спросил из темноты. Луганович почувствовал, что от слабости у него подгибаются ноги. Он уже не видел ничего, кроме черного четырехугольника окна.
И вдруг мрак в окне заколебался: что-то белое выплыло в нем, и из темноты выступило красивое, странно бледное при неверном свете утра женское лицо с черными глазами и черными распущенными волосами.
Она с испугом смотрела на Лугановича, и студент ответил ей кривой нелепой улыбкой.
– Кто это?.. – спросила Раиса Владимировна тревожно и вдруг узнала его.
Мгновенно выражение глаз изменилось, и что-то порочное, насмешливое и обрадованное мелькнуло в них.
– Сумасшедший!.. – шепнула она. – Откуда вы?..
Он хотел ответить и не мог. Раиса Владимировна пытливо посмотрела на него, быстро оглянулась кругом и протянула руку.
Рука была совсем обнажена и слабо розовела в синеньком свете утра. Луганович схватил ее и жадно пополз губами по теплой бархатистой коже, туда, где у сгиба локтя неуловимо нежно голубела мягкая ямочка.
– Сумасшедший!.. – как бы в раздумье повторила она и опять оглянулась.
Студент с кривой, преступной улыбкой тянул ее руку к себе и не знал, что делать дальше. От этого движения свалилось что-то белое и обнажилось круглое голое плечо, по которому стекали черные спутанные волосы. Ей было неловко стоять так, и она невольно потянула руку к себе, но Луганович не пускал и все смотрел ей прямо в глаза с той же кривой, нелепой, умоляющей улыбкой.
– Пустите же!.. – прошептала она. – Увидят!..
Но студент вскочил на карниз и резко и грубо дернул ее к себе. Женщина пошатнулась и всем своим мягким и горячим телом прислонилась к нему. Он жадно искал губами, увидел близко черные, как-то странно внимательно смотревшие глаза, почувствовал упругую тяжесть ее груди и изо всех сил сжал ее в объятиях, внезапно озверев до потери сознания.
Раиса вырвалась, с пьяными глазами и странно улыбающимся ртом.
– Идите сюда… – прошептала она чуть слышно и, не выпуская его руки, отступила куда-то назад, в темноту.
Луганович неловко, помогая себе одной рукой, перевалился через подоконник и опустился в какую-то душную темную бездну, ничего не видя и не зная, где он.
Голые горячие руки нашли его и уверенно повлекли куда-то.
VII
Было уже совсем светло, и в деревне бабы шли на базар, когда Луганович быстро шагал домой. Солнце стояло еще низко, и его ослепительно яркие косые лучи резко чеканили каждую кочку на дороге. Зелень была свежа и чиста, небо прозрачно, и перистые облачка высоко кудрявились над землей. Мычали коровы; с топотом, не подымая пыли на сбросившейся за ночь мягкой дороге, проскакал табун из ночного. Из труб подымался легкий сизый дымок и розовел на солнце. Слышались бодрые громкие голоса, скрип ворот и радостное оглушительное чириканье воробьев, возбужденных ярким солнцем и свежим утром.
Только дачи смотрели по-прежнему темными слепыми окнами и около них было пусто и тихо.
Луганович шел, чувствуя себя молодым, сильным и гордым, как победитель.
Он совсем не думал, что Раиса Владимировна отдавалась многим, и, блестя глазами, повторял про себя: «Четвертая!.. Четвертая!..»
Первою была горничная Оля, второй – модистка Катя, третьего Луганович, с натяжкой, считал Нину, и Раиса Владимировна была его четвертой победой, наполнившей его мужской гордостью. Он чувствовал себя настоящим мужчиной.
Перед глазами у него все еще стояла смятая постель, черные спутанные волосы, обнаженное роскошное тело, и в каждом мускуле своем он чувствовал силу и сладкую истому.
Только немного было стыдно, когда бабы провожали его глазами, и казалось, что они все догадываются, откуда он идет.
Дома, на даче, все еще спали, но дверь на балкон была открыта и ступеньки крыльца мокры и блестящи. Прислуга, высоко подоткнув юбку и согнувшись, мыла пол и встретила его равнодушно-удивленным взглядом. Луганович поскорее прошел мимо нее и затворил дверь в свою комнату.
Здесь было совсем светло, несмотря на закрытые ставни. Сквозь все щели неудержимо проникал яркий солнечный свет, и косые пыльные полосы, переливаясь и играя, тянулись через всю комнату. Воздух застоялся за ночь, и было душно.
Луганович поспешно разделся и лег, хотя было как-то странно ложиться спать, когда кругом так светло. Но когда он вытянул ноющие от усталости ноги по свежей холодноватой простыне, все тело его охватило такое сладостное и удовлетворенное чувство покоя, что Луганович даже засмеялся от радости.
«А хорошая штука жизнь!..» – подумал он.
И это чувство полного физического удовлетворения было так сильно, что когда студент вспомнил Нину и впервые понял, что он ей изменил, это уже не могло побороть восторга молодого, здорового и сильного тела.
«Ну, что же… сама виновата!.. – опять подумал он, успокаивая что-то странно уколовшее сердце. И маленькая, юркая и хитренькая мысль мелькнула в голове: – Да она не узнает!..»
И, засыпая мгновенным здоровым сном, Луганович спутал и Нину, и Раису, и еще много таких же молодых, прекрасных женщин в одно ощущение бесконечной радости жизни.
VIII
Нина и Коля Вязовкин шли вдвоем по лесу. Кругом все было насквозь пронизано солнцем и жаром. Под ногами скользили сухие иголки старой хвои и трещали полусгнившие шишки. Коля Вязовкин вспотел так, что пот прямо лил с него. Нина тоже раскраснелась. На груди и спине ее, когда от движения раздвигался широкий вырез легкой кофточки, показывался милый треугольник темного загара на нежной бело-розовой коже. Вся она дышала молодостью, здоровьем и свежестью, и казалось, что ей не может быть так жарко и потно, как всем другим людям.
В лесу свистели и верещали птицы. Какие-то, насквозь пронизанные солнцем, золотистые мухи пулями мелькали от дерева к дереву. На ярких лужайках взлетали и падали пестрые бабочки. Суетливо ползли куда-то муравьи, копошились жучки и козявки. Лето было в разгаре, могучее, хлопотливое, полное мириадами жизней.
– Вот жара, Коля!.. – засмеялась Нина, как крыльями, помахав в воздухе приподнятыми руками. – Боже мой, какая жара!..
– Да, тепво!.. – отвечал Коля, снимая фуражку и в изнеможении вытирая мокрый лоб.
– Даже все дачники попрятались. Одни мы с вами такие храбрые!.. А мне нравится. Я люблю, когда жарко!
Коля не отвечал, он совсем разварился.
– А, вон кто-то сидит!.. – заметила Нина.
В стороне от тех мест, где обыкновенно гуляли дачники, что-то зачернелось.
Нина и Коля шли мимо этого места, невольно поглядывая туда.
Там висел большой нарядный гамак с кистями. В гамаке лежала женщина, а у ног ее, прямо на земле, сидел мужчина. Они были близко друг к другу. Мужчина, в студенческой фуражке, что-то говорил. Из гамака смотрели на него черные глаза и улыбались спокойные яркие губы.
Нина сразу узнала их, но как-то даже и не поняла сначала, что это может значить и отчего вдруг так стукнуло сердце.
– Это Луганович, – сказал Коля.
Нина вдруг побледнела и быстро пошла вперед, углубляясь в лес.
– Нина Сергеевна, куда же вы?.. Подождите!.. – закричал сразу отставший Коля Вязовкин.
Нина скорее почувствовала, чем увидела, как на крик Коли Луганович быстро оглянулся.
Раиса Владимировна проводила ее глазами.
– Это, кажется, ваша пассия?.. – насмешливо спросила она.
Даже не глядя, опытным женским чутьем она поняла, что происходит в душе Лугановича, и усмехнулась.
– Попался, миленький!.. – каким-то дурашливым, нехорошим тоном сказала она. – Так вам и надо!..
– Почему – попался?.. Вот глупости!.. – по-мальчишески пробормотал Луганович, не смея взглянуть на нее и чувствуя, что глупо краснеет.
– Да, да, да!.. – грозя пальцем, смеялась Раиса. – Знаем мы все!
Луганович думал, что она ревнует, и испугался. Но Раиса Владимировна слишком хорошо знала мужчин и знала власть своего тела. Она смотрела на Лугановича плотоядно и уверенно. Он нравился ей именно своей молодостью и нетронутостью. Такого любовника у нее давно не было, и она твердо знала, что не уступит его этой простенькой провинциальной барышне, по крайней мере, пока он не надоест ей. Как раз в ту минуту, когда показались Нина и Коля Вязовкин, Раиса Владимировна уговаривала Лугановича перевестись в Петроградский университет.
Луганович был смущен и растерян. Его поза у самых ног Раисы была так интимна и он так ясно понял инстинктивное движение Нины, что сразу стало понятно: теперь все между ними кончено. Внезапно его охватила злобная досада против Раисы.
Раиса Владимировна презрительно и властно посмотрела на него, чуть-чуть усмехнулась и, лениво откинувшись назад, протянула:
– Жарко!.. Так, кажется, взяла бы да и разделась совсем!..
Луганович быстро взглянул на нее. Мысль видеть ее нагой тут, в лесу, среди белого дня, обожгла его.
Раиса прекрасно поняла этот взгляд.
– А что, если я в самом деле разденусь?.. Вам не очень будет стыдно?.. – русалочьим тоном спросила она, потянулась всем своим богатым телом и закинула руки за голову, чтобы выпуклее выставить грудь.
Луганович покраснел, но ответил нарочито наглым тоном:
– Если вам не будет стыдно, так почему же мне будет?.. Хотите, я помогу?..
Раиса Владимировна смеялась, точно ее щекотали эти слова.
– А что ж, это было бы пикантно!.. – по слогам протянула она и уронила свою полную обнаженную руку у самых губ Лугановича.
Луганович взял и провел по своим губам ее нежной влажной кожей. Женщина раскинулась в гамаке, лениво отдаваясь его ласкам.
Ее пышное тяжелое тело красиво и выпукло изгибалось в натянутой сетке. Тонкие бечевки обрисовывали, обтягивая, все линии его. Ноги, маленькие и крепкие, в прозрачных чулках, стройно скрещивались в воздухе выше головы. Вся она была мягкая, дразнящая, жаркая.
И, мысленно махнув на все рукой, Луганович забыл Нину.
Схватившись за гамак, он перекатил тело женщины на самый край его, запутал в платье и стал умолять о чем-то. Глаза у него блестели и смотрели, воровски бегая. Раиса хохотала и отталкивала.
– С ума сошел! Прошу покорно!.. Со всех сторон ходят… Отстаньте, а то ударю!.. Сумасшедший!..
IX
Насыпь дачной конки шла меж двух рядов высоких сосен. Был вечер, и прямо впереди, на полосе фиолетового неба, бледным золотом блестел тоненький месяц.
Нина шла рядом с инженером, а Коля Вязовкин уныло плелся за ними.
– Ну да, вы ждете от жизни чего-то необыкновенного, – говорил инженер мягко и грустно, – а в ней давно уже нет никаких тайн. Все это очень просто и скучно. Немного красоты и ласки – вот и все, что она может дать, и большего мы не имеем права ждать, потому что сами убили все тайны и неожиданности.
Вы разочарованы в жизни?.. – немного волнуясь и робея, сказала Нина и искоса взглянула на бледное лицо с черной бородой.
Она давно уже привыкла считаться взрослой, а с такими, как Коля Вязовкин, даже чувствовала себя старшей, но с этим новым знакомым почему-то робела, как наивная и глупенькая девочка.
Инженер незаметно усмехнулся, но продолжал также серьезно и даже торжественно, именно тем тоном, который, как он знал по опыту, особенно действует на молоденьких девушек:
– Нет, разочарование это пошлое слово… Я просто не так молод, как вы, и знаю жизнь!..
Нина вспомнила, что Луганович тоже говорил о знании жизни, и подумала, что он такой же мальчик, как она сама – девочка, а вот этот слегка сутуловатый человек с бледным лицом наверное знает жизнь и наверное много страдал.
– Неужели вы так печально смотрите на все?
– Что значит – печально?.. – как бы в раздумье возразил инженер. – Знаете, говорят, что чахоточные находят тихую радость и болезненное наслаждение именно в том, что они так слабы, так беспомощны и им так мало осталось жить… По-моему, каждый умный и тонкий человек должен относиться к жизни так же: находя наслаждение в том, что так мало радости отпущено ему судьбою.
Коля Вязовкин шел и уныло слушал.
– Я не совсем понимаю это!.. – робко, как ученица, прошептала Нина и побледнела от внимания.
Очень возможно, что инженер понимал не больше ее, но продолжал так же красиво и непонятно:
– Бравурная музыка груба, торжествующая пошлость омерзительна… Настоящая красота есть только в страдании, в последних замирающих аккордах, в угасании вечера, в осенних цветах… Если бы люди были слишком счастливы, они были бы омерзительными!.. как груба торжествующая любовь молодости, здоровых, сытых, самоуверенных людей. Красива только любовь умирающей души, ее последняя ласка!.. Надо уметь любить!..
– А вы умеете?.. – наивно спросила Нина.
Она уже окончательно не понимала того, что говорил инженер, хотя ей и казалось, что она понимает все. Впрочем, он и не старался об этом: вечер, гаснущее небо, тихий голос, печальные красивые слова – и нужный ему, единственный смысл его речей доходил прямо до сердца девушки. Она, конечно, не понимала, но ей уже было жаль этого изящного, красивого, грустного человека и хотелось утешить его. Нина невольно вспоминала, сколько сплетен пришлось ей слышать о Высоцком, но теперь ей казалось, что этого не могло быть и его просто никто, кроме нее, не понимает. Бессознательное стремление приласкать, возродить к новой жизни уже, хотя и бессознательно, было в ее душе.
– Я умею!.. – совершенно серьезно ответил инженер, мысленно придавая этим словам совсем другой смысл и незаметно скользнув взглядом по всему телу девушки, от пушистых волос, по выпуклой линии груди и бедер, до кончиков маленьких ног, как зверьки мелькавших и прятавшихся под короткой юбкой. – Но кругом такая толчея, такой базар, такой барабан, что те, кто может чувствовать истинную красоту, должны только страдать!..
Коля Вязовкин уныло слушал.
– Мне всегда больно, – продолжал инженер, – когда женщина отдается торжествующему, жадному, эгоистически самовлюбленному самцу, извините за выражение… Женскую душу, женскую любовь может оценить только тот, кто много и долго страдал!.. Когда-то я и сам был грубым животным и хватал жизнь, как кусок по праву мой. Тогда я не умел ценить, а теперь… Ах, если бы мне встретилась теперь одна из тех милых, нежных, задумчивых девушек, которых я когда-то губил не задумываясь, не понимая той страшной ценности, которую давала мне в руки судьба!..
Коля Вязовкин тяжело вздохнул.
Они гуляли долго. Когда ходить все время по насыпи стало уже как-то странно, инженер пошел провожать Нину, но, дойдя до дачи, они прошли мимо и вышли на луга, где было еще совсем светло и широко развертывалось пылающее небо заката. Потом вернулись к даче и опять прошли мимо. Потом опять и опять, до тех пор, пока на балконе дачи не появился огонь и голос старшей сестры, в сумраке узнавшей светлую кофточку Нины, не позвал ее ужинать.
Во время этой прогулки инженер несколько раз недоброжелательно поглядывал на Колю Вязовкина, но Коля, конечно, скорее умер бы, чем оставил бы их вдвоем.
Наконец они остановились перед калиткой и стали прощаться.
– Вы такая чуткая, вы такая нежная… – сказал инженер, – спасибо вам за этот вечер!..
Нина слегка покраснела в сумраке, но руки не отнимала, и ей было жаль, что вот она пойдет в ярко освещенную комнату, в круг любящих близких людей, а этот одинокий печальный человек один уйдет в синий вечер, унося в душе свою непонятную печаль.
– Прощайте, – вдруг выпалил Коля Вязовкин так неожиданно, что оба вздрогнули, и Нине показалось, что это ударил тот самый барабан, о котором, она уже не помнила к чему, говорил инженер.
– А… мое почтение!.. – немного удивленно ответил Высоцкий.
Он даже обрадовался, думая, что Коля наконец уйдет, но Коля Вязовкин стоял как столб. Очевидно, приходилось уходить самому инженеру.
Был один момент, когда Высоцкий с своей обычной наглостью хотел самым откровенным образом спровадить студента ко всем чертям, но в баранообразном лице Коли Вязовкина было что-то такое тяжелое и решительное, что инженер осекся и ушел. Ушел совсем просто, без эффекта, который подготовлял, со злостью чувствуя, что не удалось положить последнего штриха.
«Чтоб его черт подрал!.. – подумал он. – Надо будет поймать ее завтра одну, а то этот дурак слова не даст сказать!..»
А Нина и Коля Вязовкин шли по аллее тоненьких сосенок, и Нина говорила с раздражением:
– Какой вы нечуткий, Коля!..
Коля Вязовкин угрюмо молчал и даже не вздыхал.
Нина мельком оглянулась на него и досадливо пожала плечом. Впрочем, она сейчас же забыла о Коле, вся охваченная обаянием нового знакомого.
Когда каблучки Нины дробно застучали по ступенькам, отец ее, отставной военный, поднял голову от газеты и сказал:
– А, вот и наши!..
Вся семья была в сборе. Горничная накрывала стол к ужину. Немножко ленивая, немножко насмешливая Анни, жена офицера, уехавшего на маневры, сидела праздно и, по своему обыкновению, сбоку заглядывала в газету, которую читал отец. Мать Нины распоряжалась и ворчала на горничную:
– Ставь сюда… сколько раз я тебе говорила…
– Нагулялись?.. – спросила она. Нина с размаху бросилась на стул, посмотрела вокруг блестящими глазами и закричала:
– Есть хочу!.. Есть хочу!.. Мама!.. А с каким интересным человеком мы сейчас познакомились.
Анни лениво посмотрела на ее оживленное лицо и насмешливо спросила:
– Интереснее даже Лугановича?..
Нина покраснела и рассердилась, что краснеет.
– При чем тут Луганович?.. – резонно спросила она, встала и с оскорбленным видом медленно ушла в свою комнату.
Коля Вязовкин остался на балконе, как член семейства. Его все любили и привыкли к нему, как к родному. За мужчину Колю никто не считал, хотя его безнадежная любовь к Нине и была всем известна.
– Коля, вы будете ужинать?
– Я?.. Я, право… а впрочем…
И он принялся за простоквашу с таким свирепым аппетитом, что даже как-то странно было это при его огорченном лице.
– Нина, иди ужинать!.. – позвала мать.
А Нина в своей комнате подошла к раскрытому окну и задумалась, чувствуя, как тихое дыхание вечера мягко шевелит ее волосы. За лесом догорало вечернее небо, и маленький трепещущий силуэтик летучей мыши бесшумно чертил над деревьями.
Нина смотрела прямо перед собою широко открытыми глазами, но ровно ничего не видела. Бледное лицо с черной бородой и странными глазами неотступно стояло перед нею. Нина была охвачена новыми впечатлениями. Высоцкий показался ей необыкновенным, совсем не похожим на других знакомых мужчин. И ей вдруг стало странно, что почти два месяца она была влюблена в Лугановича.
Как бы проверяя, девушка старалась вызвать прежнее чувство и уверить себя, что она все еще страдает, но из этого ничего не вышло. Все побледнело, стерлось, превратилось в какую-то детскую шалость. Когда же она вспомнила ночь на обрыве, это воспоминание просто оскорбило ее.
– Как он смел!..
Лицо Лугановича впервые представилось ей таким, каким было в действительности: красным, возбужденным, отвратительным от непонятного ей животного желания. Все существо ее дрогнуло от стыда, отвращения и оскорбленной гордости.
– Как грубо, грязно, пошло!.. И как он смел думать, что я… Мальчишка!..
Жгучая краска залила ее щеки, уши и шею до самых плеч, и, сжавшись от стыда, Нина обеими руками закрыла лицо.
Она не понимала, как могла допустить, чтобы с нею обращались подобным образом, и всю вину сваливала на дерзость Лугановича, которого готова была в эту минуту возненавидеть.
Перед закрытыми глазами во мраке вдруг снова появилось бледное лицо Высоцкого и послышался его печальный голос, говоривший такие красивые и непонятные слова. Нине пришло в голову, что на месте Лугановича мог бы быть этот красивый, интересный человек, и девушка подумала, что все тогда было бы иначе: без всякой пошлости, красиво и поэтично. От неожиданности этой мысли Нина даже похолодела вся.
Странное женское любопытство впервые пробудилось в ней. Почему-то Нина вспомнила Раису Владимировну, и лицо ее сжалось, побледнело, стало злым и ожесточенным.
– Хорошо, хорошо же!.. – машинально несколько раз повторила она.
Ей захотелось, назло Лугановичу, влюбиться в инженера и целоваться с ним. И именно так целоваться, чтобы студент видел это и терзался от ревности. Девушка представила себе, что она уже целуется с инженером, и голова у нее закружилась. Стало так стыдно, что Нина бросилась на кровать, лицом в подушку, и замерла.
– Нина, иди ужинать!.. – звали ее с балкона. Но Нина не отвечала. Непонятные слезы обильно мочили подушку и горячили щеки.
– Чего же я плачу? – спрашивала она себя и не могла ответить.
Чего-то было жаль, чего-то хотелось, она чувствовала, что вокруг нее жизнь плетет что-то страшное и непонятное, в чем она не может разобраться. А ее молодое сильное тело все томилось и ждало чего-то, чего она еще не знала.







