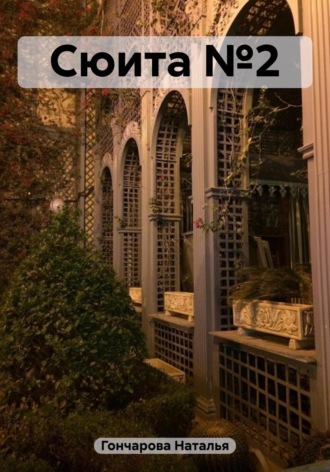
Наталья Гончарова
Сюита №2
Видя, как побелело лицо Анны, Эдельтруд Остеррайх, истолковала этот знак по своему, а именно как признак чрезмерной чувствительности собеседницы, принимающий чужие беды, как свои собственные, ибо не могла знать и догадываться, что за несколько дней произошло так много изменений в жизни простой бедной гувернантки из России. И стремясь утешить ее и успокоить, фрау Остеррайх взяла Анну за руку и уже материнским, но назидательным тоном продолжила:
– Но вам не следует слишком расстраиваться, Анна, главное, что вы больше не работаете у этих людей. Не так ли?
Анна лишь кивнула головой в знак согласия, не в силах произнести ни слова. Знала бы Эдельтруд, что о Жикелях она даже не вспоминала.
– Есть ли вам куда пойти? Где вы намерены теперь работать? – участливо спросила фрау Остеррайх.
– Я еще не думала об этом, – ели слышно произнесла Анна.
– Это печально и вместе с тем я даже этому рада, потому как мы вам так обязаны и признательны! Но теперь, мы можем отблагодарить вас! – с энтузиазмом воскликнула Эдельтруда. – Позвольте же дать вам адрес. Моя родственница фрау Мемингем нуждается в помощнице, она стара, и оттого плохо видит, но по-прежнему активна, и ведет переписку со многими людьми, кроме того не слишком хорошо знает французский, хотя и прожила уже большую часть жизни здесь. Впрочем, не мудрено, уж слишком вычурный язык. Словом, я вам дам адрес, в Париже, и дам рекомендации. И если вы надумаете воспользоваться ими, я буду только рада. Это было бы прекрасной работой, для такой достойной и трудолюбивой женщины как вы. Я видел,а как вы терпеливы, с этим несносным мальчишкой Матье, – шепотом произнесла Остеррайх, наклоняясь ближе к Анне, – быть может излишне мягкосердечны, что едва ли шло на пользу маленькому хулигану, – уже назидательно, не преминула добавить фрау Эдельтруд, – но в том едва ли есть ваша вина. В каждой семь свои порядки, и едва ли чужой уклад жизни подвластен нам, – уже мягче добавила фрау Остеррайх.
Анна удивленно подняла на фрау Эдельтруд глаза, с трудом понимая все, что та говорила, но при том, с ясностью услышав: «излишне мягкосердечны». О, да! Излишне мягкосердечна, эта фраза звучала почти как «слишком глупа» или «слишком наивна», а может и то и другое вместе.
Фрау Эдельтруд видя замешательство и растерянность на лице Анны, поспешно сунула ей аккуратно вырванный лист блокнота с адресом фрау Мемингем, и вложила его в лежащую безвольно руку Анны, а своей рукой сжала ее ладошку в кулак.
– Мы с Хуго частые гости у Ангретт Мемингем, так что если вы примите мое предложение, непременно еще свидимся! А сейчас мне пора, – заявила Эдельтруд, и пожав в чувствах руку Анны еще раз, в которой все еще лежала записка с адресом, тем самым распрощавшись, поспешно удалилась, оставив Анну в хаосе мыслей и беспорядке чувств.
Казалось, в этот миг весь мир стал враждебен. Краем глаза она уловила чей-то непрошенный взгляд. Анна повернула голову вправо – никого. Лишь влюбленная пара так поглощенная друг другом, что совсем не обращали на нее внимание. Слева и вовсе не души. Может ей лишь померещилось. Все кружилось и вертелось как на дьявольской карусели. И все что копилось годами, все тяготы и горести пережитого, словно тонны воды с небес обрушились на нее в одночасье. Она была растеряна и сбита с толку, ибо человек, на которого она возлагала надежды, цепляясь как за соломинку в этом чужом мире, оказался не тем, кем она думала и кем его желала видеть. Но едва ли в том была его вина. Она сама во всем виновата, именно она выдумала человека, которого нет, влюбилась в него, а теперь разочаровалась в образе, что жил только в ее воображении. Разве ж он обманул ее? Вовсе нет, она обманывала саму себя и только.
И находясь в смятении чувств, внутри лавины эмоций, мешающих и рассуждать и думать и принимать решения с ясностью и четкостью, она ведомая, как и прежде не разумом, а чувствами, поспешила в отель, чтобы как можно скорее собрать чемоданы, и исчезнуть из Ниццы. Она желала как можно скорее забыть все, что случилось, забиться в угол, будто она маленькая мышка, беззвучно и бессловесно. Жить тихой и невидимой жизнью, пока судьба ее не оборвется по воле случая или по воле небес, будто бы она и не жила никогда. И будто бы не было такой Анны Лемешевой, не было ни горестей, ни радостей, ни любви, ни расставаний. Жизнь маленького человека невидимки, переносящего незримо все беды и исчезающего в водовороте времени, похожем на морскую воронку, поглощающая навечно все что было, есть и будет. Без следа.
Энн спала глубоким и тяжелым сном, а заря рассыпалась на ее лице мягким и прозрачным светом. Он последний раз взглянул на тени от пушистых ресниц, медленно скользящие по ее лицу в такт пробуждающегося солнца, немного замешкался, испытывая непреодолимое желание пробудить ее, но, так и не решившись, положил два конверта на прикроватный столик и вышел. Убедив себя, что вернется всего через пять дней, что ни к чему драма расставания, если они увидятся так скоро, Дэвид поспешил на вокзал. Верх над ним и его желаниями неизменно брала практичность. Он мог бы взять Энн в Калле, но не сделал это намеренно. Чувство, которое поглотило его, вместе с радостью приводило его в замешательство и даже досаду. Он так долго жил в определенном порядке, ни к кому не привязываясь и ничем не тяготясь, оставаясь лишь на время, а уходя, не вспоминая, что сейчас, поняв, что все иначе, не мог бы сам себе признаться, что испугался. С ней, он думал только о ней, и это наполненность сознания кем-то другим, а не самим собой, было приятным и вместе с тем раздражало, как любая другая зависимость. И как водится для того, чтобы понять то или иное явление, нужно от него отстраниться, так как, находясь в сердцевине и эпицентре событий, в вихре и водовороте чувств, понять их истинную природу невозможно. Вот только одного он не предвидел, что было слишком поздно, и череда событий, которым суждено было случиться, уже случились, так что все попытки, нарушить тот ход вещей, которому предрешено произойти, лишь навредят и нарушат правильный и верный ход судьбы, тот, что и был задуман в тот миг, когда мы, родившись в первый раз смотрим на этот странный и непостижимый мир в бесплодных попытках его понять.
Но вот минули три дня. Три дня в Калле без Энн, для Дэвида что вечность. Он уже трижды пожалел, что не взял ее с собой. С другой стороны время и расстояние действительно помогло увидеть чувства и события такими какие они есть, и либо понять их ненужность и неважность, либо остро и болезненно ощутить их необходимость. А чувства к Энн не только не начали угасать, но и превратились в странную, до того момента неизведанную тоску. Он даже назвал ее «русской» тоской, потому как всем своим сильным крепким, словно сотканным лишь из промозглого ветра и грубого камня британским организмом не чувствовал такого никогда. Это было похоже на инфлюэнцию, завезенную с далекой и вмерзшей в снега большой ледяной земли. И ни лекарства, ни спасения.
И каждый раз, видя и восхищаясь чем-то, он ловил себя на мысли, что невозможность разделить это счастье с Энн, делает это нечто не таким уж интересным и не таким уж привлекательным, а попросту ничтожным. И не имея силы больше ждать, купил билет, хотя бы на день раньше.
Отправной точкой железнодорожного маршрута Калле – Ницца был Морской вокзал. Там поезд забирал прибывающих паромом британских пассажиров, лишь минуту назад пересекших Ла-Манш и отправлялся в путь точно по расписанию в час дня. В этот день пассажиров было крайне мало, зимний сезон заканчивался в марте, так что большая часть британцев стремилась вернуться на острова, и лишь их малая часть, вопреки общему течению, прибывала на Лазурный берег в летний сезон.
Но что-то пошло не так и даже в три по полудню поезд еще стоял на месте. Утомленный бесплодным ожиданием, Дэвид в раздражении покинул свой спальный вагон, в желании размять ноги и сменить перед глазами уже порядком надоевший рисунок гобелена на стене. Там в коридоре поезда он столкнулся лицом к лицу со странной парой, по всей видимости, также как он, решившей немного прогуляться перед тем как поезд, наконец, тронется. То была дама преклонных лет в сопровождении своей дочери, чье сходство с матерью не оставляло сомнений в их близком родстве. Пожилая дама, быстро сообразив, что их вагоны находятся рядом, и, подметив, что Дэвид один, стараясь как можно деликатнее, одернула дочь, стремясь, привлечь ее внимание к мужчине. Этот старый как мир трюк, правда, не укрылся от зорких глаз Дэвида и он учтиво, но сдержанно поприветствовал их. Молодая женщина на его голос тотчас обернулась и робко и смущенно улыбнулась ему в ответ, но увидев его холодность и отстраненность и полное отсутствие интереса к ней, сошла в лице и, поджав губы резко отвернулась.
Не то чтобы эта молодая женщина была так уж неприятна Дэвиду, хотя, конечно, едва ли ее можно было назвать привлекательной, в полной мере этого слова. Правда была в том, что она была не Энн. Перед глазами Дэвида тут же возникло ее нежное лицо, с кроткими, округлыми глазами, и глянцевый свет тонкой кожи, под белой как снег костИ. Он вспомнил жар ночИ, а пальцы помнили желанные изгибы тела.
– «Ах, Энн», – и с этим тяжким вздохом он быстро скрылся в своем спальном вагоне, не одарив попутчиков даже лишним взглядом.
И все же поезд тронулся, хотя, казалось, это уже никогда не случится, и Дэвид наконец испытал облегчение, потому что все эти дня находился в замешательстве и неопределенности, пусть и принятого, но еще не случившегося решения. Когда же колеса своим мерным постукиванием начали отсчет времени, с каждым ударом, приближая его к Энн, он испытал странное, но все же счастье.
Расслабившись и взяв газету в руки, он приготовился насладиться путешествием, как вдруг хлопок и грохот, оглушили его. Все завертелось, закружилось, вагон так резко накренился, затем подпрыгнул и с громким скрежетом и стуком ударился о землю.
Темнота. На секунду он потерял сознание. С трудом пытаясь открыть глаза, он почувствовал жжение на веках, и, не имея сил терпеть этот дискомфорт, закрыл их вновь. Он попытался встать, но не смог. Через секунду Дэвид сделал еще одну попытку, но снова безуспешно, и в изнеможении от непомерных усилий и слабости, резко откинулся на спину, чуть ударившись затылком. Боли он не чувствовал, лишь страх и ужас, однако же скорее от неизвестности, и непонимания, что происходит, нежели от мыслей о дурном. Где-то совсем рядом, он услышал истошный женский крик, и стоны, и чей-то тихий плачь, сам же он молчал, и не смог бы произнести и звука, до того он был оглушен и потрясен случившемся.
Наконец открыв глаза, сквозь нечто, похожее на песок, засыпавшего все его лицо и тело он с трудом, но смог сесть. Инстинктивно потянувшись к лицу, он с удивлением, но уже без страха, увидел, что все его руки и лицо в крови. С трудом пытаясь понять, откуда кровь, он провел по затылку – ничего. Провел по груди – все в порядке. И только тогда понял, что сломан нос. Он облегченно выдохнул и попытался встать, но не смог. Ноги разъехались как у новорожденного ягненка и с громким стуком он упал всем своим тяжелым и тучным телом на пол. Только тогда Дэвид почувствовал во всем своем до того момента крепком теле распирающую и раздирающую на части нестерпимую боль. Он глухо застонал, и вновь потерял сознание.
В следующий раз он пришел в себя, уже когда его куда-то несли на носилках. Он не смог открыть глаза, но попытался даже пошутить, о том, сколько же человек понадобилось, чтобы его нести, и словно пьяный, не желая заканчивать банкет, даже попытался встать и идти, но чья-то грубая рука бесцеремонно толкнула его обратно на носилки. Он даже попытался сопротивляться, но слабость и боль сломали его и он покорно и даже с облегчением подчинился. Сознание как обломки, сцены до крушения, во время, лицо Анны со спутанными после ночи темными, как траур волосами. Нестерпимая боль вновь пронзила все его тело, и он опять погрузился во мрак.
Одурманенный опием и болью он то выныривал из глубоких темных вод сознания, то погружался в самый мрак, где зловещие образы пугали и мучали его без жалости и устали.
Пришел в сознание он только ночью, уже в больничной палате. Не открывая глаз, он чувствовал сквозь плотно сомкнутые веки тусклый желтый, как лихорадка свет, едва ли в полной мере понимая, где он.
Дэвид слабо и едва слышно, простонал:
– «Воды», – и, не надеясь, что ему ответят, уже готов был вновь погрузиться во тьму сознания, как вдруг к нему подошла женщина. Она что-то нежно сказала, но он не расслышал, и, кажется, ушла, но только чтобы через минуту вернуться. Она дала ему сделать лишь пару глотков, хотя он с жадностью заплутавшего в пустыне странника готов был осушить этот сосуд до дна, и мягко, но твердо сказала:
– Вам больше нельзя.
Рукой он дотронулся до ее руки и сомкнул свою ладонь вокруг ее хрупкого запястья. Ее тонкие руки, так напоминали Энн. И он глухо и отчаянно застонал:
– Анна…, – впервые назвав ее имя на русский лад.
Медсестра ласково, но твердо произнесла:
– Отпустите. Вы же не один здесь. Я должна позаботиться и о других, – и с этими словами твердо высвободила свою руку из его ослабших ладоней.
Дэвид с неохотой подчинился, испытав при этом такую глубокую обиду и отчаяние, которую уже сейчас в глубине своего сознания знал, не забудет никогда, и в ту же минуту вновь провалился во тьму.
Лишь через три дня он пришел в сознание так, чтобы осознавать все вещи ясно и четко, и, приручив боль до той степени, чтоб не нуждаться больше в опии, первым делом огляделся вокруг. Узкая кровать, прикроватный столик с неизвестными жидкостями в темном стекле на радостях алхимику, но едва ли на пользу ему самому. Стены в цвет тоски, да потолок в цвет отчаяния, вот и вся обстановка.
Из разговоров с врачом, медсестрой, а также со своим помощником, который первый появился его повидать, он восстановил по крупицам картину произошедшего. Оказалось, не было ни взрыва, ни хлопков, а все это не иначе как плод его воображения в свете перенесенного шока. Поезд просто сошел с рельсов, вот так банально, но так бывает. Жизнь и будущее стольких людей было перечеркнуто всего лишь незначительной, но значимой для человека случайностью.
Оказалось, что не только лицо было его разбито, но и ребра и левая нога были сломаны, не говоря уже о мелких ссадинах и ушибах, которые покрывали все его крупное, но теперь обессиленное и никчемное тело. Даже самые простые и привычные вещи теперь были ему не доступны. Он нуждался в других и это для его сильной и независимой натуры, было худшим из испытаний. Он был растерян и раздавлен, он чувствовал себя уязвимым и зависимым, он который привык быть хозяином положения, теперь был беспомощен как новорожденное дитя. Все, что он в жизни воспринимал как данность, как нечто само собой разумеющееся, теперь же казалось ему недоступным благом и даром небес. Ничто не давалось ему больше бесплатно, и каждый свой день он должен был заработать неимоверными усилиями, каждодневной и изнуряющей работой над собой. Ему заново пришлось учиться сидеть, стоять, ходить, и краткий путь от койки до стены был тяжек, долог и не прост.
Но это потом. Первым делом он должен найти Энн. Так что в противовес обычным своим распоряжениям, он поручил своему помощнику не разобраться с финансами, а ехать как можно скорее в Ниццу и найти Энн.
Именно теперь, вот так, лежа недвижимо, он понял, как страстно он любит ее и как сильно она ему нужна.
А пока ее нет, он должен приложить все усилия, чтобы стать прежним. Меньше всего ему хотелось предстать перед ее глазами таким слабым и беспомощным, какой он сейчас. И думая, будто силе воле и характеру подвластно все, приложил немало сил впустую, но встать с кровати смог лишь на четвертый день. И опираясь на дрожащие руки и обливаясь потом, он впервые в жизни почувствовал себя не властителем и хозяином своей жизни, а тряпичной куклой на тонкой леске, дрыгающей ногами и руками, в попытках быть самостоятельным, тогда как в реальности, любое его движение не иначе как прихоть хозяина за ширмой.
– Вам помочь? – услышал он участливый голос.
Подняв глаза, он увидел высокую и сухую женщину, лет тридцати. В ее спокойных голубых глазах читалось беспокойство и тот род человеческой жалости, что именуется «материнским», когда улыбка сочувствия и наклон головы вправо, будто говорит: «мой бедный, бедный, глупый малыш, ты снова разбил колени». Уже через минут он узнал в ней, ту самую женщину, лицо которой, он видел последним, перед тем самым злополучным крушением вагона, так резко и так жестоко изменившим за секунду всю его жизнь.
– Спасибо, я справлюсь. Просто сегодня первый день, когда я пыта.., – оправдываясь неуверенно произнес он, но и голос, будто не слушался его и оборвался сразу же на полуслове.
Его неуверенный голос и легкая дрожь в руках прозвучали для нее как приглашение, и она, как если бы знала его давно, села рядышком, словно самый близкий друг и уверенно беря беседу в свои руки, произнесла: – Вы можете на меня опереться, – и нисколько не смущаясь, по-матерински подставила ему свое плечо.
Он удивленно посмотрел на нее, но все же остался недвижим. Затем, немного помолчав, уже увереннее спросил:
– Вы были в том же вагоне. Я помню. Как ваше самочувствие? Как ваша матушка?
Она расплылась в улыбке, польщенная его участием и радостно заговорила:
– Мы совсем не пострадали, и это ли не удивительно? Ведь и я, и мама, равно как и вы, были в самом пострадавшем вагоне, но, поверите ли? Почти ни царапины! –Торжественно произнесла она, но уже через минуту добавила: – Матушка, конечно, была напугана, такие события в ее почтенном возрасте. Кажется у нее легкое сотрясение, так что она еще в больнице, но если доктор будет не против, ведь ничего серьезного нет, сегодня же ее выпишут.
– Это прекрасно, – сухо заявил Дэвид, испытав колкую зависть, к этим двум особам, особенно к той, что была на четверть века его старше и осталась невредима, когда же он, сильный и крепкий, разбит в щепки, будто корабль, разбившийся о скалы.
Она рассказывала о себе, о своей матери, об отбывшем в мир иной отце. Он узнал о ней, и об ее родне за полчаса почти все, что ему надо и не надо было знать. Ее голос, монотонный и крепкий, как жужжание летнего насекомого был приятным, как проявление всего живого на земле, но вместе с тем вызывающим раздражение, когда ты немощен и так несчастлив. Уставшая голова стала почти чугунной, и он, желая прервать поток ее сознания резко спросил:
– Вы не представились.
– Элен, – и на ее сухом лице, вспыхнул юный румянец старой девы.
Он и сам не смог сдержаться и уже забыв, что еще секунду назад испытывал раздражение и даже злился на нее, невольно откликнулся на этот знак смущения и невинности и, улыбнувшись очаровательной улыбкой джентльмена, сделав знак рукой, будто снимает, несуществующую шляпу галантно представился:
– Дэвид Маршалл, – и этого слабого отклика с его стороны было достаточно, чтобы с того дня она посещала его каждый день вплоть до самой его выписки из больницы.
Она окружила его такой материнской лаской и вниманием, что он, не желая того, сдался, со смирением и благодарностью, принимая ее заботу, потому как после двух известий за неделю чувствовал себя поверженным, одиноким и разбитым и как никогда нуждался в человеческой поддержке. Что ж, неудачи и одиночество, порой толкают нас в объятия тех, кого мы, в силе и благополучии даже не замечаем.
Первым подорвало его настроение письмо из дома. Жена справлялась о его здоровье, и, казалось бы, даже проявляла жалость и сочувствие по поводу случившегося, но лишь до третьей строчки. А дальше было следующее:
«… если Дэвид, почувствует себя так плохо, что это, можно будет расценивать как знак скорой кончины, то было бы лучше распорядиться финансами до того момента, как он отбудет в мир иной, чтобы не создать лишних хлопот с наследством».
Словом смысл этих слов был в том, что если Дэвид находится на смертном одре, то ему стоит передать ей все финансы незамедлительно, не дожидаясь своей кончины.
Это письмо не стало для него откровением, не стало оно и сюрпризом, и получи он его в любой другой ситуации, он бы его даже не заметил, но сейчас, когда он так уязвим, оно стало ударом в самое сердце, и если не в самое сердце, то точно совсем рядышком, если конечно оно у него еще существовало.
А после второго известия о бесследном исчезновении Энн, он убедился, что он такой же, как и все, и сердце его на месте, потому как что-то же болело так сильно и так отчаянно, аккурат, справа от желудка, в самой глубине груди.
Она бросила его, исчезла с деньгами, в этом не было сомнений. Энн никогда не испытывала тех же чувств, что и он, как бы не было горько это признавать, он был вынужден принять эту мысль.
Дэвид в своей жизни намеренно избегал слова «любовь». Не только потому, что за сотни и тысячи лет его использования оно было затерто другими, превратившись в затверделый и недвижимый, прекрасный и неживой реликт, но и потому, что не был уверен в его существовании. И пусть он не называл это чувство любовью, однако сила этого чувства, то, как оно было значительно и как велико в груди, заставляла его искать эквивалент словом, как требует имя, только что рожденный. Но так и не найдя для его обозначения ничего путного, скрепя сердцем и вопреки своему желанию, вынужден был примкнуть вновь, как люди до него, и как люди после, к слову «любовь». И приняв в свое сердце это чувство, понял, что любит ее, и произнес для себя «Люблю».
Вот только Энн его не любила. Она лишь терпела его присутствие с собой, от безысходности, а может из корысти, либо есть другой мотив, которого он, правда, не смог найти. Не смог найти и потому, что не желал себе признаваться, в том, что виноват в ее уходе сам. Своей отстраненностью, закрытостью и отчужденностью он ширил бездну между ними. И возьми он ее с собой в Калле, может так они и были бы вместе… Но это чувство виновности и ответственности за грустный и трагический исход их чувств, был настолько ему невыносим, что из чувства самосохранения и ради равновесия внутри, он возложил вину за расставание и расстояние на Энн, обвинив ее и в корысти и в холодности и в том, что она с самого начала желала лишь использовать его, и, создав образ, так отличный от того, кем она была, и какой он ее знал, сам в этот образ и поверил.
Когда же Дэвид осознал, что совсем один, ненужный, жалкий и беспомощный, он схватился за заботу со стороны Элен, с отчаянием утопающего, и, видя в ее глазах и обожание и восторг, ответил ей, если и не взаимностью, то принятием ее чувств, и заботы о себе, так как явственно в них нуждался и душой и телом, как в лекарстве. Конечно, его пугала отчаянная одержимость ее чувств, сквозившая в каждом ее жесте и поступке к нему, но после того, как Энн оставила его, обожание и фанатизм Эллен стали лечебным для его попранного самолюбия. Кроме того, Эллен была достаточно богата, принадлежала к тому же кругу общения, что и он, а, следовательно, ее нельзя было обвинить в том, что она с ним из корысти, так что как два вида одной птицы, они с легкостью нашли и общий язык, и общие интересы, и все бы ничего, если бы он ее любил.
Дом фрау Мемингем был оплотом немецкого порядка в пестром интернационале и хаосе девятого квартала Парижа. Без пылинки, с зеркально начищенным полом, и чистыми и прозрачными, как горные озера стеклами, в доме Мемингемов было душно и мрачно как в подземелье.
Как позже оказалось, фрау Эдельтруд приходилась племянницей ныне покойного мужа фрау Мемингем, и в отсутствие детей, после его смерти, фрау Аннгрет, перешедшие ей по наследству текстильные фабрики передала в доверительное управление Хуго Остеррайху. Все шло прекрасно, но лишь до той поры пока война не приключилась, хотя если быть точным, не приключилось поражение. А за ним Веймарская республика и вынужденная эмиграция. Тем не менее, несмотря на более чем дальнее родство, фрау Аннгрет и фрау Эдельтруд были куда ближе, чем мола подумать Анна, потому как связаны они были не только узами крови, но и узами бизнеса, которые подчас куда крепче кровных, а тяготы и беды стали цементом, сплотившим их в один гранитный монолит.
Анна и сама не могла взять в толк как случилось, что она прижилась в этом чуждом немецком мире, но фрау Аннгрет благосклонна приняла ее, и даже распространяла на нее некое свое благоволение, впрочем, Анна считала, что этому есть вполне простое объяснение. Фрау Аннгрет плохо знала французский, и, выбирая между французской помощницей и русской, в отсутствии возможности нанять немку, предпочла вариант второй, так как первый, считала для себя неприемлемым и неудобоваримым ни при каких обстоятельствах.
Конечно, она третировала Анну, так как может третировать только злая и сварливая старуха, но Анна, словно разбитый яростным штормом корабль, была глуха и слепа к чужой тирании, погрузившись в себя, в мир воспоминаний и прошлого.
Порой ей казалось, что она теряет связь с реальностью, с трудом различая, где день ушедший, а где день сегодняшний. Старуха Мемингем виделась ей старухой Лаптевой, а фрау Эдельтруд, том самой купчихой Кузнецовой. Мир, словно перевернулся в зеркальном отражении, и она там, откуда так долго и отчаянно стремилась сбежать. И мысли и воспоминания, движущиеся, казалось бы, линейно, от событий давно минувших к событиям недавним, в действительности замыкаясь, возвращались к точке отсчета, где бричка несла ее от отчего дома в жизнь.
Матушка, батюшка, Николай, лишь память, а не станет ее, не станет и памяти, не станет и их, не оставив и следа, сгинут в морской воронке времени, и никто не будет знать что жили такие люди, где-то в далеком сибирском уездном городе Б., в тени вислых златых берез.
Не будет прошлого, не будет и воспоминаний, как с батюшкою за руку, ходили через поле в лес, как матушка, смахнув слезу, смотрела уходящей бричке в след, не будет того поцелуя, когда казалось сердце воспаряет ввысь, туда где небо голубое, такое голубое, будто озеро, что можно вверх упасть, не будет памяти о едком чаде от догорающей свечи, предвестника печали и прощанья, когда рука родного человека остынет будто лед. Прощальные слова, такие недвижимые и нет в них смысла, и только лишь огарок от свечи. Закрыл глаза. И пустота.
Словно желая вынуть из себя эту тоску по Родине, и взять в руки, и пестовать и баюкать, будто свое дитя, предаваясь страданию, она порой посещала русский квартал. А там, в иссиня-желтом угаре, полуголодные русские эмигранты топили свое горе в прозрачном как жидкое стекло спирту. Те, кто были сплошь богачи, теперь лишь сплошь таксисты, где добродетель, пустота, где бедность и отчаяние, как правая и левая рука, Анна думала, что, пожалуй, несмотря на все ее роптания, можно сказать, что судьба была к ней благосклонна. И она, сетуя и гневаясь на участь, цела и невредима, там, где все сплошь в щепки и обломки, огромного Корабля-Империи. И нет ни дома, ни земли, ни будущего, и только прошлое и только память.
Так прошло ее лето в Париже, и так прошла бы осень и зима, если бы не болезнь фрау Аннгрет. Подагра до того скрутила сильную и крепкую старуху, что та, не желавшая покидать свой немецкий остров в пестром океане девятого квартала, приняла решение на всю зиму отправиться в Ниццу, где доктор, обещал ей волшебное исцеление, лишь от одного морского воздуха. И как любой тяжелобольной человек, фрау Аннгрет была в таком отчаяние, когда нуждалась даже не в самом исцелении, а хотя бы в надежде на него.
Анна же, напротив, совсем не желала возвращаться в Ниццу. Ей нравился их замкнутый и недвижимый мир, где, казалось даже, воздух был дистиллирован, где ни лишний свет не проникал сквозь шторы, ни лишний звук не достигал ушей. Анна постепенно приняла повадки старой и умирающей старухе, и, забыв свой возраст и стерев свои желания, подлаживаясь под чужой ритм жизни, потеряла себя. И то смирение, которому ее учил отец, и чье учение закрепило и отточила жизнь до совершенства, срослись с ней так сильно и так тесно, что переросли в ту часть подчинения и покорности где «Я» навсегда замещается словом «Ничто».
Не желая ехать в Ниццу, но, не имея право голоса, она и здесь смиренно приняла решение умирающей фрау Аннгрет, как свое собственное и послушно отправилась вместе с ней на Лазурный берег, будто бы этот самый путь станет и для нее финалом жизни.
Процесс восстановления после крушения для Дэвида оказался тяжелее, чем он рассчитывал, он заново учился ходить, сидеть, стоять. Элен во всем ему помогала, была опорой и поддержкой и секретарем и помощником и ласковой любовницей и верным другом и закономерно они стали близки до той степени, что находится и дальше в статусе незамужней пары стало не возможным.
Он долго не решался на развод, не из страха осуждения, а просто, потому что не видел в этом смысла, и, будучи человеком разумным, а главное практичным, понимал, что те издержки, которые необходимо будет претерпеть при разводе, не стоили той выгоды, что давал ему статут мужчины холостого. Но теперь, после произошедшего, он решил скинуть с себя весь ненужный балласт, который все эти годы он тащил скорее по инерции, нежели из пользы дела. Он продал большую часть бизнеса, часть капитала перевел в банк. Он оставил ровно столько, сколько ему необходимо для того чтобы не испытывать финансовых затруднений, и не менять тот образ жизни к которому привык, но вместе с тем не слишком утруждать себя делами. Словом, он за полгода сделал то, что должен был сделать за несколько лет, но наверняка никогда бы не сделал, так и откладывая на потом, если б не случившееся.
Ему, конечно, не нравились изменения, произошедшие в нем, более того, после встречи с Энн и пережитого крушения, он чувствовал себя другим человеком, и как бы ни чужд ему был этот новый «Я», он принимал его, с какой-то смиренной обреченностью и учился заново жить в согласии с собой, потому что ясно понимал, что изменения те, произошли в нем безвозвратно.
Что касается его отношений с матерью Элен, Эстер, их нельзя было назвать плохими, однако же, можно было назвать напряженными. Он с трудом выносил эту властную и требовательную женщину, быть может потому, что отчасти узнавал в ней себя, и иногда ему казалось, что Элен просто поменяла вектор служения с матери на него, так как привыкшая находиться в положении «вечной услуги», она инстинктивно, искала того же в партнере, служить ему и окружать заботой, как она тому привыкла. Что ж, в любом положении приходится с чем-нибудь смиряться, а потому пришел и его черед смиряться с Эстер.







