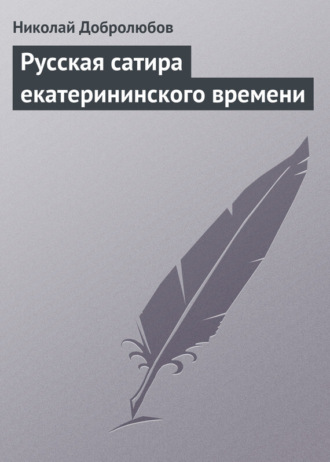
Николай Александрович Добролюбов
Русская сатира екатерининского времени
Вы первый достоин показать, что дарованная вольность умам российским употребляется в пользу отечества. Но, государь мой, почто укрываете вы свое имя, имя, всеобщия достойное похвалы? Я никакие не нахожу к тому причины. Неужели, оскорбя столь жестоко пороки и вооружа против себя порочных, опасаетесь их злословия? Нет, такая слабость никогда не может иметь места в благородном сердце. И может ли такая ваша смелость опасаться угнетения в то время, когда, ко счастию России и ко благоденствию человеческого рода, владычествует наша премудрая Екатерина! Ее удовольствие, оказанное во представлении вашей комедии, удостоверяет о покровительстве ее таким, как вы, писателям. Чего ж осталось вам страшиться? («Живописец», ч. I, стр. IV).
Из этого, не совсем ловкого по нынешним понятиям, указания на удовольствие Екатерины, выраженное ею при представлении ее же пьесы, видно, как мало тогдашняя сатира имела собственной инициативы и как она нуждалась в меценатстве и поощрении сверху. Поощрение это действительно даваемо было Екатериною, разумеется, в тех пределах, в каких она считала нужным и сообразным с своими видами, – и благодарные сатирики не могли без умиления отзываться о милостях премудрой монархини. Они беспрестанно хвалились ее покровительством и чрез то зажимали рот обскурантам, которым не нравилась свобода слова. «Живописец» изображает глупого и жестокого помещика, который пишет к сыну своему Фалалею: «Что за Живописец такой у вас проявился? Какой-нибудь немец, а православный этого не написал бы… О, коли бы он здесь был! То-то бы потешил свой живот: все бы кости у него сделал как в мешке! Что и говорить: дали волю!.. Тут небось не видят, и знатные господа молчат!» («Живописец», I, стр. 109). В «Трутне» упоминается суевер, называющий златой век, в коем позволено всем мыслить, железным веком («Трутень», стр. 280){16}. Сама Екатерина придавала очень большую цену тому, что свобода слова не стесняется ею. В «Былях и небылицах», напечатанных в 1783 году (через десять лет после «Живописца»), она упоминает выходку дедушки против «разговоров, касающихся поправления того-сего». «В прежнее время, по словам дедушки, разговоры сии вели вполголоса или на ушко, дабы лишней какой беды оные кому из нас не нанесли; следовательно, громогласие между нами редко слышно было; беседы же получали от того некоторый блеск и вид вежливости, которой следы не столь приметны ныне: ибо разговоры, смех, горе и все, что вздумать можешь, открыто и громогласно отправляется». «Для изъяснения сего дедушка говорит, что будто мысли и умы, долго быв угнетены под тягостию тайны, вдруг, яко плотина от сильной водополи, прорвались» (см. «Собес. люб. рос. сл.», ч. II, стр. 137). В «Собеседнике», издававшемся кн. Дашковой» под руководством самой Екатерины, также находится одно письмо, в котором: говорится: «Держитесь принятого вами единожды навсегда правила: не воспрещать честным людям свободно изъясняться. Вам нет причины страшиться гонений за истину под державою монархини,
Qui pense en grand homme et qu i permet, qu'on pense![1]{17}
В то же время Державин прославлял свободу слова, данную Екатериной, в обращении к Фелице (Соч. Державина, стр. 308):
Неслыханное также дело,
Достойное тебя одной,
Что будто ты народу смело
О всем, и въявь, и под рукой,
И знать и мыслить позволяешь,
И о себе не запрещаешь
И быль и небыль говорить{18}.
К этому же великодушному «позволению знать и мыслить» возвращается Державин и позже, в «Изображении Фелицы» (1789), влагая ей в уста следующие слова к народу (Державин, стр. 415):
Я вам даю свободу мыслить
Не в рабстве, а в подданстве числить{19},
И в ноги мне челом не бить;
Даю вам право без препоны
Мне ваши нужды представлять,
Читать и гнать мои законы.
И в них ошибки замечать.
Даже в оде на кончину Екатерины («Память ноября 1796 года»), сочиненной Капнистом (Сочинения его, стр. 309), мы находим упоминание о том, что при ней
Мы крылья мыслей расширяли,
Дерзая правду ей вещать{20}.
Таким образом, во все время царствования Екатерины русская литература постоянно повторяла ту мысль, что писателям дана полная свобода откровенно высказывать все, что угодно. Мысль эта сделалась постоянным и непреложным мнением и много раз высказывалась и впоследствии, долго спустя после смерти Екатерины. Так, например, Карамзин в своей записке «О старой и новой России», указавши на свободу печати при Екатерине, приводит даже и объяснение этого явления в таком виде:
Уверенная в своем величии, твердая, непреклонная в намерениях, объявленных ею, будучи единственною душою всех государственных движений в России, не выпуская власти из собственных рук, без казни, без пыток влияв в сердца министров, полководцев, всех государственных чиновников живейший страх сделаться ей неугодным и пламенное усердие заслуживать ее милость, Екатерина могла презирать легкомысленное злословие и позволяла искренности говорить правду. Сей образ мыслей, доказанный делами 34-летиего владычества, отличает ее царствование от всех прежних в новой российской истории. Следствием были: спокойствие сердец, успехи приятностей светских, знаний, разума (Карамзин, изд. Эйнерлинга, III, XLVII){21}.
Впрочем, было бы величайшим заблуждением думать, на основании возгласов тогдашних литераторов, будто при Екатерине можно было безнаказанно говорить и писать все, что только придет на ум. Напротив, императрица очень зорко следила за тем, чтобы в обществе и в народе не рассеивались понятия и слухи, несообразные с ее намерениями относительно устройства и управления государством. При самом восшествии ее на престол начали ходить в народе различные слухи, которые были ей неприятны. Вследствие того в 1763 году, июня 4, издан был указ «о воздержании каждому себя от непристойных званию его толкований и рассуждений» (П. С. З., № 11843){22}. В этом указе говорится, между прочим:
Со дня самого вступления нашего на всероссийский престол, мы, богу содействующему, в сердце нашем никогда о пользе и добре наших подданных пещись, яко мать о детях своих, не оставим, в чем да управит и укрепит нас его ж рука святая. Вследствие чего равное ж желание и воля наша есть, чтоб все и каждый из наших верноподданных единственно прилежал своему знанию и должности, удаляясь от всяких продерзких и непристойных разглашений. Но противу всякого чаяния, к крайнему нашему прискорбию и неудовольствию, слышим, что являются такие развращенных нравов и мыслей люди, кои не о добре общем и спокойствии помышляют, но как сами заражены странными рассуждениями о делах, совсем до них не принадлежащих, не имея о том прямого сведения, так стараются заражать и других слабоумных, и даже до того попускают свои слабости в безрассудном стремлении, что касаются дерзостно своими истолкованиями не только гражданским правам и правительству и нашим издаваемым уставам, но и самим божественным узаконениям, не воображая знатно себе ни мало, каким таковые непристойные умствования подвержены предосуждеииям и опасностям.
Затем говорится, что «хотя таковые умствователи праведно заслуживают достойную себе казнь, яко спокойствию нашему и всеобщему вредные», но на первый раз монархиня обращается к ним лишь с «материнским увещанием», надеясь, что они сами постараются заслужить «благословение божие и монаршую милость, доверенность и благоволение»; в противном же случае обещает поступить с ними «по всей строгости законов». Подобные объявления с угрозами издавались не раз и в последующие годы. Источники чрезвычайно скудны насчет того, в какой мере исполнялись эти угрозы и много ли было людей, действительно захваченных в «вольных речах». Но некоторые сведения из истории нашей литературы и законодательства показывают, что указы Екатерины не оставались пустыми словами и этим очень резко отличались от сатирических возгласов тогдашних восторженных обличителей. В марте 1764 года сожжен на площади с барабанным боем «пасквиль, выданный под именем высочайшего указа» и начинающийся словами: «Время уже настало, что лихоимство искоренить, что весьма желаю в покое пребывать, однако весьма наше дворянство пренебрегает…» и пр. (П. С. З., № 12089). В январе 1765 года (П. С. З., № 12313) повелено было сжечь на площади, чрез палача, непристойные сочинения, названные в указе «пасквилями», но не обозначенные никакими подробностями относительно их содержания. В мае 1767 года наказан плетьми в Ярославле и сослан в Нерчинск дворовый человек Андрей Крылов за то, что держал у себя тот самый пасквиль, о котором был указ в марте 1764 года (П. С. З., № 12890). Неизвестно, на каких именно условиях дозволен был вообще выход книг в России до 1770 года. Но в этом году дано разрешение иностранцу Гартунгу на учреждение первой в России вольной типографии для печатания книг на иностранных языках, и в указе, данном по этому случаю, есть пункт, запрещающий ему выпускать из типографии какие бы то ни было книги «без объявления для свидетельства в Академию наук и без ведома полиции». Русские же книги ему не дозволено печатать, «дабы прочим казенным типографиям в доходах их подрыву не было» (П. С. З., № 13572). Из этого видно, что размеры тогдашней книжной деятельности были весьма ничтожны, но что и те не были оставлены без строгого правительственного контроля. В 1776 году дано дозволение завести типографию и для русских книг иностранцам Вейбрехту и Шпору; а в 1780 году тот же Шпор получил разрешение завести типографию в Твери. В январе 1783 года дозволено наконец заводить вольные типографии кому угодно, не спрашивая пи у кого дозволения, только с тем, чтобы все печатаемые книги были свидетельствуемы Управою благочиния (П. С. З., № 15633). Это дозволение также было прославлено в свое время русскою литературою, и сама императрица придавала ему большое значение. В «Собеседнике», издававшемся ею в 1783–1784 годах, напечатаны были известные «Вопросы» Фонвизина{23}, между которыми был следующий: «Отчего у нас тяжущиеся не печатают тяжоб своих и решений правительства?» Екатерина отвечала с величественным лаконизмом: «Оттого, что вольных типографий до 1782 года не было». Этот ответ привел в восторг и умиление Фонвизина: сатирик увидел здесь косвенное дозволение частным лицам печатать судебные дела и решения. В особом письме{24}, напечатанном в том же «Собеседнике» (ч. V, стр. 145), он красноречиво излагает пользу судебной гласности. «Ответ ваш, – пишет он, – подает надежду, что размножение типографий послужит не только к распространению знаний человеческих, но и к подкреплению правосудия. Да облобызаем мысленно, с душевного благодарностью, десницу правосуднейшия и премудрый монархини. Она, отверзая новые врата просвещению, в то же время и тем самым полагает новую преграду ябеде и коварству. Она и в сем случае следует своему всегдашнему обычаю; ибо рассечь одним разом камень претыкания и вдруг источить из него два целебные потока есть образ чудодействия, Екатерине II весьма обычайный. Способом печатания тяжеб и решений глас обиженного достигнет во все концы отечества. Многие постыдятся делать то, чего делать не страшатся. Всякое дело, содержащее в себе судьбу имения, чести и жизни гражданина, купно с решением судебным, может быть известно всей беспристрастной публике; воздастся достойная похвала праведным судиям, возгнушаются честные сердца неправдою судей бессовестных и алчных» и пр.
Однако же судебные процессы не печатались у нас при Екатерине – неизвестно по каким причинам. Была одна попытка в 1791 году. Некто Василий Новиков стал тогда издавать «Театр судоведения, или Чтение для судей», в котором печатал замечательные судебные дела, иностранные и несколько русских, обыкновенно таких, в которых, по его выражению, «нельзя было не восплескать мудрости судей». Но очевидно, что это было совсем не то, о чем говорил Фонвизин, и оттого не удивительно, что издание В. Новикова не пошло и прекратилось по выпуске шести книжек. Для нас в этом издании замечательно то, что и в 1791 году говорились о гласности те же самые фразы, какие, как мы видели, были в ходу в 1769 году. Вот, например, тирада из IV части: «Под покровом владычествующий на севере Минервы все части человеческих познаний достигают своего совершенства. Ободренные музы, будучи доступны к ее престолу, вещают ей о всем устами самый истины. Отверзаются врата Фемидина храма, вступают в него Минервины други; корыстолюбивый и незнающий судья трепещет, а достойный готовится к новому торжеству своих подвигов» («Театр судоведения», ч. IV, стр. 3–4).
Во всех подобных возгласах было очень много реторического самодовольства. Писатели того времени, не обращая внимания на публику, для которой они писали, не думая о тех условиях, от которых зависит действительный успех добрых идей, придавали себе и своим словам гораздо более значения, нежели следовало. Когда им дозволяли сказать что-нибудь резкое, они были убеждены, что это означает желание осуществить на деле эти резкие слова. Но, разумеется, гораздо основательнее было бы судить об этом иначе, и мы не можем не привести здесь суждения типографщика Селивановского, которое находится в его «Записках», помещенных в «Библиографических записках» прошлого года (№ 17, стр. 518). «Цензуры в то время (около 1790 года) не было, – пишет он, – книги рассматривались при управе или обер-полицмейстером, то есть предъявлялись, но не читались. В ту пору книга была нечто пустое, неважное, и еще не думали, что она может быть вредна». Глубокую справедливость этого замечания подтверждают факты, последовавшие за 1783 годом. Немедленно после дозволения, данного в этом году на открытие вольных типографий, их развелось очень много, и книжная деятельность чрезвычайно усилилась. Новиков, еще в 1779 году взявший на откуп московскую университетскую типографию и очень усердно печатавший в ней книги, теперь еще более расширил свою деятельность заведением собственной типографии – «компании типографической». Тут уже стали обращать серьезное внимание на литературу и несколько опасаться свободоязычия, которого Екатерина, как видно по всему, очень не любила. На вопрос Фонвизина: «Имея монархиню честного человека, что бы мешало взять всеобщим правилом – удостаиваться ее милостей одними честными делами, а не отваживаться прояснивать их обманом и коварством? Отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а нынче имеют, и весьма большие?» – Екатерина отвечала: «Сей вопрос родился от свободоязычия, которого предки наши не имели; буде же бы имели, то начли бы на нынешнего одного десять прежде бывших» (Сочинения Екатерины, III, 31){25}. Подобное этому свободоязычие увидела она и в изданиях Новикова, и как скоро заметила, что оно может повести к каким-нибудь последствиям «для спокойствия ее и всеобщего вредным», то и решилась прекратить его. Уже в 1784 году, за напечатание неблагоприятной для иезуитов истории их ордена в «Московских ведомостях» (№№ 69–71), она выразила свой гнев на Новикова и велела отобрать эти листы «Ведомостей», объяснив причину своего гнева следующим образом: «ибо, дав покровительство наше сему ордену, не можем дозволить, чтоб от кого-либо малейшее предосужение оному учинено было» (см. «Москвитянин», 1843, № 1, стр. 241). В 1785 году наряжено было следствие над Новиковым, в 1786 году поволено было запретить в продаже некоторые книги, у него напечатанные и «наполненные странными мудрствованиями» (П. С. З., № 16362). Еще более гнев императрицы на литературу возбужден был известным «Путешествием из Петербурга в Москву» Радищева. Сентября 4-го 1790 года дан был указ о ссылке его на десять лет в Сибирь, «за издание книги, наполненной самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное к властям уважение, стремящимися к тому, чтобы произвести в народе негодование противу начальников и начальства, и, наконец, оскорбительными и неистовыми изражениями противу сана и власти царской» (П. С. З., № 16901). В 1791 году, вследствие разных неблагоприятных расположений, должна была закрыться типографическая компания. В 1792 году Новиков посажен в Шлиссельбург, а некоторые из его друзей сосланы на житье в деревни. Наконец, в 1796 году, сентября 16-го, последовал именной указ сенату «об ограничении свободы книгопечатания и ввоза иностранных книг, об учреждении на сей конец цензур и об упразднении частных типографий» (П. С. З., № 17508). В указе этом говорится, что, «в прекращение разных неудобств, которые встречаются от свободного и неограниченного печатания книг, признано за нужное: 1) учредить цензуру в столицах и пограничных приморских городах, из одной духовной и двух светских особ составляемую; 2) частными людьми заведенные типографии, в рассуждении злоупотреблений, от того происходящих, упразднить, тем более что для печатания полезных и нужных книг имеется достаточное количество таковых типографий, при разных училищах устроенных». Эта мера уже слишком решительна; но Екатерина не опасалась на ней настаивать и за несколько дней до своей смерти, октября 22, подтвердила повеление об уничтожении вольных типографий (П. С. З. № 17523). Постановления о цензуре были развиты и организованы в царствование Павла. Но, в сущности, и эти меры Екатерины, при всей их крайности, не достигли цели, как сознавалось потом само наше законодательство. Запрещение печатать книги в вольных типографиях было вызвано подозрениями, не имевшими прочного основания, как доказали последствия. Подозрения эти получили свою силу преимущественно вследствие опасений Екатерины, чтобы в России не отозвалось то волнение умов, которое в восьмидесятых и девяностых годах прошлого столетия совершалось во Франции{26}. Но состояние тогдашнего русского общества вовсе не было таково, чтобы в нем могло развиться что-нибудь серьезно опасное для существующего порядка. Книга Радищева составляла едва ли не единственное исключение в ряду литературных явлений того времени, именно потому, что она стояла совершенно одиноко, против нее и можно было употребить столь сильные меры{27}. Впрочем, если бы этих мер и не было, все-таки «Путешествие из Петербурга в Москву» осталось бы явлением исключительным, и за автором его последовали бы, до конечных его результатов, разве весьма немногие. Стало быть, с этой точки зрения, излишние строгости против тогдашнего книгопечатания были совершенно не нужны: Екатерина ни в каком случае не могла страшиться неблагосклонных отзывов и «противных ее и всеобщему спокойствию» выходок со стороны литературы, которая всегда так усердно и громко прославляла ее и всегда была готова беспрекословно следовать по указанному от нее направлению. Если же предположить другую цель строгостей Екатерины, то есть ту, чтобы вообще менее писали и рассуждали, то в этом отношении ее меры вовсе не достигли цели. Русское общество даже и в то время так уже привыкло «читать книгу», что невозможно было вовсе лишить его «книги», выгнать «книгу» из государства… Что бы там ни печаталось, что бы ни говорилось, до этого обществу дела еще не было; но «книга» была ему нужна. Вследствие того в самом указе об упразднении всех вольных типографий упомянуто об оставлении «достаточного количества типографии при училищах, для напечатания нужных и полезных книг», и, кроме того, дано дозволение «быть типографиям в губерниях при наместнических правлениях, для облегчения тамошних канцелярий». По свидетельству Сопикова (Опыт русской библиографии, том I, стр. СХХ){28}, все упраздненные типографии немедленно и разошлись по губерниям. Кроме того, найден был, разумеется, и другой способ распространения в публике сочинений, которые почему-нибудь имели для нее интерес{29}. Вследствие всего этого император Александр, вскоре по вступлении своем на престол, указом 9 февраля 1802 года, снова дал дозволение привозить из-за границы все иностранные книги и заводить повсеместно вольные типографии. В указе этом находится прямое и откровенное указание на причины, вызвавшие распоряжение императора. Упомянув сначала о запрещении 1796 года, указ продолжает: «Но как, с одной стороны, внешние обстоятельства, к мере сей правительство побудившие, прошли и ныне уже не существуют, а с другой – пятилетний опыт доказал, что средство сие было и весьма недостаточно к достижению предполагаемой им цели, то по уважениям сим и признали мы справедливым, освободив сию часть от препон, по времени соделавшихся излишними и бесполезными, возвратить ее в прежнее положение…» Далее, после разрешения вновь заводить вольные типографии и печатать в них всякие книги с освидетельствованием Управы благочиния, в указе повелевается – «цензуры всякого рода, в городах и при портах учрежденные, яко уже ненужные, упразднить» (П. С. З., № 20139). Вскоре после того, в 1804 году, издан первый цензурный устав, усовершенствованный потом в 1828 году.







