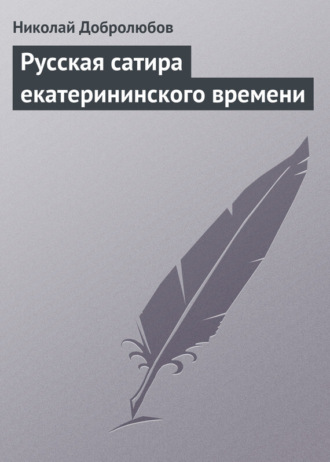
Николай Александрович Добролюбов
Русская сатира екатерининского времени
Возьмем другой пример. В новиковских журналах несколько раз попадаются жалобы невежественных и диких людей на то, что нет более свободного винокурения, а надо брать вино из «государева кружала», чтобы откупщику прибыток делать. Видно, что сатирики, верные своему характеру следовать за правительственными реформами, не только не восставали против откупов, но скорее одобряли их и готовы были смеяться над теми, кто ими тяготился. Иначе им, конечно, и нельзя было по их положению. Откупа только что введены были во всей России с 1767 года. В предварительном указе о них, от 1 августа 1765 года, они признаны самым лучшим способом сбирания дохода для казны, и вследствие того откупщикам предоставляются многие права и преимущества для привлечения их к этому делу. Во-первых, им предоставляется полная свобода «столько кабаков иметь и в таких местах, сколько и где сами похотят». Потом облагораживается самое звание кабака: «Так как от происшедших злоупотреблений название кабака сделалось весьма подло и бесчестно, то называть их впредь питейными домами и поставить на них гербы, яко на домах, под нашим защищенном находящихся». Сами откупщики и поверенные их получают особенные отличия: «Так как питейная продажа есть коронная регалия, – сказано в указе, – то обнадеживаются откупщики монаршим покровительством, и служба их признается казенною, а они именуются коронными поверенными служителями и носят шпаги». Кроме того, в этом же указе утверждается неподсудность их, за исключением уголовных дел, никому, кроме губернатора или камер-коллегии (П. С. З., № 12444). Все это делалось для того, чтобы посредством откупов увеличить доход казны, и действительно, он увеличился страшно: по свидетельству Щербатова, винные сборы в Москве и С.-Петербурге простирались при Елизавете до 700 000, а в 1785 году доходили уже до 10 миллионов («Московские ведомости», 1859, № 142)!.. Но с кого же выбиралась вся эта сумма?.. Нам нет надобности говорить о несовершенствах откупной системы, всеми признанной теперь разорительною для народа и бесполезною для государства. Мы упоминаем здесь об этом факте только потому, что заметили в сатириках прошлого века наклонность подсмеиваться, во имя административных распоряжений, над сознанием простых людей, с самого начала враждебно взглянувших на откупа.
Но нам могут сказать, что сатира должна поражать зло уже развившееся, господствующее, обнаружившее свое влияние, а не то, которое находится еще в зародыше. Сатира должна действовать в настоящем, и нельзя от нее требовать предведения будущего… Правда, – но в том-то и беда, что наша сатира, «от Нестора до наших дней»{57}, постоянно была в положении, которое заставляло ее обращать свои обличения вовсе не на сильное и настоящее, а на слабое и прошедшее. Откупной системы никто не обличал не потому, чтобы при ее начале никто не мог понять могущего произойти от нее вреда, а просто потому, что она получила тогда законную силу и вследствие того сделалась уже недоступною для сатиры, во всех своих обличениях опиравшейся на постановления закона. Для полнейшего убеждения в справедливости этой мысли стоит вспомнить, что на откупа никто у нас не вооружался до тех пор, пока не было решено падение нынешней откупной системы.
И не в отношении к одним откупам сатира прошлого века выказала слепое последование букве закона. Возьмем другое явление, например – рекрутчину. В сатирических журналах много есть заметок, обличающих плутни, бывшие при рекрутских наборах в противность законам. Заметки эти были иногда очень практичны и полезны и указывали на возникшие злоупотребления очень прямо. Например, в «Трутне» 1769 года (стр. 199) помещено такое письмо:
Г-н издатель! При нынешнем рекрутском наборе, по причине запрещения чинить продажу крестьян в рекруты, и с земли до окончания набора, показалося новоизобретенное плутовство. Помещики, забывшие честь и совесть, с помощию ябеды выдумали следующее: продавец, согласясь с покупщиком, велит ему на себя бить челом в завладении дач; а сей, имев несколько хождения по тому делу, наконец подаст обще с истцом, мировую челобитную, уступая в иск того человека, которого он продал в рекруты.
Известие очень полезное, и нет сомнения, что такие вещи действительно делались. Но в них ли было главное зло в этом случае и можно ли было их уничтожить без изменения причин, которые их производили? А отчего происходили подобные злоупотребления? Во-первых, опять-таки от крепостного права, во-вторых, от чрезвычайного излишества наборов, произведенных в царствование Екатерины. Известно, что рекрутские наборы, иногда по два в год, по одному человеку с 300 и с 200 душ, страшно обременяли Россию во все время ее царствования. В прошлом году напечатана у нас записка кн. М. М. Щербатова о первой турецкой войне (1768–1774 годы), найденная в его бумагах г. Заблоцким («Библиографические записки», 1858, № 13, стр. 408–410). Цифры и указания Щербатова наводят на мысли очень невеселые. По его вычислению, в пятьдесят лет, с 1718 года, в Великой России «взято 1 132 001 рекрут, то есть шестой человек из положенных в подушный оклад, а конечно, не меньше третьего из работников». В первые годы царствования Екатерины до турецкой войны в семь наборов собрано до 327 044 человек, кроме церковных причетников. И этого количества было еще недостаточно. «Колико наборы ни разорительны государству, – пишет Щербатов, – ибо, считая со всего числа душ, уже почти 23-й человек в рекруты взят, а с числа работников смело положить можно 11-й или 10-й; а со всем тем армия не удовольствована, ибо предводители оных беспрестанно жалуются на малое число людей оныя». Изыскивая причины того, Щербатов находит, что все это, исключичая военной необходимости, объясняется небрежностью и дурными распоряжениями при производстве наборов. Во-первых, тогда было в обычае, что помещики многих крестьян ссылали в Сибирь на поселение, с зачетом их в рекруты; это было до того распространено, что набор 1767 года, по свидетельству Щербатова, «только и служил для расчета с теми, которые в зачет людей отдали, да и то большую часть на поселение в Сибирь». Во-вторых, наборы производились неправильно, внезапно, форсированно, так, что взятые вдруг рекруты принуждены были «не только в дальний путь идти, но п переменить воздух, так что, пришед в неукомплектованные полки, где, по нужде людей, им выгод и отдыху дать не можно было, токмо число мертвых прииумножили, и армия по-прежнему в некомплекте осталась». Соображая все это, Щербатов приходит к заключению, что, вместо двух наборов, спешно произведенных в 1765 году по одному с трехсот, лучше уж было бы сделать своевременно один набор по одному со ста душ: и армия бы укомплектовалась, да и народу было бы легче… Все эти соображения относятся как раз к тому времени, когда особенно процветала наша сатира. Но она далека была от мысли взглянуть на войну с той точки, чего она стоит народу; сатирические журналы в это самое время печатали высокопарные приветствия по случаю побед. Так, например, «Всякая всячина» начинает свой «Барышек» 1770 года поздравлением по случаю успехов российского оружия и говорит так:
До восплещут убо руками все языцы, да возрадуются народы и племена, тяжким игом чрез многие лета угнетенные, да взыграет море, острова и земля, видя приближающееся свое от горкия работы спасение и избавление, коего единственною виновницею премудрую Екатерину и разумно ею устроенный совет не только настоящий провозгласит век, но и грядущие еще громчае прославят времена («Всякая всячина», стр. 412).
Что могло быть виною подобных гимнов, как не постоянная связь сатиры с официальным ходом русской жизни? И что же мудреного при этом, что воззвания сатиры против частных злоупотреблений при наборах мало имели успеха? Одно общее злоупотребление неминуемо вызывает другие, мелкие; а из записки Щербатова мы ясно видим, что в самом основании производства наборов в то время было большое злоупотребление. Его записка относится к началу семидесятых годов; но то же, конечно, продолжалось и в последующие 25 лет. В 1796 году, незадолго до смерти Екатерины, назначен был рекрутский набор; но Павел I, вступив на престол, нашел возможным и нужным отменить его, и тотчас же отменил.
«По ведь литература не может иметь претензии на прямое административное значение: довольно с нее и того, если она старалась вообще внушать гуманные идеи и благородные чувствования. А это она делала в век Екатерины постоянно и очень усердно. Где ни раскройте сатирические журналы, везде вам попадется – то насмешка над глупою спесью, то обличение бесчеловечных поступков, то злая выходка против эгоистических расчетов, то внушение правил человеколюбия, снисходительности к низшим, правдивости перед высшими, честности, любви к отечеству и пр. В этом-то постоянстве добрых стремлений, насколько было возможно их обнаруживать по обстоятельствам времени, в этой-то неуклонной последовательности направления, враждебного всему злому и бесчестному, и состоит высокое нравственное достоинство сатиры екатерининского периода. Пусть она не отличалась всеобъемлемостью, пусть она даже впадала в ошибки и шла иногда вслед за такими явлениями русской жизни, которым бы должна была идти навстречу. Но за это нельзя обвинять ее, нельзя над нею трунить: это будет нимало не остроумно и даже недобросовестно. Нужно, напротив, поблагодарить ее за то, что она честно делала свое дело и проложила дорогу нам, людям позднейшего времени, для продолжения борьбы с пороком уже в гораздо больших размерах».
Так непременно возразят нам почтеннейшие историки литературы и другие деятели русской науки, о которых говорили мы в начале нашей статьи. У них вечно на языке «уважение к честным деятелям мысли», «благодарность к глашатаям правды и добра» и т. п. Смеем уверить почтенных историков литературы, трудолюбивых библиографов и московских публицистов, что мы ничуть не менее их одушевлены уважением и любовию к таким людям, как, например, Новиков. Но неужели в русском обществе даже до сих пор степень нравственного достоинства благородных общественных деятелей может быть рассматриваема нераздельно со степенью их успеха? И неужели мы, говоря, что все старания их были безуспешны, чрез то самое бросаем тень на их благородство? Наконец, неужели мы обижаем кого-нибудь, стараясь указать причины этой безуспешности, так часто не зависевшие от воли самих деятелей? Мы ведь не упрекаем наших сатириков в подлости и ласкательстве за то, что они писали иногда пышные дифирамбы златому веку, мы не подозреваем их в боярской спеси за то, что они мало обращали внимания на состояние простого народа в их время. Подобных подозрений мы не только не высказываем, мы вовсе не имеем их. Но надо же (повторим здесь еще раз) выяснить истинное значение факта, о котором так маного и так восторженно кричат сами наши историки литературы. Если наша точка зрения и различается несколько от воззрений библиографических, так это давно бы пора уже понять и не коверкать наших слов. Положим, что мы рассуждаем с вами, например, при начале итальянской войны; вы приходите в неописанный восторг от статей, в которых доказывается, что наконец пришла пора свободы Италии и что австрийское иго нестерпимо и т. п., а мы спокойно замечаем вам, что ведь это, однако, ничего не значит, что надежды восхваляемых вами статей неосновательны, что союзом с Францией Италия теперь не приобретет себе истинной свободы. И вдруг вы бросаетесь на нас с обвинением в том, что мы не сочувствуем делу Италии, и стараетесь нас поразить, указывая литературные достоинства статей, которые привели вас в восторг. «Посмотрите, как это сильно сказано, как это логически выведено, как остроумно задета здесь австрийская система, как горячо выразилось тут сочувствие к итальянской народности», и пр. «Все это прекрасно, – отвечаем мы, – статьи написаны превосходным слогом и делают честь благородству чувствований их авторов; но нас интересует не слог и не благородство писателей, а практическое значение их идей. И с этой стороны мы находим их статьи, к крайнему своему прискорбию, не только не важными, но и вполне незначительными…» Затем мы сделаем, пожалуй, даже объяснение причин, по которым так думаем, вроде того, какое сделано в майском и августовском политическом обозрении «Современника»{58}. Но вы все-таки будете толковать о нашем неуважении к Кавуру и итальянским патриотам; проницательно ли и добросовестно ли будет это с вашей стороны?
Итак, не заподозревая и не унижая благородных стремлений наших сатириков, мы, однако, решимся утверждать, что их обличения были безуспешны в век Екатерины. Причиною же безуспешности мы признаем главным образом наивность сатириков, воображавших, что прогресс России зависит от личной честности какого-нибудь секретаря, от благосклонного обращения помещика с крестьянами, от точного исполнения указов о винокурении и о шести процентах, и т. д. Они не хотели видеть связи всех частных беззаконий с общим механизмом тогдашней организации государства и от ничтожнейших улучшений ожидали громадных последствий, как, например, уничтожения взяточничества от учреждения прокуроров, и т. п. И зато каких результатов добились они, не говоря о сфере административной и т. д., даже в той области, которая была их специальностью, – в деле улучшения общественной нравственности? Сделаем коротенький очерк того положения, в какое пришли нравы после всех этих обличений.
Главные предметы обличения сатиры екатерининского времени были: во-первых, недостаток воспитания, невежество и грубость нравов; во-вторых, ложное образование, то есть французские моды, роскошь, ветреность и т. п.; в-третьих, приказное крючкотворство и взяточничество. По этим трем предметам г. Афанасьев даже разделяет рассмотрение сатиры того времени по трем особым главам. Посмотрим же, что ею сделано.
Каким образом сатирические журналы осмеивали невежество, грубость и дурное воспитание, это уже мы отчасти видели из предыдущих выписок. Прибавим, что они очень верно понимали круговую поруку дурного воспитания и грубости помещичьего быта того времени. Худо воспитанные люди, изображаемые в сатирических журналах, – преимущественно «господчики», как тогда выражались. Так, один из подобных господчиков, уже исправившийся, рассказывает о своем воспитании:
Отец мой, дворянин, живучи с малых лет в деревне, был человек простого нрава и сообразовался во всем древним обычаям; а жена его, моя мать, была сложения тому совсем противного, отчего нередко происходили между ними несогласия, и всегда друг друга не только всякими бранными словами, какие вздумать можно, ругали, но не проходило почти того дня, чтобы они между собою не дрались или людей на конюшне плетьми по секли. Я, будучи в доме их воспитыван и имея в глазах таковые поступки моих родителей, чрезмерную возымел к оным склонность и положил за правило себе во всем оным последовать. Намерение мое было гораздо удачно; ибо я в скорое время, к удивлению всех домашних, уже совершенно выражал все бранные слова, которые, бывало, от родителей своих слышу; а что до тиранства принадлежало, то уже в том и родителей своих превосходил, хотя и они в сем искусстве гораздо неплохи были («Живописец», II, 180).
Далее сообщается еще любопытная черта того времени:
Матушка моя, пришедши из конюшни, в которой, по обыкновению, ежедневно делала расправу крестьянам и крестьянкам, читает, бывало, французскую любовную книжку и мне все прелести любви и нежность любезного пола по-русски ясно пересказывает…
Следствием этого было то, что тринадцати лет мальчик уже был совершенно развращен и, «влюбившись в комнатную дома нашего девку, сделался в короткое время невольником рабы своей», а потом, спознавшись с сыном соседнего помещика, воспитанным так же хорошо, принялся за игру, пьянство и др. Другой господчик пишет во «Всякой всячине»:
Провождая дни свои в деревне, был я воспитан бабушкою, которая любила меня чрезвычайно. Первые мои лета упражнялся я, проигрывая с крестьянскими ребятами целые дни на гумне; часто случалося, что бивал их до крови, и когда приходили они к учителю (который был старый дьячок нашего прихода), то он отгонял их. Бабушка моя под жесточайшим гневом запретила ему ниже словом не огорчать меня.
Четыре года учась у этого учителя, мальчик до тринадцати лет едва выучился разбирать букварь. Тут отец хотел ему выписать француза, но бабушка воспротивилась; «так прошел еще год, которое время проводил я, резвяся с девками и играя со слугами в карты» («Всякая всячина», стр. 241, 243){59}. В письме к Фалалею отец его также вспоминает, как он, маленький, вешивал собак на сучьях и порол людей так, что родители, бывало, животики надорвут со смеха («Живописец», I, 94). В «Трутне» рассказывается о дворянине, который «ездил в Москву, чтобы сыскать учителя пятнадцатилетнему своему сыну, но, не нашед искусного, возвратился и поручил его воспитание дьячку своего прихода, человеку весьма дородному» («Трутень», стр. 125){60}. Подобными заметками исполнены все сатирические журналы 1770-х годов; но большая часть из них обращена назад, на времена прошедшие. А во время самого разгара действий сатиры все было уже так хорошо, что сами худо воспитанные вразумлялись и очень искренно сожалели о небрежности своего воспитания. Только люди старого времени продолжали держаться своих понятий и сердились на новое направление молодежи, как, например, в письме дяди к племяннику, помещенном в «Трутне» (стр. 113–120){61}.
Ты подавал большие надежды отцу, – пишет дядя, – потому что до двадцати лет жил дома и не читал книг, совращающих с пути истины, а занимался часовником и житиями святых. Куда это все девалося? Сказывали мне, будто ты по постам ешь мясо и, оставя священные книги, принялся за светские. Чему ты научишься из тех книг? Вере ли несомненной, любви ли к богу и ближним, надежде ли быти в райских селениях, в них же водворяются праведники? Нет, от тех книг погибнешь ты невозвратно. Я сам грешник, ведаю, что беззакония моя превзыдоша главу мою; знаю, что я преступник законов, что окрадывал государя, разорял ближнего, утеснял сирого, вдовицу и всех бедных, судил на мзде; и, короче сказать, грешил и, по слабости человеческой, еще и ныне грешу; но не погасил любви к богу, исповедаю бо его пред всеми творцом всея вселенныя… и пр.
Затем дядя перечисляет свои бдения, посты и молитвы и опять переходит к брани на ученье, из которого происходит только гордость… Все это, разумеется, клонится к тому, что старое невежество отживает и на место его водворяется свет знания… Это еще положительнее выражается в «Живописце». Там одна барышня говорит:
Здесь вовсе свету подражать не умеют; а все то испортили училища да ученые люди: куда ни посмотришь, везде ученый человек лишь сумасбродит и чепуху городит («Живописец», I, 63).
Не упоминаем восторженных изъявлений радости о водворении гуманных понятий волею российской Минервы; мы много их привели уже выше.
И что же? Какой успех имела в этом деле сатира, которая готова была верить, что она добивает уже остатки прежнего невежества? Действительно, обличаемые ею явления были у нас в силе еще задолго прежде. Из записок Болотова (1753–1754), из воспоминаний Данилова, родившегося в 1722 году{62}, мы видим, что так же было и за двадцать – тридцать лет ранее. Еще раньше – было, разумеется, еще хуже. Но лучше ли было и после? Вспомним рассказы наших современников о том, как шло их воспитание, в начале нынешнего столетия. Прочтите «Семейную хронику» и «Детские годы» С. Т. Аксакова, прочтите «Годы в школе» г. Вицына («Русская беседа», 1859, № 1–4), «Незатейливое воспитание», из записок А. Щ. в «Атенее» (1858, № 43–45), – не та ли же самая история повторялась у нас в частном воспитании, вплоть до француза по крайней мере?







