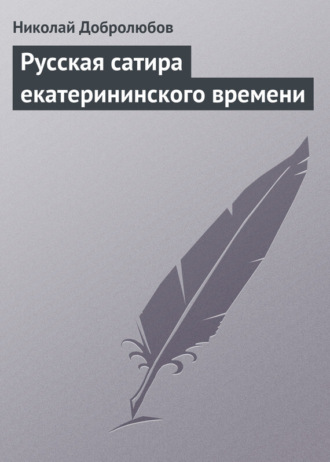
Николай Александрович Добролюбов
Русская сатира екатерининского времени
Признаемся, мы не удивляемся самоуверенности сатириков и еще менее дивимся отзывам о них г. Афанасьева. Действительно, если бы дело было только в том, чтобы уничтожить злоупотребления, опозорить людей, препятствующих правильному ходу общественной машины в том виде, как она есть, то от сатиры ничего и требовать нельзя было бы более того, что она давала при Новикове. И ежели она, в самом деле, не имела практического успеха, то не от слабости нападений на те или другие пороки: нет, на что она нападала, тому доставалось от нее очень сильно. Но слабая ее сторона заключалась в том, что она не хотела видеть коренной дрянности того механизма, который старалась исправить. Этой стороны не замечает г. Афанасьев, и потому суждения его о великой важности сатиры 1770-х годов отзываются весьма естественным преувеличением. Но стоит несколько поднять уровень нравственных требований, и мы увидим, что и новиковская сатира была еще очень слаба и занималась менее важными предметами, оставляя в стороне главные и существенные. Чтобы не пускаться в далекие рассуждения, возьмем пример. В журналах Новикова было много обличений против жестоких помещиков. Это было очень хорошо и сообразно с намерениями государыни, находившей, что злоупотребления помещичьей власти составляют страшное зло и служат поводом ко многим беспокойствам в государстве. Но весьма немногие из тогдашних сатир брали зло в самой его сущности; немногие руководились в своих обличениях радикальным отвращением к крепостному праву, в какой бы кроткой форме оно ни проявлялось. А еще это один из наиболее простых и ясных вопросов, и новиковская сатира его поставила много лучше других. В отношении к другим условиям, составляющим основу общественного быта, сатирики еще легче скользили по поверхности… Принявши аксиому, что
……………… Законы святы.
Да исполнители – лихие супостаты{44} —
они все темные явления русской жизни считали противозаконным исключением и очень часто ссылались, для подкрепления своих обличений, на вновь изданные указы. Таким образом, они сами ставили свою деятельность в зависимость от существовавшей тогда администрации, и, следовательно, все основные недостатки в организации русского общества, незамеченные, а иногда даже и освященные законом, избегали и пера сатириков… Этим-то и объясняется то, на первый взгляд очень странное, явление, что сатира тогдашнего времени, при своей резкости, благородстве и постоянном соответствии с правительственными мерами, ничего, однако же, не исправила и не переделала. Человека, который свалился с ног от тяжелой болезни, она хотела заставить ходить, расправляя его ноги разными специями… Разумеется, старания ее должны были остаться безуспешными.
Чтобы видеть, до какой степени бесполезны в практическом отношении все нападки на частные проявления зла, без уничтожения самого корня его, мы можем представить теперь несколько примеров того, как поставлен был сатирою екатерининского времени вопрос об отношениях крестьян и помещиков. В настоящее время, когда крестьянский вопрос рассматривается уже правительством во всей его обширности, можно, кажется, совершенно спокойно и безбоязненно повторить то, что говорилось, почти за столетие назад, лучшими людьми времен Екатерины. Притом же характер этих обличений таков, что они имеют теперь уже только историческое значение, и если кто решится увидеть в них какое-нибудь отношение к современности, тот докажет только, что он целым столетием опоздал родиться…
В приведенном выше письме Трифона Панкратьича мы уже видели, что жестоким помещиком является человек старого временя, с отсталыми понятиями, жалующийся на то, что невежество и грубость уже отжили свой век в царствование Екатерины. Такой же точно господин является в «Трутне» (1769 года, стр. 202–208, 233–240), в «отписках» крестьян своему барину и в копии с его господского «указа». Эти документы так хорошо написаны, что иногда думается: не подлинные ли это? Вот выписка из крестьянской отписки:
Государю Григорью Сидоровичу.
Бьют челом *** отчины твоей староста Андрюшка со всем миром.
Указ твой господской мы получили, и денег оброчных с крестьян на нынешнюю треть собрали: с сельских ста душ – 123 рубли 20 алтын; с деревенских 50 душ – 61 рубль 17 алтын; а в недоимке за нынешнюю треть осталось на сельских 26 рублей 4 гривны, на деревенских 13 рублей 49 копеек; да послано к тебе, государь, прошлой трети недоборных денег с сельских и деревенских 43 рубли 20 копеек; а больше собрать не могли: крестьяне скудны, взять негде, нынешним годом хлеб не родился, насилу могли семена в гумна собрать. Да бог посетил нас скотским падежом, скотина почти вся повалилась; а которая и осталась, так и ту кормить нечем, сена были худые, да и соломы мало, и крестьяне твои, государь, многие пошли по миру. Неплательщиков по указу твоему господскому на сходке сек нещадно, только они оброку не заплатили, говорят, что негде взять. С Филаткою, государь, как поволишь? денег не платит, говорит, что взять негде; он сам все лето прохворал, а сын большой помер, остались маленькие робятишки; и он нынешним летом хлеба не сеял, некому было землю пахать, во всем дворе одна была сноха, а старуха его и с печи не сходит. Подушные деньги за него заплатит мир, видя его скудость; а за твою, государь, недоимку по указу твоему продано его две клети за три рубли за десять алтын; корова за полтора рубли, а лошади у него все пали, другая коровенка оставлена для робятишек, кормить их нечем: миром сказали, буде ты его в том не простишь, то они за ту корову деньги отдадут, а робятишек поморить и его вконец разорить не хотят. При сем послана к милости твоей Филаткина челобитная, как с ним сам поволишь, то и делай; а он уже не плательщик, покуда не подрастут робятишки; без скотины да и без детей наш брат твоему здоровью не слуга. Миром, государь! тебе бьют челом о завладенной у нас Нахрапцовым земле, прикажи ходить за делом: он нас здесь разоряет и землю отрезал по самые наши гумна, некуда и курицы выпустить; а на дело по указу твоему собрало тридцать рублев и к тебе посланы без доимки; за неплательщиков положили тяглые, только прикажи, государь, добиться по делу. Нахрапцов на нас в городе подал явочную челобитную, будто мы у него гусями хлеб потравили, и по тому его челобитью была за мною из города посылка. Меня в отчине тогда не было, посыльные забрали в город шесть человек крестьян, в самую работную пору, и я, государь, в город ездил, просил секретаря и воеводу, и крестьян ваших выпустили, только по тому делу стало миру денег шесть рублев, воз хлеба да пять возов сена. Нахрапцов попался нам на дороге и грозился нас опять засадить в тюрьму. Секретарь ему родня, и он нас очень обижает. Отпиши, государь, к прокурору: он боярин доброй, ничего не берет, когда к нему на поклон придешь, и он твою милость знает, авось либо он за нас вступится и секретаря уймет; а воевода никаких дел не делает, ездит с собаками, а дела все знает секретарь. Вступись, государь, за нас, своих сирот; коли ты за нас не вступишься, так нас совсем разорят, и Нахрапцов всех нас пустит в мир. Да еще твоему здоровью всем: миром бьют челом о сбавке оброчных денег, нам уже стало невмоготу; после переписи у нас в селе и в деревне померло больше тридцати душ, а мы оброк платим всё тот же; покуда смогли, так мы таки твоей милости тянулись, a ныне стало уже невмочь. Буде не помилуешь, государь, то мы все вконец разоримся: неплательщики век прибавляются, и я по указу твоему сбор делал всякое воскресение, и неплательщиков секу в сходе, только им взять негде, как ты с ними не поволишь. Еще твоей милости доношу, ягоды и грибы нынешним летом не родились, бабы просят, чтобы изволил ты взять деньгами, по чему укажешь за фунт; да еще просят, чтобы за пряжу и за холстину изволил ты взять деньгами. Лесу твоего господского продано крестьянам на дрова на семь рублев с полтиною; да на две избы, по десяти рублев за избу. И деньги, государь, все с Антошкою посланы. При сем еще послано штрафных денег с Ипатки за то, что он в челобитье своем тебя, государь, оболгал и на племянника сказал, будто он его не слушался, и затем с ним разошелся, взято по указу твоему тридцать рублей. С Антошки за то, что он тебя в челобитной назвал отцом, а не господином, взято пять рублев, и он на сходке высечен. Он сказал: я-де это сказал с глупости, и напредки он тебя, государя, отцом называть не будет. Дьячку при всем мире приказ твой объявлен, чтобы он впредь так не писал. Остаемся рабы твои староста Андрюшка со всем миром земно кланяемся.
За этою отпискою помещено слезное прошение Филатки, о котором говорится в отписке старосты, а затем напечатана «копия с помещичьего указа», в котором чрезвычайно ярко выражаются бесчеловечность и невежество помещика. Никакие человеческие чувства его не трогают, никакие страдания не возбуждают в нем жалости, никакие резоны не внушают ему здравого распоряжения. Он привык действовать совершенно произвольно и тот же произвол передает человеку своему, Семену Григорьеву, которого посылает в деревню для распоряжений. Вот выдержки из его указа, напечатанного в «Трутне»:
КОПИЯ С ПОМЕЩИЧЬЕГО УКАЗА
Человеку нашему Семену Григорьеву!
Ехать тебе в *** наши деревни, и по приезде исправить следующее:
1) Проезд отсюда до деревень наших и оттуда обратно иметь на счет старосты Андрея Лазарева.
2) Приехав туда, старосту при собрании всех крестьян высечь нещадно за то, что он за крестьянами имел худое смотрение и запускал оброк в недоимку, и после из старост его сменить; да сверх того взыскать с него штрафу сто рублей.
3) Сыскать в самую истинную правду, как староста и за какие взятки оболгал нас ложным своим докладом? За то прежде всего его высечь, а потом начинать следствием порученное тебе дело.
4) Старосты Андрюшки и крестьянина Панфила Данилова, по коем староста учинил ложный донос, обоих их домы опечатать и определить караул; а их самих отдать под караул в другой дом.
5) Если ж в чем-либо будут они чинить запирательство, то объяви им, что они будут отданы в город для наказания по указам.
6) И как нет сумнения, что староста донос учинил ложной, то за оное перевесть его к нам на житье в село ***; буде же он за дальним расстоянием перевозиться и разорять себя не похочет, то взыскать с него за оное еще пятьдесят рублей.
7) Сколько пожитков всякого звания осталося после крестьянина Анисима Иванова и получено крестьянином Панфилом Даниловым, то все с него, Данилова, взыскать и взять в господский двор, учиня всему тому опись.
8) Крестьян в разделе земли по просьбе их поравнять по твоему благорассуждению; но притом, однако ж, объявить им, что сбавки с них оброку не будет и чтобы они, по делая никаких отговорок, оный платили бездоимочно… неплательщиков же при собрании всех крестьян сечь нещадно.
9) Объявить всем крестьянам, что к будущему размежеванию земель потребно взять выпись; и для того на оное собрать тебе со крестьян, сколько потребно будет, на взятье выписи.
10) В начавшийся рекрутский набор с наших деревень рекрута не ставить; ибо здесь за них поставлен в рекруты Гришка Федоров, за чиненные им неоднократно пьянствы и воровства вместо наказания, а со крестьян за поставку того рекрута собрать по два рубли с души.
11) За ложное показание Панфила Данилова и утайку свойства других взять с него, вменяя в штраф, сто рублев; а его перевесть к нам в село *** на житье; а когда он просить будет, чтобы полученные им неправильно пожитки оставить у него и его оставить на прежнем жилище, то за оное взыскать с него, опричь штрафных, двести рублев.
12) По просьбе крестьян у Филатки корову оставить, а взыскать за нее деньги с них; а чтобы они и впредь таким ленивцам потачки не делали, то купить Филатке лошадь на мирские деньги; а Филатке объявить, чтобы он впредь пустыми своими челобитными не утруждал и платил бы оброк без всяких отговорок бездоимочно.
13) Старосту выбрать миром и подтвердить ему, чтобы он о сборе оброчных денег имел неусыпное попечение и неплательщиков бы сек нещадно, буде же какие впредь явятся недоимки, то оное взыскано будет все со старосты.
14) За грибы, ягоды и пр. взять с крестьян деньгами.
15) Выбрать шесть человек из молодых крестьян и привезть с собою для обучения разным мастерствам.
16) По исправлении всего вышеписанного ехать тебе обратно; а старосте накрепко приказать неусыпное иметь попечение о сборе оброчных денег.
«Трутень» ничего не прибавляет от себя к этому указу; но смысл его ясен сам по себе: в нем обличается бесчеловечное обхождение помещика с крестьянами, или, говоря иначе, «злоупотребление помещичьей власти». Вслед за «указом» Григорья Сидорыча в «Трутне» помещен рецепт Злораду (стр. 211), думающему, «что слуг, ему подчиненных, к исполнению своих должностей ничем иным принудить невозможно, как строгостию или паче зверством и жестокими побоями. Дли сей причины подчиненных ему слуг и за самомалейшие слабости и оплошности наказывает зверски… Одевает, обувает и кормит он своих слуг весьма худо, утверждая, что когда сии безумия его несчастные невольники чувствуют голод и холод, тогда ежеминутно памятуют они свое рабство и, по его мнению, следовательно, тем побуждаются к исполнению своих должностей. Любовь к человечеству он опровергает, но утверждает, что рабам жестокость и наказание так, как дневная пища, необходимо нужны. Надлежит думать, что он имеет сердце, напоенное лютым зверством и жестокостью, когда не слышит вопиющего гласа природы: и рабы человеки!» Этому Злораду прописывается рецепт: «чувствований истинного человечества три лота; любви к ближнему два золотника и соболезнования к несчастию рабов – три золотника». В «Трутне» же помещен был и другой рецепт – для г. Безрассуда (стр. 188–190), отличающийся тенденцией), довольно радикальною для того времени. Приведем его вполне:
Безрассуд болен мнением, что крестьяне не суть человеки, но крестьяне; а что такое крестьяне, о том знает он только потому, что они крепостные его рабы. Он с ними точно так и поступает, собирая с них тяжкую дань, называемую оброк. Никогда с ними не только что не говорит ни слова, но и не удостоивает их наклонения своей головы, когда они, по восточному обыкновению, пред ним по земле распростираются. Он тогда думает: Я господин, они мои рабы, они для того и сотворены, чтобы, претерпевая всякие нужды, и день и ночь работать и исполнять мою волю исправным платежом оброка; они, памятуя мое и свое состояние, должны трепетать моего взора. В дополнение к сему прибавляет он, что точно о крестьянах сказано – в поте лица твоего снеси хлеб твой. Бедные крестьяне любить его как отца не смеют, но, почитая в нем. своего тирана, его трепещут. Они работают день и ночь, но со всем тем едва-едва имеют дневное пропитание, затем что насилу могут платить господские поборы. Они и думать не смеют, что у них есть что-нибудь собственное, но говорят: это не мое, но божие и господское. Всевышний благословляет их труды и награждает, а Безрассуд их обирает. Безрассудный! разве забыл то, что ты сотворен человеком, неужели ты гнушаешься самим собою, во образе крестьян, рабов твоих? разве не знаешь ты, что между твоими рабами и человеками больше сходства, нежели между тобою и человеком? Вообрази рабов твоих состояние, оно и без отягощения тягостно: когда же ты гнушаешься теми, которые для удовольствования страстей твоих трудятся почти без отдохновения… то подумай, как должны гнушаться тобою истинные человеки, человики господа, господа отцы своих детей, а не тираны своих, как ты, рабов. Они гнушаются тобою, яко извергом человечества, преобращающим нужное подчинение в иго рабства. Но Безрассуд всегда твердит: я господин, они мои рабы; я человек, они крестьяне.
От сей вредной болезни рецепт: Безрассуд должен всякой день по два раза рассматривать кости господские и крестьянские до тех пор, покуда найдет он различие между господином и крестьянином.
Рецепт заставляет думать, что у автора была идея о несправедливости человеческой власти вообще. «Крестьяне суть тоже человеки и даже более похожи на людей, чем иные помещики; а человеку человеком владеть как вещью – не должно». Таковы, кажется, его основные мысли. Но, всматриваясь пристальнее, находим, что и здесь была на уме у автора только отвлеченная мораль, потому что он тут же восхваляет «человеков господ, господ отцов своих детей, а не тиранов своих рабов». Следовательно, и в этой статейке та же последовательность, которою страдает вообще сатира прошлого столетия. Вместо прямого вывода: «крестьяне тоже человеки, следовательно, помещики не имеют над ними никаких прав», подставлен другой, очень неполный: «крестьяне тоже человеки, следовательно, не нужно над ними тиранствовать».
Гораздо далее всех обличителей того времени ушел г. И. Т., которого «Отрывок из путешествия» напечатан в «Живописце» (стр. 179–193). В его описаниях слышится уже ясная мысль о том, что вообще крепостное право служит источником зол в народе. Вот начало этого отрывка:
Я останавливался во всяком почти селе и деревне, ибо все они равно любопытство мое к себе привлекали; но в три дни сего путешествия ничего не нашел я похвалы достойного. Бедность и рабство повсюду встречалися со мною в образе крестьян. Непаханые поля, худой урожай хлеба возвещали мне, какое помещики тех мест о земледелии прилагали рачение. Маленькие, покрытые соломою хижины из тонкого заборника, дворы, огороженные плетнями, небольшие одоньи хлеба, весьма малое число лошадей и рогатого скота – подтверждали, сколь велики недостатки тех бедных тварей, которые богатство и величество целого государства составлять должны…
Не пропускал я ни одного селения, чтобы не расспрашивать о причинах бедности крестьянской. И, слушая их ответы, к великому огорчению всегда находил, что помещики их сами тому были виною. О человечество! тебя не знают в их поселениях. О господство! ты тиранствуешь над подобными тебе человеками. О блаженная добродетель любовь, – ты употребляешься во зло: глупые помещики сих бедных рабов проявляют тебя более к лошадям и собакам, а не к человекам! («Живописец», стр. 179–180){45}.
Далее следует описание возмутительной бедности и грязи, в которой живут крестьяне деревни Разоренной. Между прочим, смотря на плачущих младенцев, брошенных без призора, г. И. Т. восклицает: «Кричите, бедные твари, произносите жалобы свои! Наслаждайтесь последним сим удовольствием во младенчестве: когда возмужаете, тогда и сего утешения лишитесь!» (стр. 185). Затем автор пускается в размышления о том, как нелепо судьба распоряжается людьми: праздношатающиеся «любимцы Плутовы» веселятся, обремененные всевозможными гадостями, а труженики крестьяне страдают за тяжелой работой, да и то не для себя. Вот некоторые из его сближений:
Между тем солнце, совершив свое течение, погружалось в бездну воды, и сама природа призывала всех от трудов к покою. Между тем богачи, любимцы Плутовы, препроводя весь день в веселии и пированиях, к новым приготовлялися увеселениям… Худой судья и негодный подьячий веселились, что в минувший день сделали прибыток своему карману и пролили новые источники невинных слез… Игроки собирались ко всеночному бдению за карточными столами и там, теряя честь, совесть и любовь к ближнему, приготовлялись обманывать и разорять богатых простячков всякими непозволенными способами. Другие игроки везли с собою в кармане труды и пот своих крестьян целого года и готовились поставить на карту. Купец веселился, считая прибыток того дня, полученный им на совесть, и радовался, что на дешевый товар много получил барыша. Врач благодарил бога, что в этот день много было больных, и радовался, что отправленный им на тот свет покойник был весьма молчаливый человек. Стряпчий доволен был, что в минувший день умел разорить зажиточного человека и придумать новые плутовства для разорения других по законам. А крестьяне, мои хозяева, возвращалися с поля, в пыли, в поте, измучены, и радовалися, что для прихотей одного человека все они в прошедший день много сработали! (стр. 188–190){46}.
Тирада эта очень резка, и, кажется, тогдашнее благочиние вообще строго посмотрело на эту статью. Некоторых мест из нее даже нельзя было напечатать. В одном месте издатель делает примечание: «Я не включил в сей листок разговоров путешественника с крестьянином по некоторым причинам: благоразумный читатель и сам их отгадать может». Видно, и в то время существовали «некоторые причины», мешавшие писателю говорить откровенно всю правду, как скоро он удалялся от тех покровов, под которыми ратовала тогдашняя сатира вообще. Следы боязни полной гласности попадаются и в других местах сатирических журналов. В защиту «Отрывка» Новиков поместил в «Живописце» особую статью{47}, в одном место которой находим такое примечание: «Тут следовали многие другие упрекания, относящиеся к худым помещикам, но я их исключил, опасаясь навлечь на себя сугубое негодование» (стр. 71). В «Трутне», в числе сатирических ведомостей, есть такое объявление: «Издателю «Трутня», для наполнения еженедельных листов, потребно простонародных басен и сказок: ибо из присылаемых к нему сатирических пьес многих не печатают; а напечатанные без всякого стыда многие принимают на свой счет и его злословят за то повсеместно» (стр. 142){48}. Из этого можно видеть, что противодействие невежественных и сильных обскурантов много вредило в то время свободе слова и писатели только и могли защищаться дозволением и милостию монархини. Но Екатерине, несмотря на обнаруженную ею любовь к литературе, иное могло быть представлено в превратном виде; иным авторам могли быть в ее глазах приписаны неблагонамеренные тенденции, и тогда уже нельзя было рассчитывать на ее защиту. Известны два анекдота о Державине: один – о «Фелице», другой – о переложении псалма 81-го. «Фелица», этот «хитросложенный пук хвалы», как выразилась однажды сама Екатерина, сделалась известною императрице случайно{49}, и Державин пришел в ужасное беспокойство, потому что в этой «оде» были намеки на Потемкина, Алексея Орлова, Нарышкина и других важных лиц. Но само собою разумеется, что Екатерина не могла разгневаться на пьесу, которая начиналась обращением к ней: «Богоподобная царевна!» и оканчивалась стихами:







