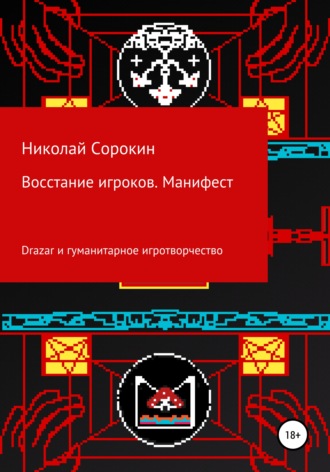
Николай Максимович Сорокин
Восстание игроков. Манифест
И так понимая алкоголизм как игровое поведение можно увидеть, что оно находит отклик в душе на переживании, что характерно, первых трёх чувств, приводимых Рудольфом Штайнером, и как нетрудно догадаться, переживание таких чувств свойственны не только человеку, но и животному. Но животным свойственен не только «алкоголизм», то есть в данном случае «намеренное желание собственного одурманивания для влияния на чувство равновесия»: вообще в принципе животным свойственны игры, опять-таки, в бесконечном множестве проявлений для каждого вида по отдельности. Всякое тело есть игровое пространство, неодушевлённое оно или одушевлённое, – таков принцип игр с элементом выпадения счастливого случая; «участие по собственной воле» же вопрос «идеальной» игры, – той, в которой актор становится игроком, а не зрителем, судьёй, «изготовителем компонентов», невольно-льющим дождём, самим компонентом, или кем-либо ещё. Можно загадать «найти бутылку пива» и её найти – вопрос игры счастливого случая (стоит помнить, что для этого требуется привести себя в движение – это требуется чисто логически для игр с «выпадением»), а можно выпить найденную бутылку пива с целью найти ещё, – вопрос примитивной магии.
«В чувстве обоняния, -продолжает нам описывать Рудольф Штайнер,– мы приходим в значительно большую связь с внешним миром, чем в осязании; настолько большую, что соединяемся с его веществами, находящимися в газообразном состоянии. Однако и здесь преобладающим остается опыт, который мы получаем относительно самих себя. Мы испытываем некий натиск на нас внешней материи, и реакцию нашего "я" на этот натиск мы переживаем как обоняние. В результате в нас рождается образ от полученного опыта восприятия. Таково существенное отличие обоняния и последующих чувств от осязания. – В них возникают не скрытые суждения, а образы окружающего мира. В логике созерцание привело нас к восприятию идеи из объекта. В восприятиях чувств скрытое суждение метаморфизируется в образ. Образ же – это чувственный представитель сверхчувственного. Все мифологическое мышление древних было образным, основанным на имагинативных переживаниях. Из них родилась творческая фантазия. В восприятиях чувств, дающих образы мира, к нам из чувственного возвращаются застывшие в нем имагинации. О том, что они же есть и идеи, свидетельствует обоняние». Здесь же можно увидеть, что существуют, если угодно, «идейные» (игры на счастливый случай, например, где идея есть «счастье») и «не-идейные» игры («катание на санках», «русские горки», и тому подобные игры, определяющиеся Кайуа как «Ilinx» («Vertigo»)), основанные на некоторых чувствах ощущающей души. Борьба, метание снарядов, и прочие виды деятельности таким образом суть игры сродни кружению на одном месте или потреблению мухоморов- до тех пор, пока такую деятельность «идейно» не учредят в игровую традицию или праздничную форму. Если бы животные понимали, что для победы в играх им нужны тренировки, они бы непременно начали тренироваться (в ином случае для чего тренировки нужны?), а потому можно отличить безыдейную борьбу котят от борьбы идейной: и то и другое при этом относится к играм, что прямо указывает, что Суть Игры лежат до человеческого «я», «Я» и «не-Я».
«Время» и «пространство» за счёт выявления идей переходит в ту обналиченную реальность игры, которую принято «отграничивать» от «реального мира»: вдруг начинает казаться, что «игры» ничего не «производят» и после них «ничего не остаётся». Хорошо, но, когда человек моется он также ничего не производит, – только тратит ресурсы ради того, чтобы выйти из ванной и снова испачкаться, и все результаты, как по завершению партии, нивелируются. А мог бы пойти на завод и заняться полезной деятельностью, ведь «завод» и есть «реальный мир», что всеобъемлет человеческую волю. Очень толсто в таких измышлениях прослеживается дух модерна. Игра, несомненно, ничего не производит в модернистском понимании, но производство и не требовалось человечеству в своих древних формах на том же уровне что и сейчас; как, собственно, игре не требуется наличие победы чтобы провести игровую партию: спеть песню, выпить чарочку, погадать на птицах, сесть у небольшого сквозняка пока не спадёт солнечная жара, сорвать и съесть яблоко, – и нигде здесь нет ничего на подобии ГОСТ или «профессиональной этики»; стоит-ли говорить, что перечисленные игры могут проходить одновременно? После них действительно ничего не останется, ни воздвигнутых храмов, ни чехословацких табуреток, – и после смерти человека человек не останется живым человеком; и само зачатие человеческое также навряд ли можно назвать «производством». Одновременное выпадение счастливых событий есть познаваемое человеческим духом чудо того, что даже ничего не производя он обладает полным правом на жизнь в счастье: вместе со всеми на равных.
Здесь можно поэтому выявить три типа выпадения счастливого случая: 1) причинно-следственное воздействие одушевлённого объекта на неодушевлённый; 2) причинно-следственное воздействие одушевлённого объекта на одушевлённый объект; 3) мистическое, то есть непостижимое разумом или неустановимое причинно-следственно воздействие некоторого фактора на одушевлённый или неодушевлённый объект. При этом, по очевидным причинам, одно выпадение не отрицает другое. Их одновременное выпадение (выглянуло Солнце, добавили время, вратарь угадал с пенальти) и определяет притягательную эстетику быть фанатом, или хотя бы наблюдающим за игрой. Массовое переживание выпадения счастливого случая «балансируется» массовым переживанием рока со стороны болельщиков, с другой стороны. Суметь явить миру игру, в которой на одном стадионе сойдутся одновременно три команды – значит подготовить социологам новую почву для исследований «культуры» болельщиков. Это при том, что сама игра не будет соприкасаться с выпадением счастливого случая почти что полностью.
И так, и игры на «головокружение» и игры «выпадения счастливого случая» лежат до человеческой природы мышления, при этом в отличии от «головокружения», «счастье», «удача», «судьба», – суть идея, прямо сама собой себя же и обозначающая в играх. Поэтому «азартные» игры есть игры субстанциональные, то есть игры «в себе» и не распространяющиеся «вне себя». Множественное разнообразие азартных игр, чей «миф» – суть счастье, сами собой являют общественную культуру, завязанную на образе «колеса фортуны». «Головокружительные» игры суть игры без идей, потому здесь утверждается, что об их субъекции можно заверить как об играх не «головокружения», а чистой биологической необходимости. Поэтому искать «идеи» в играх, придуманных не-человеком, – суть чистая фантазия о Божественных планах творения; пространством и временем в восприятии потенциальных «идей» таких игр становится не биология, но вся природа: поэтому мы и получаем поэтические образы «игра бликов на воде», и т.п. Созидая таким образом «идеи» игр чистой биологической необходимости до игр всей природы, то есть проделывая с помощью собственной фантазии путь от одушевлённого мира до мира всей вселенной, можно получить в конечном итоге идею о единой мировой душе. Её можно получить, несомненно, и другим путём, сейчас, если угодно, я просто фантазирую, как обыкновенный поэт. ИГРАЮСЬ смыслами, так сказать. Сейчас же здесь утверждается, что пространство и время «головокружительных» игр проистекает внутри и во вне всей биологической необходимости, и созидая такие игры, пространство и время распространяется на всю природу, то есть всякую субъекцию. Пространство и время «азартных» игр лежит внутри всякой материи приведённой в движение, – и данное не установимо не разделяя идею счастья от всякого простого природного движения. Одна другую игру не отрицает, – мало того, «фортуна» как идея о «единой мировой душе» даже дополняет картину всякого азартного игрока; «фортуна» же при этом здесь имеется в виду как следствие того, что событие на вас влияющее произошло без вашего контроля. И то, всякий рок культурно можно объяснить чёрной магией и порчей. В чистом воле случая всё что не победа (выпадение желанного) есть проигрыш: а победу нужно пожелать и обозначить.
И таким образом разговор о пространстве и времени игр подходит к оставшимся двум традиционно-обозначаемым элементам игр ранее здесь незатронутых: «искусность» и «подражание».
Собственно, «искусность» есть такой игровой элемент, который по своему обыкновению понимается как нечто, что приводит к желаемому результату посредством собственных, или командных усилий, по отношению только к себе, или к миру, противопоставленному искусному актору. С этим определением согласиться я не могу по следующей причине: как было сказано ранее, борьба котят отличается от профессиональной борьбы не только тем, что борьба лосей также отличается от профессиональной борьбы, но именно тем, что человек и человечество в целом отдаёт себе отчёт об определяющих факторах победы, – именно поэтому такой человек может посвятить свою жизнь занятию борьбой не полагаясь на счастливый случай, но на чётко-обозначенные позиции, как пример: побеждает не сила удара, а удушающий захват в партере. Не обязательно говорить о борьбе: побеждает не сила удара по струнам, но ловкость пальцев аккорды зажимающих. Этим образом можно отличить музыкальный акт-перфоманс художника от обыкновенной лающей собаки. Всякая игра искусна если её актор не только пользуется её механизмами, но еще понимает как эти механизмы устроены, и что именно определяет достигаемый результат. То есть «искусность» есть фактор, непременно определяющий потенцию игры как форму профессиональной деятельности (которая, кстати, до сих пор «ничего не производит» по разумению Кауйа). Однако существует некоторый примечательный момент. Здесь я утверждаю, что структура «чтобы быть чистым нужно мыться (чиститься)» – суть искусная игра, однако «чтобы быть мокрым нужно намокнуть» также является искусной игрой; можно стать как профессиональным деятелем чистящим (моющим) других (то есть в принципе всяким деятелем, как-либо связанным с гигиеной), а можно стать профессиональным «намокателем»: например, можно посвятить жизнь потению и ежегодно готовиться к соревнованиям по потовыделению. Поэтому здесь измышления Канта о том, что без метафизики всякий труд будет иметься соблазн превратить в игру2 перестают иметь свою судительную силу. Без «критики чистого разума» не появились бы искусные игры.
Как тонко заметил Кант, до него за те или иные «метафизические» измышления в исторической ретроспективе отвечали формы религиозных институтов, – этим можно объяснить и изрядный символизм Олимпийских игр, описываемых Юлиусом Эволой в «Восстание против современного мира», и тот же настольный Сенет, и множество «традиционных», обрядовых и магических игр, приводимых этнографами и антропологами (взять хотя бы Дж. Фрэзера и его «Золотую ветвь»). По той причине что религиозная метафизика тесно соотносится с религиозной культурой и мифологическим мышлением можно говорить об «идейной» «искусной» игре как игрой или «сакральной», то есть в которую играют по каким-то особым поводам, или «профанной», то есть такой, в которой можно избежать цельного религиозного комплекса и оставить только профессионализм, – данное себе однозначно могут позволить дети (особенно в тех обществах, где сакральное раскрывается только со взрослением, в обрядах посвящения). Тем самым всякая искусная игра есть один из доступнейших аппаратов для вертикальной социальной мобильности (и, соответственно, для всякой самореализации и всякого самоутверждения себя в обществе как профессионала). Однако, говоря о религиозных формациях как носителей до-Кантовской метафизики не стоит также стороной обходить и до-Кантовских мыслителей и философов, особенно тех, кто намеренно посвятил свои работы всякому искусству, – то есть изучению и реализации такой профессиональной игровой деятельности, которая рассчитана на тонкие, субъективные восприятия человека с целью (если разуметь со стороны традиционного взгляда) позитивного воздействия на них же, и на последующее развитие потенции воспринимать искусство, – «всё прекрасное». «Игровые» стадионы эпохи модерна и постмодерна (факт, что подтвердить может едва-ли не каждый первый ценитель искусства (категоричное суждение, основанное на эмпирическом опыте)), – лишены в себе всякой, собственно «искусной» реализации, что позитивно воздействует на чувства прекрасного: не академическая, а массовая музыка; не живопись, а дизайн, и т.п. Однако за этим не следует, что такие стадионы лишены своей эстетики. Всякое пространство обладает своей эстетикой во времени.
Таким образом всякая искусная игра есть потенциальная профессиональная деятельность; искусство – это такая любая искусная игра, которая воздействует (сейчас – не имеет значения, а раньше – «положительно») на чувства всякого живого организма (особенного такого, что обладает центральной нервной системой). И если искусно-приготовленный алкоголь может положительно оценить (стимул-реакция) всякое животное обладающее чувством вкуса и чувством равновесия, или искусно-написанное музыкальное произведение – всякое животное, что обладает чувством слуха, то при этом ни одно животное не сможет осознать причину её искусности: не воспроизводить комплекс блюд или партитуры, а самой постичь искусство музыки и кулинарии. Если «искусная» игра не подразумевает какую-то собственную профессиональную эстетику «вне» игры (профессиональная форма, профессиональная музыка и т.д.), эту эстетику реализует счастливый случай.
Пространство всякой потенциальной профессиональной игровой деятельности («искусной») определяется в прямой зависимости от определяющих эту профессиональную игровую деятельность факторов, – то есть игровое пространство есть всё что прямым образом ответствует за игровую мастерскую суть: определённая группа мышц, психика актора, предметы определяющие саму суть игры и т.д. Этим образом и «кости», и «карты» становятся профессиональными атрибутами, если известно, что крапление карт и тяжесть костей прямо влияют на вероятности (крапление так почти полностью исключает идею «вероятности» и оставляет только механику раздачи карт и логику карточной игры), хотя и известно, что выпадение счастливого случая и заключение пари можно реализовывать в любой форме. Время же «искусной» партии находится в прямой зависимости от первой оплошности, после которой можно утверждать, что профессиональная игра изменила свою игровую структуру. За этим можно объявить как игровую паузу (отличать от «перерыва», «передачи хода», «завершения первого акта» и т.д.), так и окончание игры. Тем искуснее такой игрок, чем менее он производит профессиональных оплошностей, и тем искуснее игра, чем менее совершается игровых пауз.







