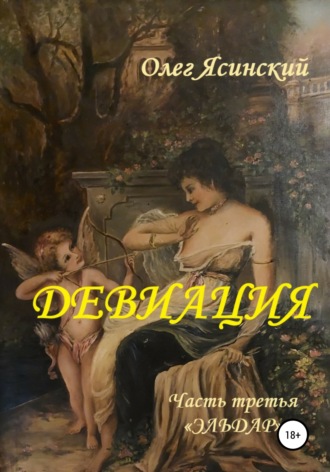
Олег Валентинович Ясинский
Девиация. Часть третья «Эльдар»
Голенькие девочки искоса поглядывали на меня. Молчали.
Сашка недовольно обернулся:
– Вы с ним играете?
Девочки молчали. Видно не по душе им была наша размолвка. Сашка хоть и красивый, и играет с ними в разные игры, но я-то с ними вырос. Я их самый лучший друг, который нежно гладил, не обижал, делился конфетами. Ещё неискушённые во взрослых забавах, когда придётся юлить и делать выбор, они хотели играть и с ним, и со мной, и до конца не понимали, в чем причина ссоры.
– Не играем! – пискнула Алка. Покосилась на Сашку, затем на меня.
Ей по титулу полагалось так ответить. Остальные молчали. Знать, не сумел разлучник до конца околдовать. Наша дружба оказалась сильнее. Сашка, не дурак, тоже понял.
– Иди вон, молокосос! – процедил Сашка. – А если кому о нас пикнешь, утоплю в озере! Понял?
Я понуро молчал.
– Понял? – злобно повторил Сашка, сжимая кулаки.
Я кивнул.
– Не слышу?
– Да…
– Громче!
– Да! – чуть не плача выкрикнул я, решая, оставаться на месте или бежать. Если б не девчонки – убежал. А так – стыдно.
Глянул на них: насупились, головки опустили. Одна Алка зло щурилась.
Я подтянул шортики, подобрал скомканный, так и не надутый резиновый круг, с которым всегда ходил купаться. Не оглядываясь, быстро пошёл от озера, сдерживаясь, чтобы не заплакать и не побежать.
За спиной доносился Сашкин бас и Алкин писк, которые, видимо, рассказывали, какой я плохой, и что со мною играть не стоит. Ну и пусть! Предательницы!
Я отошёл подальше, голоса затихли. Присел в кустах и заревел, хлюпая носом, растирая горькие слёзы по запылённой мордочке.
Было обидно, что теперь мне не с кем играть. Что меня не любят, как Сашку, потому, что я не такой красивый и сильный. И у него большой писюн, который не согнётся.
Горько всхлипывая, старался не думать о Разлучнике, но он сам лез в голову. Если не сегодня, то через день или два Сашка всё равно бы меня прогнал. По-любому прогнал, чтобы не мешал ему делать с девчонками всякие стыдные штучки. А что он будет делать – я не сомневался. Я бы на его месте делал. Но я не на его месте, а на своём: маленький, веснушчатый, неинтересный.
И так мне было обидно, и так я ревел.
Следующую неделю меня никто не навещал. Сам же к ним поклялся не идти.
Сердце щемило от обиды, что подружки меня предали, заменили на Сашку. Уже решил в Городок возвратиться, к родителям и верному Юрке, но деду с бабкой за летними заботами было не до моей печали. Мне приходилось самому играть за сараем в песчаной куче, строить крепости, прокладывать дороги и ревниво наблюдать, как на холме за селом шествует моя былая ватажка во главе с Самозванцем. Наверное, там без меня трогаются, предательницы. Больше к ним не приеду!
Я потихоньку уходил в свой одинокий мир, обида таяла, оставалось сожаление. Днём играл, а вечерами читал книжки, которые задали на лето. Больше всех меня захватила повесть «Без семьи» о мальчике Реми, который бродил по свету и ему встречались настоящие друзья. Реми влюбился в немую девочку Лизу – дочь садовника Акена. Они вместе играли, трогались и целовались (это я сам придумал, потому что в детских книжках о таком не пишут), а потом, когда стали взрослыми – поженились. Если бы у меня была такая Лиза, то я бы тоже на ней поженился, пусть даже немой. Лиза из книжки никогда бы не поменяла Реми на Сашку, пусть даже красивого и киевского. Только мне теперь было без разницы. Зло решил, что когда возвращусь домой, то проколю всех предательниц между ног позорным чёрным карандашом и спалю над свечой.
А ещё я думал о Сашке. Порою, особенно перед сном, когда мир засыпал, не мельтешил перед глазами, я чувствовал, как Сашка чего-то боится. Потому и мучит девочек крапивой и больно щипает, будто прячет за этим свой страх.
Я думал о причине Сашкиной боязни. Сначала решил, что он ребят старших испугался, которые его побили. Но там не было страха, лишь ненависть и желание отомстить. Сашка боялся чего-то очень сильного, громадного. Я так и не додумался – чего.
Зато Змейка подсказывала: это сильное-громадное хочет его достать, ищет, но не находит. И тогда я решил подсказать неведомому Чудищу, где Сашка, чтобы оно нашло его и забрало от моих девчонок, а лучше съело.
Попросил Змейку дотронуться до того неведомого, ищущего – будто протянуть невидимую ниточку, – а сам начал представлять Сашку, как прорисовывать: вихрастый чуб, красивое лицо, в которое предательницы влюбились, широкие плечи, бугристые руки, здоровую колбасу (последнего можно было не представлять, но оно само лезло в голову, потому как наибольше мучило).
Представил дом Сашкиной бабушки. Затем табличку на углу дома с названием улицы и цифрой. Затем дорогу: сначала грунтовую, которая ведёт от нашего переулка до центральной булыжной улицы, потом эту улицу, петляющую по селу, дальше – по полям, аж до самой асфальтовой трассы на Киев.
Он тут! Он тут! – повторял я, как заклинание. – Найди его. Забери его, Чудище! И при этом видел тоненькую серебряную нить, которая появляется из моей макушки, ныряет в приоткрытую форточку и уходит в ночное небо, покрытое большими июльскими звёздами.
Так представлял и шептал пять ночей, но горе моё нисколечко не уменьшилось. Сашка, как и прежде, собирал предательниц у себя во дворе. Я слышал их смех, даже видел сквозь щёлку в дощаном заборе. А потом они вместе отправлялись по своим интересным делам.
Мне опять стало обидно. Теперь обижался ещё и на Змею, которая не могла отправить Сашку к неведомому Чудищу.
Всеми забытый и ненужный, я пуще прежнего разогорчался. Уже не хотел строить песчаные замки, даже читать не мог. Сидел целыми днями в зарослях крапивы за дровяным сараем, наблюдал копошение разновидных жуков-червячков, мечтая превратиться в одного из них, чтобы спокойно жить в уютном невидимом мире, а не страдать от жестокой обиды.
И тут, спустя неделю, грустное моё одиночество нарушила одна из предательниц.
Пришла ко мне Маринка. Она была местная, на год старше, в сентябре станет четвероклашкой. Когда мы, ещё до Сашки, гуляли ватагой, то Маринка ничем не выделялась среди остальных девочек, разве что больше других обижалась на Алку, которая уводила меня в кусты и долго не отпускала.
Теперь была Маринка испуганной и виноватой, как побитая собачонка.
Я притворился обиженным, на Марину не смотрел. Хотел развернуться и уйти в хату, но в груди приятно защекотало: не забыла, не смогла без меня. Знать, не такой Сашка всесильный, хоть и красивый.
Торопливо сбиваясь, Маринка рассказала, что покинула ватажку. Теперь она с ними не играет, поскольку там все – дураки, а хочет играть со мною, потому, что я хороший. А ещё обижалась, что Алка её подговорила, будто Сашка лучше, что он большой и увезёт девчонок в город, в зоопарк. Но это брехня, так как Сашка плохой и злой, и по-настоящему любит Алку, целуется с нею, а остальных только мучит и заставляет делать всякие противные штучки…
Маринка брезгливо скривилась, а потом, в знак примирения, протянула мне вкуснючую киевскую конфету. Я простил.
Мы разделили лакомство и пошли гулять в запущенный колхозный сад. Сначала ловили ящериц, которые оставляли нам на потеху прыгающие хвостики. Затем, ободрав коленки, мы собирали разноцветные ужачки; тут же их топтали, чтобы никто не отравился.
И я, и Маринка, молчаливо знали, зачем шли в дальний угол сада: не ради ящериц, тем более – ужачек. У нас должно было случиться настоящее примирение, о котором я думал две недели одиночества.
Мы пришли в давно разведанное укромное место меж разлогих яблонь, скрытое зарослями спутанного кустарника. Маринка сказала, что будет трогать меня первой.
Я лег на прижухлую траву, приспустил штанишки, закрыл глаза, ожидая щекотливого поглаживания травинкой.
Однако Маринка повелась необычно. Сначала, как раньше, начала гладить, но не травинкой, а рукой. Потом сдавила писюна и бысто-быстро задёргала, сдвигая шкурку, от чего становилось больно. Я чуть приоткрыл глаза, пытаясь увидеть сквозь смеженные ресницы, что она собирается делать, поскольку новые ощущения мне не понравились.
Маринка с минуту подёргала, затем наклонилась, несколько раз лизнула раздетого писюна и принялась посасывать как палец. В животе защекотало, стало приятно и немного стыдно – ещё никогда меня ТАМ не целовали!
Писюн напрягся, занемел, стал твердющим. Казалось – разорвётся!
Захотелось писать. Почувствовал, что могу писнуть Маринке в рот, безвольной рукой пробовал отодвинуть её голову, но не смог: внизу занемело, запекло. Невыносимо приятное вспыхнуло и разлилось во мне. Писюн заныл, взорвался тысячами щемящих иголок… Я заскулил от неведомой боли-сладости!
Маринка отскочила, испуганно уставилась на меня.
Я подтянул штанишки; сел, опёршись спиной на прохладную яблоневую шкуру. Потихоньку горячая волна схлынула.
Что это было?!
Посмотрел на Маринку: так больно и хорошо мне никто не делал. Даже Алка.
Девочка подползла на четвереньках, примостилась рядом. Забеспокоилась: почему я кричал, и почему у меня не брызгает.
Я не знал, что у меня должно брызгать. Спросил Маринку, но та не ответила, лишь попросила, чтобы об этом никому-никому не говорил. А затем, будто решившись, после клятвы «на смерть», страшным голосом рассказала такое!
Научил её ЭТО делать Сашка. Не только её – всех девчонок из нашей ватажки. В тот же день, когда меня прогнали, Сашка сказал, что может поиграть с ними, как играл с городскими девочками. Если они хотят, конечно. Но без такой игры нельзя городскими стать. И если попросят, то он научит, хоть ему не сильно охота с малышнёй связываться.
Девочки захотели и попросили, потому, что в Сашку давно влюбились. Особенно Алка.
После этого Сашка привёл девочек к самой страшной «кровавой клятве», ещё страшнее, чем наша «на смерть». Острым камешком он расцарапал им до крови запястья на правой руке, а потом приказал поочерёдно приложиться кровавыми царапинами друг к другу, поклявшись, что никогда, никому и нигде не расскажут о том, чему он будет учить. А если кто проговориться, то не только сам умрёт, а умрут все-все его родственники, дом сгорит и село провалиться под землю.
Маринка говорила, что очень испугалась такой клятвы, однако рука уже была расцарапана. Тем более Король бы не разрешил уйти. После того, как окровавленный камушек торжественно выбросили в воду, Сашка объявил предательниц своими жёнами, назначив Алку старшей.
Затем началось обучение городским играм…
Маринка беспрестанно шептала мне в ухо, будто ей не терпелось первой поделиться страшным секретом. Она морщилась, возмущённо фыркала и закатывала глазки, только мне казалось, что она нарочно наговаривает на Сашку, потому как ей было интересно. Мне бы ТАКОЕ понравилось.
Слушая Маринку, я будто прикасался к недозволенному взрослому миру. Не книжному – настоящему: интересному, недоступному, а потому – манящему.
Ревность моя перегорела и ушла, зато появилось нестерпимое желание самому оказаться на месте Сашки.
– А потом мне надоело, – вздохнула Маринка. – Я сказала Алке, что с ними не играю, даже клятвы не боюсь. Сашка взбесился! Кричал, что завтра мои родные помрут, и я, и все! Лишь они останутся. Мы умрём. Да?
– Может, и не умрём, – ответил я, думая о другом. От Маринкиного рассказа у меня вздыбилось в штанишках, внизу живота разлилось уже знакомое приятное. – Пока не умерли… А что дальше?
– Потом Сашка приказал девчонкам меня раздеть и бросить в болото к лягушкам, но те не послушались. А я расплакалась и убежала. И всё. Больше к ним никогда не пойду! Буду с тобой дружить, потому что ты хороший. Только ты им не рассказывай, что я тебе рассказала. Поклянись!
– Честное октябрятское…
Маринка придвинулась ко мне, положила головку на плечо. Раньше я бы застеснялся, но теперь, узнав ТАКОЕ, стал смелым.
Мы залезли подальше в кусты и долго игрались как два голодных зверька, но уже по-новому – так, как рассказывала Маринка, как научил её Сашка.
По дороге домой девочка призналась, что всегда меня любила и ревновала к Алке. Но теперь мы будем вместе, а когда вырастем, то поженимся. А ещё (самое главное!) Маринка сказала, что у меня писюн в сто миллионов раз лучше, чем волосатый Сашкин. И я, смутившись от такой похвалы, пробурчал в ответ, что у неё самая лучшая девчачья писька, лучше, чем у всех.
Так началась моя медовая неделя с Маринкой. Следующие дни мы проводили в колхозном саду, в сладкой неге, питаемой полученным ею опытом и моим народившимся желанием. Я забыл о недочитанных книгах. Даже перехотел ехать в Городок и просил бабушку определить меня учиться здесь, в селе (чтобы не разлучаться с Маринкой – но этого не говорил). Бабка лишь улыбалась, потому как разгадала нашу любовь, застукав на сене без трусов.
Пребывая в невозможном Раю, я уже не думал о былой ватажке, мне остальные предательницы были без разницы. Доставало Маринки. Из её новых умений я заключил, что рассказала она не обо всём, чему учил её Сашка.
Неожиданно в нашем переулке грянул гром, который эхом прокатился соседними улицами, затем всем селом.
Ватажка лишилась короля.
Сам я не видел (в это время был с Маринкой в саду), но из подслушанных разговоров бабушек на скамейке узнал: приехал жёлтый милицейский «бобик» и увез Сашку. Потом ещё подслушал, что дядьки-милиционеры рассказывали, будто он с друзьями кого-то ограбил в Киеве, а здесь, в селе у бабки, прятался.
Как согрело это известие моё злорадное сердечко! Каким справедливым и чудесным казался мир! Теперь понял, кто был тем громадным Чудищем, которое я навёл на Сашку.
После отъезда Самозванца предательницы осиротели. На пару дней затаились, а потом потянулись ко мне.
Сначала пришла Алёнка, попросилась играть с нами, здоровенный кулёк семечек принесла. Прощать мы её не собирались (ещё раньше с Маринкой договорились), однако семечки жаренные, пахучие…
Пусть играет, не жалко.
Затем остальные пришли: виноватые, унылые, кто с яблоками, кто с конфетами. Мы их тоже простили – свои же. Лишь Алка не вернулась. Ей после Сашки было не до нас, да и девчонки сердились. Отсидевшись дома и отревев, как рассказывали, Алка к старшим ребятам пошла. Те её уже не прогоняли, водили в кусты, брали в клуб на танцы и учили курить.
С возвращением блудных подружек у меня началась новая, султанская жизнь. Отныне королем стал я, а Маринку назначил королевой и главной женой. Перечить никто не посмел.
Теперь уже я познавал прелести многожёнства. Мы также ходили ватажкой пасти коров, купаться на озеро или собирать грибы-ягоды в лес, но мои подружки, наделённые особым знанием, теперь вели себя иначе.
За две недели гаремной жизни я воплотил наяву самые стыдные детские фантазии и даже те, о которых не мечтал, потому, как не мог представить, что ТАКОЕ возможно. От бесчисленных каждодневных колючих вспышек внизу живота я иссяк и похудел, а они, нежные создания, чувствуя предательскую вину, так меня обхаживали, что на всех их я хотел пожениться, но не знал, как об этом сказать Маринке.
Однако ничего нет вечного под луной. В переулке грянул второй гром. Очередной король был свергнут, а возрождённая ватажка позорно распущена.
Девчонки потом божились, что никому не рассказывали. Возможно, не говорили, возможно, кто-то из посторонних подсмотрел – это уже не имело значения. Так или иначе, но взрослые узнали о наших играх.
Началось с Алёнкиной мамки, дородной красномордой тётки, которая пришла разбираться к бабушке и обозвала меня «проститутом». Затем устроили допросы, разбирались все со всеми, закатывали глаза, плескали в ладони. Родители каждой из растлённых старались обелить свою кровинушку и обвинить всех остальных, выросших в разврате.
На словах досталось и Сашке, однако ему там, в тюрьме, было без разницы. Возмущённые родители накинулись на Сашкину бабу, требуя расплаты. Добродушная старушка ответила, что все ЭТИМ занимались в нежном возрасте, просто забыли своё; но она готова отплатить телом отцам поруганных девственниц. Те не согласились, а дед Степан отлупил беспутную жену.
Этим и закончилось. Нам запретили вместе играть и даже встречаться друг с другом. Маринка, правда, пару раз прибегала, пока её мама была на работе, а мой дед с бабкой на огороде. Мы крадучись залазили на сено, суетливо целовались-трогались, также крадучись, разбегались.
В конце лета меня увезли в Городок. С той поры больше к родителям отца на каникулы не ездил. Мать запретила.
Глава четвертая
Лето 1992. Городок
В Городок пришёл июль. Ближе к полудню реальность дрожала, обращалась миражом, гнала в тень. Совсем уж невыносимое пекло я пережидал в лесу или у речки, в компании пионеров, которые, согласно новому времени, пионерами не считались.
Название нам было без разницы. Мы обосновали собственный пионерский лагерь, где процветал культ моей, немного смущённой от такого внимания, личности.
Мы уходили подальше в лесную чащу, щедро расцвеченную яркими красками, приправленную ароматом спелых ягод и шорохами невидимой живности. Особо удачные походы случались после коротких пугливых гроз, засевающих окрестные леса грибами.
С восторженным визгом мы ползали на карачках меж сосен и берёз, отмахиваясь от пекущих слепней, находили драгоценные трофеи, из которых особенно ценились белые. Помня заветы юных натуралистов, отщипывали ножки повыше, чтобы не повредить грибницу, а потом несли сокровища домой: ребята в рубашках, а девочки в подолах платьишек, отчего те подолы ничего не прикрывали.
В засушливые дни мы беззаботно купались, бродили лесом или играли в обожаемые детворой жмурки-угадайки, заменившие мне в ту пору равнодушную, вечно отсутствующую «невесту».
Кроме пионеров был ещё Клуб одиноких сердец, в котором я состоял почётным членом. Несколько раз ездил к ним в гости. Принимали всегда благосклонно, однако чувствовал себя я там не то чтобы лишним, но… если к ним в очередной раз не приеду, то ничего особенного не произойдёт.
В Клубе и без меня жизнь била ключом, наматывалась клубком, щекотала нервы. Как раз в ту пору плелись интриги вокруг персоны Сержанта Пеперра, обвинённого старшеклассниками в нездоровых предпочтениях Оксаны и Таисы, с подключением руководства школы и родителей предпочтённых. Не до меня им было.
Кроме пионеров и Клуба, ещё оставалась Майя, которая в середине июля, после экзаменов и ремонта студенческого общежития, приехала на каникулы. Она успешно окончила первый курс. Кроме того, сумела заработать спекуляцией несколько сотен купоно-карбованцев, чем заслуженно гордилась и при каждом удобном случае пеняла меня, бестолкового.
Майя ставила в пример Юрку, который открыл возле автостанции киоск и торговал ширпотребом. Не сам торговал – эксплуатировал дальнюю родственницу.
Наслушавшись обидных сравнений, я подтрунивал над буржуином: придут НАШИ, раскулачат. Юрка в ответ зубоскалил, обзывал меня Мальчишом-Кибальчишом и тыкал членский билет «Прихильника Народного Руху України»: не раскулачат, мол, теперь мои при власти, лишь бы отстёгивал.
Евиным детям в ЭТОЙ стране началось раздолье. Каждый зарабатывал, как мог: ставил киоски, воровал, растаскивал заводское и совхозное, перепродавал, мотался в Польшу, даже в далекую Турцию. Особенно преуспели властьимущие, посаженные киевскими панами на кормление по захолустьях. В Городке появились невиданные иностранные автомобили, в которых по разбитым дорогам перемещались новые хозяева жизни, презрительно сигналя нерасторопному быдлу.
Внешний мир погрузился в монотонную беспросветность. Хорошо, были книги и мои пионеры, и даже Майя – хоть какая-то отдушина.
Наступил август девяносто второго, из садов запахло яблоками. Роман с Майей вяло продолжался. Она была в Городке, но встречались мы лишь вечерами в выходные: ходили на дискотеку или гуляли у реки, обсуждая киевские события, шибко важные для будущего экономиста.
В безысходности замерла наша любовная связь. После зимнего греха Майя пресекала любые мои попытки, выходившие, по её разумению, за рамки приличия. Порою, устав от бестолковых встреч, я в который раз подумывал оборвать глупый роман, но повода не находил.
Так бы всё и тлело, не случись оказии, круто изменившей наши отношения на ближайшие месяцы.
15 августа 1992. Городок
В середине августа, субботним вечером, по Майиному хотению выбрались на дискотеку. По дороге зашли к её однокласснице Светлане. Миниатюрное курносое создание уже было засватано киевским буржуем, готовилось в сентябре к свадьбе, но на танцы с подружками бегало.
Гостеприимная хозяйка предложила отметить встречу и нечаянное знакомство с парнем лучшей подруги. Она всё подливала да стреляла блудливыми глазками на меня, чем вызвала Майино хмельное возмущение.
Майя насупилась, хотела уйти домой – еле удержал. Даже удивился, что ей так дорога моя персона. Зашутил-закаламбурил, принудил выпить за красивых девушек, которых много не бывает. Светка тоже поняла свою ошибку, глазки потупила, принялась рассказывать о любви к будущему мужу и количестве его киосков. Обошлось.
По дороге на танцплощадку, будто доказывая Светке, что мне никто, кроме Майи, не нужен, облапил приревновавшую и недвузначно тискал. Ещё более осмелел во время танцев: откровенно прижимал да целовал в шею и за ушко. Майя отвечала показной взаимностью, особенно перед Светкой, которая топталась возле нас.
В перерыве между песнями, отважившись ковать неостывшее железо, увлёк Майю в парк. Она не упиралась – диво дивное! Демон заворковал, предвкушая, как сейчас произойдёт то, естественное, даже необходимое, что должно происходить между парнем и девушкой, которые встречаются, держаться за руки, а порою – целуются.
Я нашёл затененную скамейку возле тыльного забора. Молча привлёк Майю, усадил на колени. Левой рукой прижал за плечи, наклонил её голову, ища губы, а правую, не таясь, запустил под юбку.
Майя вздрогнула, напряглась, хотела отстраниться.
Не позволил – закрыл рот поцелуем.
– Не надо… – Майя забрала губы.
«Надо!» – возразил решительный Демон. Прелюдии закончились в августе девяносто первого, в день путча, под музыку Гайдна, два года назад.
Запустив подъюбочную руку выше, нащупал резинку. Чуть приподняв девушку левой рукой за талию, рывком сдёрнул трусы до колен, а затем, изловчившись, и полностью стащил с брыкливых ног, вместе с зацепившимися туфельками-лодочками.
Трусы остались в руке, туфельки упорхнули в темноту.
– Ой! – выдохнула Майя, не ожидая такой прыти. – Не надо…
«Надо!» – засопел Демон.
Поддерживая Майю одной рукой, я привстал. Начал судорожно расстёгивать брюки. Кое-как получилось.
Плюхнулся обратно на скамейку, задрал Майе юбку, усадил голой попкой на сопрелого приапа.
Тот, разумеется, никуда не вошёл, а позорно согнулся, припечатанный холодной девичьей ягодицей к жёсткому ремню.
Ей бы наклониться, прогнуть спинку, но Майя, напрочь не понимала или не принимала моих намерений – свела ноги, натянула юбку на колени и застыла бездвижной куклой Машей.
Провозился несколько позорных минут, пытаясь разъять сухую курчавость, втиснуться в равнодушное тело – намучил её и себя, но ничего не достиг. Вернее результат невозвратно становился отрицательным: от неудачных попыток на ощупь и в никуда, ещё недавно упругий воздушный шарик скукожился жалким сморчком.
Битва проиграна. Празднуй победу, холодная мраморная статуя!
Нет… Юрка же учил, что делать при такой стыдобе. Как поступали мы с общаговскими блудницами после третьего захода.
Уцепившись за спасительную догадку, я приподнял девушку, посадил рядом. Та лишь пискнула, коснувшись попкой холодных досок.
Сам вскочил, повернулся к ней.
– Нет! – Майя дёрнулась, замотала головой.
Я не отступал.
– Никогда! – отчаянно завизжала Майя. Вспорхнула, кинулась от скамейки.
Отбежав на пару метров, замерла. Нехотя возвратилась. Присела на корточки, зашарила руками по траве.
Я подтянул брюки, принялся виновато искать разбросанные туфельки, подсвечивая ломкими спичками. Одну нашёл сразу, второй не было. Полез в кусты, жаля руки невидимой крапивой.
Тем временем Майя обнаружила за скамейкой трусы, натянула. Ухватила найденную лодочку и босиком кинулась прочь.
– Сейчас отыщу… – лишь успел крикнуть вдогонку, но девушка растворилась в тени разлогого клёна, по контуру подсвеченной едва проступавшими отблесками дискотечных фонарей.
«Обиделась» – равнодушно сказал Гном, показывая язык обалдевшему Демону.
«Скатертью дорога…» – зло подумал Пьеро.
Ну и пусть! – согласился я. Нам давно пора закончить бредовые отношения, от которых ни радости, ни толку.
Холодная ледяная статуя!
Изломав спички, изжалив руки, отыскал вторую туфельку, которая улетела в кусты. Побрёл на дискотеку искать Майю.
На душе было мерзко – опять начудил. Теперь, если поссоримся (а Майя точно обиделась), то виноватым останусь я.
На танцплощадке Майю не нашёл, зато увидел Светку, которая в компании бесшабашных девиц плясала «Ламбаду». Выписывая попкой восьмёрки и вздымая короткое платьице до мелькания белых трусов, Светка примагничивала взгляды невольных соглядатаев. Прыщавые юнцы липли к заводной пташке, пытались пристроиться в такт.
Я стал у стены, залюбовался ладной фигуркой.
«Вот, если бы не Майя, а Светка замуж не выходила…» – подал голос оживший Демон.
Я с ним не спорил. После неудачного свидания ныло внизу живота и хотелось разбить докучливый фонарь, мигавший над головой. Решил (теперь уже окончательно!), что отдам Майе туфельку, а потом мы расстанемся. Надоело!
Посмотрел на Светку, танцевавшую с очередным поклонником медленный танец. Поклонник норовил опустить руки на попку – Светка не давала, хохотала и незлобливо бодалась.
«Ты ей понравился…» – замурлыкал Демон.
«Нельзя!» – шикнул на него Гном. – Светка с Майей одноклассницы, школьные подруги, секретничают…».
Светка будто почувствовала мои липучие глаза, обернулась. Игриво помахала рукой, послала воздушный поцелуй.
Танец закончился, довольные плясуны разбрелись под стеночки. Светка, отмахнувшись от кавалеров, подошла ко мне.
– А где Майя? – спросила задыханно.
– Ушла…
Броуновское движение молодых тел в постанцевальном экстазе толкнуло Светку на меня, притиснуло. Хотел отступить, но упёрся в ограждение. Мы так и остались стоять: припечатанные, приколотые, как две бабочки-голубянки из набоковской коллекции.
Я ощутил в районе подреберья упругость её грудок и распаренный запах.
Пауза затянулась. Диск-жокей не мог определиться со следующей композицией, стараясь угодить публике. Раззадоренная масса клокотала, запирала нас потной стеной.
– Будто в киевском автобусе… – я ненастойчиво попытался высвободится.
Высвобождаться мне не хотелось. Однако Майина туфелька жгла руку, и правила приличия обязывали.
Впрочем, правила Светку не занимали. Она всё также вжималась, охватив меня за бок. Поднял глаза от растрёпанной головки и заметил, что сзади девушку не так уж припирают, вернее – не припирают вовсе. Значит она сама…
– Куда ушла? – спросила Светка. Потянулась ко мне, пробуя пересилить завывание первых аккордов роковой баллады. Притиснулась, сгущая туман в голове.
– Не знаю! – ответил я, наклонился, продлевая касание. – Мы гуляли в парке, а потом она ушла. Вот, потеряла…
Показал туфельку, которую прятал за спину.
– Хорошо погуляли, раз обувку растеряли – срифмовала Светка и рассмеялась. Уткнулась лицом мне в грудь.
Я качнулся назад – там стена.
Гном недовольно зашептал: «Если не хочешь согрешить с Майиной подругой, то нужно уходить прямо сейчас. Потом будет поздно. Будешь жалеть, и страдать, и бояться заглянуть Майе в глаза». «А кто сказал, что она разрешит заглядывать? – усомнился Демон. – Обиделась же».
Тем более, полчаса назад решил с нею расстаться, – подумал я, ища оправдание навязчивому желанию. – Потому у меня, видимо, нет девушки. А эта – сама липнет. И если б Майя в парке не оттолкнула, то сидели б мы сейчас на скамейке, подальше от чужих глаз, не разрывали поцелуев. И не стоял бы я под стенкой, прижатый Светкиными грудками, не решал извечный Гамлетовский вопрос.
Я не ушёл. Мы дождались очередной баллады, вышли танцевать.
Майину туфельку хотел бросить под стенкой, но пожалел – сунул в задний карман джинсов. Весь вечер она мне мешала, приводила в отчаянье, напоминала о завтрашнем сожалении.
«Это будет завтра…», – успокаивал Демон.
О самой Майе мы со Светкой больше не говорили. Вроде нет никакой Майи, нет Светкиного киевского жениха и осенней свадьбы. Есть лишь Светка: маленькая, хрупкая, податливая под моими руками.
Я непристойно ЕЁ ХОТЕЛ! Я представлял, КАКАЯ у неё там, в подсмотренных белых трусиках, как кудрявиться, как сложила губки; воображал, как ми уходим в полуночный сумрак, как Светка бросается ко мне, целует, валит на землю…
После нескольких танцев, не объясняясь, мы ушли в парк, в самую глушь. Так же молча девушка кинулась мне на шею, подпрыгнула, повисла, обвила стройными ногами, впилась тягуче-долгим поцелуем в мои губы, ещё несмелые, стесняющиеся. Затем проворно соскочила, потянула за руку, приглашая опуститься на траву.
Я даже не успел снять рубашку, чтобы выстелить нам ложе. Я упал, откинулся, больше чувствуя, чем наблюдая невыносимо-сладкие невозможные кренделя, которые выделывало маленькое вертлявое Светкино тело на моём большом, испуганном и безучастном.
Мир растаял в ощущениях: лишь горячая глубина разъятой девичьей тайны, которая сменялась не менее горячей глубиной жадного рта до ощущения о-образных губ на слипшейся лобковой поросли. Ничего подобного в моей жизни не было (кроме детства, но детство – не в счёт).
Мы потерялись во времени. Ми лежали на моих расстеленных джинсах и рубашке, которые умудрился стянуть между соитиями. Лежали голые, отдавая певучим комарам частичку себя, оставшимися частичками впивались друг в друга. Ми смотрели на небо, на гаснущие в утренней серости звёзды.
Я почти её любил.
В предрассветном сумраке проводил Светку до выхода из парка. Дальше идти не разрешила; не хотела, чтобы нас вместе видели.
Когда прощались, прижалась, поцеловала в лоб и сказала: нужно ЗАБЫТЬ, что было прошлой ночью; вернее – ничего не было, мне ЭТО ПРИСНИЛОСЬ.
Повернулась и ушла.
Провожая взглядом Светкину невесомую фигурку, я уже не верил, что именно с нею, почти незнакомой, чужой, обручённой, несколько часов пребывал в Раю, и на её теле, на белье, на одежде и в волосах остались частички меня.
Я бы взял её замуж в эту ночь. Несмотря на Майю, на то, что не раз, видимо, Светка проводила такие ночи со счастливыми избранниками, а потом запечатывала их уста заклинанием: «Это тебе приснилось…».
Кукольная фигурка скрылась за поворотом. Я намерился идти домой, но почувствовал, как исчезло мозолящее напоминание в заднем кармане.
Я потерял Майину туфельку!







