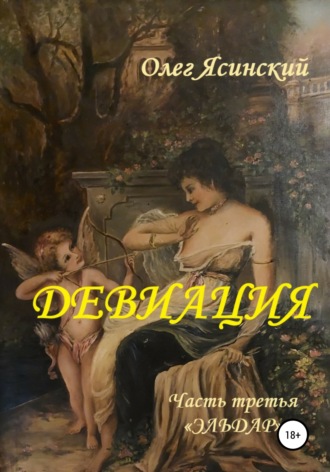
Олег Валентинович Ясинский
Девиация. Часть третья «Эльдар»
Возвратился, излазил на коленях измятую, ещё не остывшую траву. Туфелька сиротливо лежала чуть в стороне. Она всё видела и понимала.
Поднял, сунул в карман. В душе заныло страшной виной.
Завтра же нужно отдать. И помириться.
Какой я, всё-таки, негодяй!
9 августа 1992. Городок
Отрезвление пришло утром, начавшимся для меня после обеда, когда проснулся. Проявилось неясной тревогой и гадливым послевкусием ещё неосознанного.
Краем глаза уцепился за туфельку, лежавшую на тумбочке. Проступило тошнотворное, мучившее: вчера Майя обиделась, ушла, а я… изменил ей со Светкой.
Если Майя знает?! – укололо страшной догадкой.
«Вряд ли, – подсказал Гном. – Светка не расскажет, посторонние не видели».
Всё равно на сердце тошно. Хоть бы дождь пошёл или гроза случилась, запорошила мутные стёкла, оплакала мой грех. Но за окном, будто оттеняя совершённое предательство, лучилось беззаботное солнце, для которого мой грех был сущей ерундой, и от того становилось ещё гаже.
Нужно звонить Майе, просить о встрече, извиниться. Туфельку занести, в конце концов…
Не умываясь, побрёл в прихожую, к телефону.
Забрал аппарат в келью, прикрыл двери.
Как на краю пропасти – страшно и жутко, но придётся звонить.
Вспомнил, что вчера решил прекратить наш бесполезный роман. Уцепился за спасительную догадку, которая давала возможность плюхнуться обратно в постель.
Нет! Не хочу расставаться виноватым. Может, потом, когда Майя сама допустит что-либо непрощаемое. А так – не хочу.
Кашлянул, проглотил давящий комок, набрал номер.
Длинные гудки гудели не долго.
– Альо! – пискнул в трубке детский голос.
– Это квартира Гутаревых? – спросил я после некоторой заминки, сомневаясь в правильности соединения.
– Да.
– Майю можно?
Догадался, что это младшая Майина сестричка – Марийка. Майя о ней говорила и фотографии показывала, но мы с девочкой ещё не встречались.
Почувствовал, как под сердцем шевельнулась Хранительница.
– А вы кто? – спросила девочка.
– Знакомый. Зовут Эльдар. Она знает.
– Я тоже знаю. Вы Майин настоящий жених, – Марийкин голосок потеплел. – Сейчас позову, подождите.
В трубке стукнуло, отдалось эхо приглушённого топота.
У меня не проходило чувство узнавания. Где мы с Марийкой раньше встречались? Не припомню. Не встречались мы наяву. И Змея проявилась… Как тогда, на дискотеке, в августе девяносто первого, когда увидел Майю. И когда фотографии Марийкины рассматривал прошлой зимой, также щемило. Но сейчас острее – будто сердце укололо тревожной иголочкой.
Пару минут выслушивал в трубке шорохи чужой квартиры, в которую ворвался нежданным телефонным гостем.
– Альо! – отозвалась трубка Марийкиным голоском, уже не таким задорным. – Альо! Майя сказала, что её нет дома. Но вы не говорите ей, что я сказала, что она сказала.
– Хорошо, не скажу. Майя на меня обиделась?
– Да… наверное. Такая злая стала, когда услышала, что вы звоните. Вы сильно грустите?
– У меня её туфелька. Она потеряла. Нужно отдать…
– Как Золушка?
– Что?
– Ну, потеряла. А вы ищите, как принц? Будто в сказке, – сказала девочка. – А мои туфельки ещё никто не находил.
– А ты теряла?
– Не теряла. Только игрушки. Но меня никто не искал.
– Ещё найдут. Подрастай…
– Подождите! Я скажу Майе, что принц хочет отдать ей туфельку.
– Не надо. Потом отдам. А тебе спасибо.
– Пожалуйста. Нас в детском саду учили помогать… Вы не переживайте. Я попрошу, и вы помиритесь. Даже поженитесь.
– Ты откуда знаешь?
– Не знаю, но знаю.
– Спасибо. До свидания.
– Вы звоните. Майя скоро пересердиться… – сказала на прощанье Марийка.
Хотела ещё что-то добавить, но я положил трубку.
На душе мерзко. Единственное согревало сердце – разговор с чудной девчушкой, которую наяву никогда не видел.
И Змея? К чему она проявилась?
Майя скоро не пересердилась. Больше ей не звонил, она мне тоже. Майину туфельку поставил на книжную полку, как напоминание.
Особых перемен после ссоры в моей жизни не произошло. Всё так же бродил с пионерами лесами, но больше сидел в келье, читал или бренчал на гитаре.
Горечь разлуки и чувство вины притупились, однако я не переставал гадать о причине Майиной обиды: узнала она или не узнала о моём грехе со Светкой?
Ничего выгадать не смог.
Середина августа 1992. Городок
Так прошла неделя. На следующие выходные Юрка заглянул проведать, вытянул пива хлебнуть. Оказалось, он знал о моей ссоре с Майей и о том, что после дискотеки я со Светкой в парк ушёл – друзья-товарищи нашептали.
Если Юрка об этом узнал, то и Майе могли донести – подумал я. Вот такая интрижка.
– Тоже мне, интрижка! – сказал Юрка, выслушав мой рассказ о том вечере. – Вот у меня была интрижка! Ты запиши у себя в дневниках для потомков.
Юрка отхлебнул пива, затянулся импортным «Кэмелом», сплюнул-цыркнул по-пацански.
– Прошлым летом, как раз год назад, ездил я к бабке в село: проведать, по хозяйству помочь, ну и позажигать с местными – как без этого. Ты меня знаешь.
Довольная Юркина физиономия раздалась хитрой улыбкой.
– В общем, был там у меня знакомец, киевлянин. Тоже наведывался в село. Бабки наши – соседки. На пять лет младше, ещё не служил. Говорил, что и не пойдёт. Но умный – жуть: отличник, два иностранных языка, поступил на дипломата. Родители у него – профессора, преподают в университете. Короче, мажор. Вадимом зовут. Мы с ним особо не общались. Так, по-соседски, пару раз на рыбалку ходили, да в клуб. Там у него своя компания малолеток, а у меня своя. Ты меня знаешь.
Юрка смачно затянулся, выпустил дым через нос.
– А тут приходит ко мне Вадим. Выручай, говорит. Личная жизнь разладилась, только ты можешь помочь. Бутылку коньяка достал, суёт – не откажи, мол. Я подумал: кого-то отдубасить нужно. Нет, оказалось. У Вадима есть девочка. Лизой зовут. Тоже городская барышня, приезжая. Школу закончила, в педагогический поступила. Пару раз её в клубе видел: ловкая девочка, из приличных. Ты таких любишь, тургеневскими зовёшь…
Юрка подморгнул, довольно осклабился. Всё-то он знает про меня.
– Так вот, Вадим с этой Лизой несколько лет встречались: и в Киеве, и здесь, в селе, летом, когда приезжают. А так как оба они, ну… типа тебя и Зинки, то дальше поцелуев у них не заходило. И вот, дождавшись окончания Лизой школы, Вадим задумал перевести отношения в близкие. Ну, ты понимаешь?
Я кивнул.
– Но у него не получалось, так как он, ну… не умел барышень укладывать. Только книги читал.
Опять намекает. Но я – сама невозмутимость.
– И вот, через месяц общих чтений, купаний, брожений по полях и субботних дискотек, вроде что-то у них наметилось – так говорил Вадим. А может, ему казалось. Короче, когда до задуманного оставалось пару вечеров – случилась беда. В село к бабке приехала Лизина подружка, тоже из приличных, Екатерина. Это так она себя называла. Можешь представить семнадцатилетнюю девочку, которая называет себя Екатериной. По-моему, этим всё сказано.
Пока я представлял, Юрка хлебнул пива, потом ещё. Допил, отставил бутылку за скамейку. Умелым щелчком выбил из пачки сигарету.
– Но это ещё не весь прикол. Приехала Екатерина в село не просто так, а вылечится от любви. Она перед этим поссорилась с парнем. Как верная подруга, Лиза принялась спасать Екатерину. Свободное время с нею проводила. Короче, Вадим стал Лизе побоку. Даже гуляли втроём. Можешь представить чувства кавалера?
Я снова представил солидарным мужским пониманием – нехорошо выходило.
– Потому и обратился ко мне Вадим, – продолжил Юрка. – Он план сочинил, в котором отвёл мне важную роль. Короче, под вечер они к речке втроём пойдут гулять. А тут я ковыляю мимо, вроде случайно. Узнаю Вадима, подхожу. То да сё. Знакомимся. А дальше по ситуации. Главное – увести эту Катю-Екатерину. Хоть на один вечер. А ещё лучше – закрутить с нею роман до отъезда. Вот такой план.
Юрка сплюнул, уставился на проходящую по аллейке девчонку в короткой юбке. Проводил взглядом, зацокал языком.
– Ты согласился? – одёрнул я Мюнхгаузена, чтобы возвратить к нашему разговору. Складно брешет.
– Ах! какая! Я бы её нагнул, – кивнул Юрка, отрывая глаза от девичьей попки. – И кому-то даёт!.. А тогда я не сразу согласился. Поначалу заупрямился: мол, малолетки – не мой профиль, с ними больше возни, чем толку. И почему я? Вон сколько в село понаехало, да и местных хватает. Нет, – говорит Вадим, – местные вряд ли Екатерину заинтересует, а с киевскими ему связываться не хочется – только посмеются. Я – другое дело. Для меня, мол, и «Декамерон» – не пустой звук… Я как-то рассказывал ему с твоих слов, примеры приводил. Короче, по душе пришлась мне Вадимова похвальба. И хоть мне с тобой, Эдмон, в высших материях не тягаться, но, как говорят французы: на безбабье и рука – шансонетка. Согласился.
Юрка озабочено вздохнул, будто такое согласие значило для него тяжёлую повинность.
– Исполнить задумку решили в ближайшую субботу, вечером. Молодёжь на дискотеку в клуб пойдёт, кусты возле речки освободятся, никто не помешает. Вадим отправился за девчонками, а я выпил грамм сто для храбрости и занял позицию в кустах, у речки. Сидел долго, полпачки выкурил, спасаясь от приречных комаров. Настроение испортилось. Когда уже хотел плюнуть и уйти – они появились: девчата уныло шкандыбали по прибрежным кочкам, а Вадим бегал вокруг, тарахтел, развеселял. Видно, у него получалось неважно – те оглядывались по сторонам, думали: не маньяк ли наш скромный Вадик, не насиловать ли собирается, а потом утопить… Что они так думали – я потом от Катьки узнал.
Юрка замолк, раскупорил бутылку «Жигулёвского», смачно приложился наполовину. Я тоже хлебнул.
– Тебе в писатели нужно, – посоветовал я, слизывая с губ хмельную пену. – С таким опытом ты Боккаччо переплюнешь.
– Кого?
– Автора «Декамерона». Сам же говорил.
– Ну… Буду знать. Название запомнил – заковыристое название, а на авторов у меня память короткая. Я больше – денег срубить. Или бабу осчастливить. А насчёт писательства – всё впереди, Эдичка. Если на этом заработать можно, то и писательством займусь, и рисованием. Где наше не пропадало.
Юрка снова приложился, допил, отбросил бутылку за скамейку.
– Компания пришла, и теперь был мой выход. А так как во мне умер артист – ты меня знаешь – то явился не сразу, чтобы не испугать. Тихонечко отошёл подальше, а затем, не таясь, напевая, побрёл к подопытным. Те сидели на бревне возле речки, скучали. Понурый кавалер стоял возле них, тоже молчал, выцеливал комаров. Тут являюсь я…
Юрка напыжился, плечи расправил, будто на сцену вышел. Принялся рассказывать в лицах, дурашливо меняя голос: – Привет Вадик! – Привет, Юра! – Вы чего тут сидите-скучаете? – На речку смотрим. Кстати, это мой товарищ и сосед Юра, а это мои подруги Лиза и Екатерина. – Очень приятно! – Взаимно. – А я решил пройтись, рыбку на завтра подкормить, чтобы с рассветом на бережок. Вот свежий анекдот по этому поводу…
– Короче, познакомились, – сказал Юрка уже своим голосом. – Девчонки ожили, зашевелились. Развивая наступление, предложил развести костёр и напечь картошки. Мол, девчонки любят печёную картошечку? – Любим! Любим! – запищали девчата. – А где картошку возьмем? – Как где, у меня неподалёку под кустом хранилище припасов – я тут часто рыбачу… Кстати, картошку принёс заранее. Хотел и бутылочку, но это вызвало бы ненужные подозрения. Решил кадрить на трезвую. Успех был полный – обе девоньки заворожёно следили за каждым моим движением… Так вот, если хочешь завоевать бабское сердце, дай ему почувствовать твой авторитет и надежность. Учись, студент!
Юрка довольно заулыбался, глянул сенсеем на неразумного ученика.
– Костерок. Картошечка. Разговорились. Нужно было действовать, а то комары заедали. Особенно девчонок за голые ноги. И под подол, наверное, залетали. Как будущий ухажер, я снял футболку, накинул Катьке на коленки – отказывалась, но приняла. Вадик, оглянулся на меня, нехотя стянул рубашку, прикрыл Лизу. Теперь надо было выманить Екатерину из компании. Когда с картошкой покончили и руки вымыли (чем не упустил воспользоваться, облапив Катю у воды), предложил показать девчатам особенно рыбные места на берегу. А так как нужно поддерживать костёр, то пригласил с собой лишь Катю, а Лизу с Вадимом оставил истопниками. Лиза, было, с нами засобиралась. Я отшутился, попросил беречь костёр и Вадима. Кавалеру не понравилась моя подколка, но ради него старался.
– И Катя согласилась? Городская девушка, из приличных, как ты говорил…
– Можешь не верить! – огрызнулся Юрка. – Она не сразу согласилась, это я так рассказываю. А там, у костра, я часа два лучшую свою роль играл, футболки не пожалел, подставлял тело под комариные жала. Понравился, значит. И пошла. Я ж не знаю, что у неё в голове. Может, надоело Лизке в жилетку плакаться да на того долдона каждый день смотреть. А тут такой Конан-Варвар…
– От скромности ты не умрёшь. Ладно, бреши дальше.
– Можешь не верить… Короче, пошли ми с Катей-Екатериной по прибрежной тропке меж кустов. Тропка узкая, темнота полная – пришлось за руку взять, чтобы не грохнулась, а потом за талию. И так меня эта прогулка раззадорила, что прикинул: а не употребить ли девочку по назначению. Раньше о том не думал; не исключал, но и не планировал. Тем более, восемнадцати нет – зачем лишний гемор. А тут невинность, как ты говоришь, сама в руки проситься. А я не монах, обетов не давал – ты меня знаешь. Короче, затуманила рассудок резеда. Видел «Любовь и голуби», надпись по небу? Ну вот… Так я вылечил Катьку от хандры. Кстати, потом Катькой её и называл. Не обижалась, наоборот – понравилось. Мы с нею около месяца зажигали, каждый вечер. Вернее – через вечер. На то были свои причины. Я даже вдовушек забыл, силы на них не оставалось. И Катька оказалась никакая не тургеневская, а нормальная. Столько соплей было при расставании.
– Больше вы не встречались?
– В Киеве пару раз, когда по делам наведывался. Она адрес оставила и телефон. Перезванивал – приходила. Наскоро кувыркались в моей «Копейке». Хорошая она девчонка, заводная…
– И в этом твоя интрижка? – разочарованно сказал я. Ожидал от Юрки большего. Таких интрижек у него – пруд пруди.
– Э, падажди, дарагой! – Юрка загадочно сощурился. – Ещё самого главного не рассказал. Короче, вернулись мы с Катей к нашему костру, а там – одна Лиза. Где Вадим? Оказалось, они поссорились, Вадим ушёл. Как потом узнал, поссорились из-за того, что Лиза обо мне небезразлично отозвалась, а тот индюк приревновал, раскудахтался и убежал. Ну, не умеет он с бабами! Я все условия, а он… Кстати, после того никакой дружбы у меня с Вадимом не было, больше его не видел – он на следующий день в Киев уехал.
– Так ты с двумя остался?
Юрка загадочно сощурился.
– С двумя, студент. Мы в тот вечер ещё посидели полчаса, я перекурил, загасили костёр и все вместе пошли Лизу домой проводить. Но тут обстоятельства мне подыграли. Лиза жила на другом краю села, а Катя – возле самой речки. Сначала Лизу хотели с Катей провести, но та чувствовала себя неважно, за живот хваталась. Короче, когда мы проходили возле её дома, Катя ушла, и Лизу пришлось проводить мне самому.
Юрка замолк, принялся неспешно доставать сигарету.
– И что?
– То, Эдичка! Резеда второй раз затуманила мозги.
– И Лизу?!
– И Лизу… – согласился Юрка.
– А дальше?
– Дальше – интересно. Помнишь, говорил, что с Катькой мы через вечер встречались?
Я кивнул.
– Потому, что так же, через вечер, я встречался с Лизой. Правда, в другом месте.
– Ну, ты и кобель!
– Кобель, – согласился Юрка. – Ты меня знаешь…
Я его знаю. Но это было что-то новое. Пьеро гадливо скривил губки, зато Демон завистливо заурчал, желая и себе таких приключений.
– А как вы между собой общались? – спросил я, отгоняя липкое желание. – Они разнюхали, что ты их, ну… по очереди?
– Догадывались. Только вместе мы больше не встречались. Подружки рассорились, даже не вспоминали одна о другой… Больше того, я и с Лизой дружу в «Копеечке», когда в Киев приезжаю. Бывает, что в один приезд и с Катей дружу, и с Лизой. Вот такая у меня интрижка. Запиши для потомков, как дядя Юра чудил в юности. Хоть будет что перед смертью вспомнить.
Юрка напыжился, прикурил сигарету.
– А твоя интрижка – детский лепет, – сказал, смачно затянувшись. – Так, рядовое приключение: с одной на дискотеку пришёл, а другую в парк затащил. У меня сто раз так было… А Светку забудь – ещё та шалава, тебе не по зубах. Она умелая, потому, что ранняя – с восьмого класса за школой огурцы глотала. – Юрка усмехнулся. – И с Майкой, думаю, помиришься. Ты ей нужен. По той причине, о которой я раньше говорил. Она тебя не отпустит.
Не скажу, чтобы Юрка меня утешил, но страхи развеял. Мой блуд по сравнению с его, и вправду – детский лепет.
Сентябрь 1992. Городок
Лето девяносто второго закончилось. Майя уехала в Киев.
После того августовского вечера, вместившего мой позор и вынужденный грех со Светкой, мы больше не встречались.
Начался учебный год. Мои пионеры пошли в пятый класс, однако не забывали: на переменках не давали проходу, забегали домой проведать. Мы вспоминали летние забавы, пели под гитару пионерские песни и пробовали играть в «угадайки», приспособленные под двенадцатиметровое пространство кельи.
Разговоры и визгливые игры занимали уйму времени, отрывал от книг. Приходилось готовиться ночами, поскольку в ноябре мне нужно было ехать на сессию в Киев. Там и с Майей решил помириться.
Не то, чтобы чувствовал вину перед нею – в целом Майя сама виновата. Однако совесть пощипывала, напоминала. Двухчасовое наваждение со Светкой прошло как сон (или приснилось – она же говорила), зато породило многодневные самокопания. Оно того стоило?
«Стоило…» – ворковал Демон.
«Не стоило!» – упрекал Гном.
А я не знал ответа. И ещё понимал, что Майя мне много дороже, чем раньше думал.
Глава пятая
Ноябрь 1992. Киев
Осенней сессии в институте ждал как освобождения. Надоела школа, городецкая рутина, даже пионеры, которые обседали на переменах, караулили после уроков, приходили в гости, лишали покоя. Потерянная душа хотела новых лиц, голосов, запахов и всего, что связано с перемещением в пространстве.
Выехал загодя, за два дня до начала занятий. Бродил осенним городом, разглядывал непривычную жизнь.
По детской памяти ждал от Киева праздника, особенно в начале ноября, в годовщину Революции. Однако столица незалежной Украины без кумачового убранства казалась блёклой и грязной.
Обесцвечивание не пошло на пользу древнему городу, как и унылым киевлянам. Копошливая масса двигалась по инерции, конвульсивно содрогалась, тужилась приспособиться к новому времени, свергала старых богов. Свято место заполнялось богами новыми, опереточными, в которых верилось с трудом.
Но так казалось мне, песчинке чуждой, которая существовала в своём провинциальном книжном мире, и заботилась более важными личными проблемами.
Главной проблемой, терзавшей сердце, была предстоящая (возможная ли?) встреча с Майей, вернее – идти к ней мириться или не идти? А ещё думал о Миросе: как поступить, если потянет отмечать очередной зачёт? Понятное дело, я зарёкся с нею «ничего и никогда!», но своим зарокам я цену знаю. Тем более, если Майя не простит, а Мирося потянет.
Проблемы разрешились сами собой. Мирося на сессию в институт не приехала, как возмущался староста – без объяснения причин. Что касается Майи, то, выслушав мой, приспособленный для чужих ушей рассказ, дядька пригорюнился, однако посоветовал первым к ней на поклон не идти, поскольку чувствует Майя себя превосходно, учиться на отлично и, вроде… у неё кто-то завёлся. При этом, дядька вёл себя настороженно, будто сам к тому причастен. Грешным делом я на дядьку подумал – только он тут причём?! А вот Майя!
Не скажу, чтобы крепко терзался ревностью, но стало обидно. Выходило, брехал Юрка о нашей свадьбе, ошиблась говорливая Марийка.
Нужно было жить дальше. Решил отбросить амурные бредни, к Майе не ходить. Уж лучше в музеи, или в Лавру наведаться.
В один из зябких ноябрьских вечеров добирался из института. Сел в разбитый троллейбус, возле окна примостился, в полудрёме поплыл Воздухофлотским проспектом, размышляя о перипетиях любви и Майиной возможной измене.
Вроде ничего особенного – дело житейское, старо как мир. Но как представлю, что она с другим так же попкой виляла, подавалась, повизгивала, так же закусывала нижнюю губу…
Внезапно мир раскололся ярко-розовой вспышкой на прикрытых веках!
Повеяло гарью.
Жутко заверещала бабка на соседнем сидении!
Колючий испуг пронизал тело, защекотал, зацарапал.
Я подскочил, огляделся: на фоне искрящего синеватого пламени метались напуганные пассажиры.
Понял, что стоим. И горим. Приехали…
Зажал под мышкой сумку с конспектами, бросился к задним дверям. Там и без меня клубком переплелись десяток тел: отпихивали друг друга, пытались разнять заклинившие створки.
Подскочил к окну, дёрнул фрамугу – закрыто намертво. Заклепали на зиму.
В горле першило от едкого дыма.
Клубок визжал, трамбовался в корму троллейбуса, спасаясь от подступавшего огня.
Эх! Глупо-то как … мамку жалко – одна останется… столько книг непрочитанных… с Майей не помирился… никогда Марийку не увижу …
Под сердцем потяжелело, запекло – просыпалась Хранительница.
Рано прощаться!
Отбросил сумку, протиснулся к цельному окну, приноровился, ударил локтем. Не поддалось.
«Ещё!..» – зашипела Змея.
Ударил! Ещё раз, и ещё, слабее и слабее, расходуя остатки удержанного воздуха.
«Ещё раз!..».
Бликующая преграда дрогнула, прогнулась, брызнула россыпью кроваво-серебристых капелек.
Не раздумывая, кинулся головой в проём. Тело напряглось, приняло удар на плечо с перекатом. Голова взорвалась фейерверком разнокалиберных пульсаров.
На воле!
Не разгибаясь, на четвереньках отполз подальше от пекла.
Упал на бордюр.
Вроде живой…
Троллейбус горел от кабины водителя. Подсвеченные, как в аквариуме, напуганные рыбы кинулись к выбитому окну, жадно вдыхали воздух живого мира. Кто смелее и помоложе – отчаянно ныряли, кулями падали на асфальт, на нижележащих. Остальные вопили, протягивали руки, просили помощи.
Смотрел на пожар отстраненно, будто в кино. Меня изрядно подташнивало, саднило плечо, нестерпимо жгла правая щека.
«Нужно двери открыть в троллейбусе…» – подсказал ушибленный Гном.
Вокруг столпилось множество зевак, однако на помощь никто не спешил. Из трусливой массы вынырнул невысокий мужичок, подбежал к задней двери, попытался выломать руками. Та не продавалась.
«Монтировкой…» – проблеял Гном, выныривая из серого беспамятства.
Будто услышав, мужик кинулся к ближайшей легковушке, рванул водительскую дверцу, вытащил наружу упёртого борова, схватил за шиворот, потянул к багажнику.
Что было дальше – не видел. К горлу подступил вязкий комок, меня вырвало. Когда поднял голову, заметил: окна в троллейбусе разбиты, из них кулями сыплются погорельцы, спасаясь от раздутого сквозняком пламени; в дыму мечется беспокойная фигурка, машет руками, зовёт. Толпа не откликалась – перевелись Карапетяны в незалежной. Их хата с краю. И моя…
«…чего он там делает? сгорит же!..».
Дальше не думал – Гном издох. Осталась лишь Змея, которая горячо пульсировала под сердцем.
Хранительница взвилась, раздула капюшон. Подобрала моё безвольное тело. Взвела на ноги. Повела-погнала к троллейбусу.
Мужик увидел, призывно замахал. Затем нагнулся, приподнял и бросил вонючий куль мне на руки.
Я едва удержался, отступил пару шагов, положил на асфальт. Бабушка. Без сознания.
– Залазь!.. Тут угорели!…– откашлявшись, закричал из окна мужик. – Быстрее!
Я махнул рукой в толпу, чтобы занялись спасённой, подскочил к троллейбусу. Набросил куртку на голову, схватил протянутую руку, второй оттолкнулся от разжаренной рамы, рывком влетел в пекло.
– Подсоби! Сам не управлюсь… – крикнул на ухо мужик, показывая на распластанное в проходе тлеющее бревно, потом ещё несколько – дальше по проходу.
Я наклонился, подхватил тело за ноги, мужик под мышки. Подняли над сидениями к оконному проёму, свесили на раму.
– Принимайте! – зло крикнул напарник в разбитое окно.
От толпы отделился паренёк, пугливо побрёл к нам.
– Ещё один! – захрипел мужик, еле удерживая бездвижного великана.
Секунды отдавались вспышками в раскалённом мозгу. Чувствовал, как дым заполняет легкие, каждую клеточку; как горят брюки, тлеет на спине разодранная куртка.
Из толпы отделился второй. На этот раз – дедок-интеллигент с козлиною бородкой. Посеменил к нам.
Осторожно перевалили тело наружу, спустили на протянутые руки добровольцев.
Ухватив заоконного воздуха, мы кинулись к остальным несчастным, принялись вытаскивать, подавать зевакам, до которых, наконец, дошло, что от быстроты извлечения зависит жизнь погорельцев и совесть тех, кто оказался рядом.
Подсобив мужику перекинуть последнее тело, намерился выскочить сам, но краем глаза заметил, как напарник споткнулся и навзничь рухнул меж сидений.
Уже не соображая, не думая, по велению Змеи бросился к нему – сомлел, бедолага!
Обхватил под руки, силясь поднять. Не смог.
Завыл бессильно, беззвучно – в легких не было воздуха.
Проявилась Змея, зашипела, вдохнула несколько капель силы. Ещё раз дёрнул – немного сдвинул. Ещё! Ещё!
Оторвал от пола, пригнулся, рывком кинул бездвижное тело на плечо, срывая кожу на предплечье нагретым поручнем. Боли не чувствовал. Не чувствовал ничего.
Шагнул к проёму, перевесился и вместе с грузом рухнул на брезент, натянутый пожарниками…
Как упал и что было дальше – не знаю. Очнулся от пекущей боли в руках, затем ногах, в ожоговом центре, закутанный вонючими бинтами. В одной палате с давешним знакомцем – мужиком из горящего троллейбуса.
Ноябрь – декабрь 1992. Киев
– Замкнуло проводку, загорелось у водительницы, – рассказывала нам санитарка, кормя из ложечки. – Та выскочила через свою дверь, побежала обесточить троллейбус, но пассажиры оказались запертыми. А вы – герои, помогли людям выбраться. Все живы, только угорели маленько. Наградят вас…
– Не наградят. Не то время, – сказал сосед, когда заботливая тётенька, собрав кастрюльки и тарелки, укатила кормить остальных лежачих. – При Союзе – да, а в «вильной» другие расклады, капиталистические. Люди для них букашки. Вот, если б мы испоганили памятник Ленину у Бессарабки – наградили. Назвали бы патриотами…
Мужик приподнялся на локтях, скривился от боли, изнеможенно рухнул обратно.
– Не за что нас награждать! – продолжил зло. – Нужно было сразу дверь выломить, тогда б никто не угорел. А я кинулся окна бить – сквозняк учинил; сам, дурак, в салон полез, тебя позвал…
Сосед закашлялся, покряхтел – надышался горелым пластиком, как и я.
У меня сильных ожогов не случилось, но врачи-перестраховщики обмазали многочисленные ссадинки, щедро перемотали, чем лишили возможности донести ложку до рта. К тому же продолжало мутить от неудачного кульбита из разбитого окна головой вперёд – сотрясение дурных мозгов.
– Это ты из огня меня вынес? – подал голос сосед.
– Там огня особого не было. Дымило сильно. Да и пожарники подоспели, вытащили б… – оправдывался я.
Неудобно своё геройство выставлять, которого вовсе не было. Испугался я тогда, первым из троллейбуса сиганул, не думал об остальных. А почему второй раз полез – не знаю. Хранительница заставила.
– Тут, брат, важен факт поступка. Ты меня не бросил, хоть сам мог угореть. О пожарниках тогда не знал. Да из всей толпы только ты на помощь кинулся. Значит наш, советский.
Я ничего не ответил – говорить из-за повязки в пол-лица было неудобно. Однако в душе замлела самодовольная искорка. Гном брезгливо скривил губки: если бы не Змея…
– Служил?
– Служил… – Я повернулся на бок, лицом к собеседнику. Закусил губу, чтобы не выдать пекущей боли.
– Где?
– Тридцать девятая ОДШБр. Хыров. На польской границе.
– Срочную?
– Да. Восемьдесят седьмой – восемьдесят девятый.
– В Афгане был?
– Наездами. Вместе с погранцами прикрывали маршруты вывода советских войск. Мы работали с пятой группой Тахта-Базарского пограничного отряда.
– Сразу видно ДШБ, – уважительно сказал мужик.
– Вы тоже оттуда?
– Да не выкай ты! – сосед приподнялся, сперся на локти. – Гвардии капитан запаса Демаков, Александр Иванович, командир взвода четвёртой парашютно-десантной роты Отдельного гвардейского краснознамённого, ордена Суворова третьей степени, триста сорок пятого парашютно-десантного полка.
– Младший сержант запаса Яневский, Эльдар Валентинович, командир отделения седьмой парашютно-десантной роты тридцать девятой Отдельной, ордена Красной Звёзды, десантно-штурмовой бригады, – в ответ представился я, тужась приподняться на боку.
– Никто кроме нас! – хриплым командирским баском гаркнул Александр Иванович.
– Никто кроме нас! – ответил я, придав голосу металла, но вышло пискляво, страдальчески. Совсем утратил былую удаль за книгами да юбками, воплотившись в такую удобную личину Пьеро.
– Вот и познакомились, – одобрительно сказал сосед. – Только имя у тебя какое-то не русское.
– Скандинавское. Воин огня – значит.
– Не посрамил имя.
После знакомства пустились в разговоры, благо тему нашли общую, болящую. Только куда мне, строчнику, пару недель проведшему на территории Богом забытой страны, до солдатских баек Александра Ивановича.
Не любил я вспоминать службу. Мне ТАМ было страшно. Я боялся выбросок по десантно-штурмовому с вертолетов, цепенел от какофонии разрывов, камневых рикошетов, криков, матов, стонов, когда инстинкт самосохранения растворялся в гибельном азарте – кто кого. Я боялся, закрывал глаза, но шёл, ведомый Хранительницей. Притворялся, что не боюсь и шёл, потому, что ТАК НУЖНО. Потому, что страшнее смерти подвести товарищей и оказаться трусом. Я их обманывал, изображал героя, а сам, каждый раз, как последний, нырял в проём боковой вертолетной двери, заштрихованный грязно-коричневой мутью, поминал Господа и не знал, проживу ли следующий час. А так хотелось жить! Пусть покалеченным, бездвижным; лишь бы глаза остались, чтобы книжки читать. Я выжил. Не стал героем и не стал трусом. Я был солдатом на ненужной войне. Мне повезло – возвратился домой. Знать судьбе-ведунье потребовалось сберечь меня для чего-то, для кого-то.
А вот Александр Иванович – мужик тёртый. Пять лет в Афгане. Не зря бросился людей спасать. До меня тогда сразу дошло, что военный. В отличие от того борова из «Жигулей», в отличие от меня, удравшего труса. И полез бы я в троллейбус второй раз, не будь его?.. Наверное, полез. Потому что жалко стало б тех задыхавшихся рыб. Хоть Закон Судьбы не знает исключения, и если кому было предназначено погибнуть в том троллейбусе – погибли б. А если суждено спастись, то они спаслись. И мы с Сашкой стали лишь инструментом в руках их судеб, исполнив свою свободную волю.







