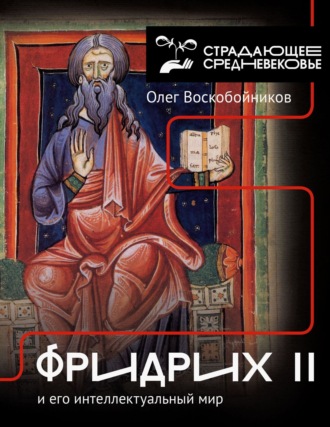
Олег Воскобойников
Фридрих II и его интеллектуальный мир
1. Фридрих II в игре зерцал
Еще Фридрих Ницше, в юности слушавший Якоба Буркхардта, называл Фридриха II «первым европейцем», «гением среди немецких императоров», «атеистом comme il faut»[9]. Вдохновение двух знаменитых мыслителей XIX века повлияло на формирование в историографии идеализированного и отчасти идеологизированного образа Фридриха II. Вторя средневековым хронистам, они говорили о нем как о «чуде света» и «удивительном реформаторе». Наряду со св. Франциском Ассизским его называли предшественником Возрождения[10].
Ценность подобных оценок по большей части археологического характера. Следует, однако, признать, что неослабевающий интерес к Фридриху II имеет основания. Он вошел в историю не только как император Священной Римской империи, с большим рвением отстаивавший свои политические права в борьбе против североитальянских коммун и папства, но и как человек с исключительно богатыми культурными интересами. Он не только сам интересовался тайнами природы, что становилось на рубеже XII–XIII веков явлением все более распространенным, но стремился организовать систематическое изучение их под своим покровительством.
Изучая мировоззрение средневекового монарха, нужно всегда иметь в виду, что речь идет не просто об интеллектуале или философе, будь он даже «философ на троне», но о некоем воплощении государства, модели государя, которую он сам хотел воплощать и которую в нем видели современники. На примере Фридриха II хорошо видно, что эти две модели могли сильно отличаться. Первая, естественно, положительная, отразилась в посланиях, исходивших из Великой курии, в законодательстве, в придворной переписке и в других возникших при дворе текстах, так или иначе несших на себе влияние мировоззрения Фридриха II. Эти тексты по определению в какой-то мере соответствовали этическим и политическим ценностям общества, к которому они обращались. Но, конечно, далеко не всем ценностям. Вторая модель, часто резко отрицательная, представлена в многочисленных источниках, связанных с враждебными Фридриху II лагерями, прежде всего с Римской курией и гвельфскими коммунами. Оба пласта представляют огромный интерес уже своим обилием. Но при их рассмотрении нужно всегда сохранять критическую дистанцию, имея в виду крайнюю напряженность политического климата Италии XIII века. Литература, искусство, официальная переписка и законодательство становились средствами политической пропаганды. Отголоски политической борьбы мы встретим не раз в самых разных свидетельствах.
Свою задачу я вижу в том, чтобы в реконструкции интеллектуальных интересов Фридриха II попытаться понять, как в этом неординарном персонаже сочетались модель государя и те черты, которые мы на сегодняшнем языке назвали бы индивидуальными. Позволяют ли имеющиеся у нас источники провести такое разделение? Нам предстоит не раз задуматься над этим важнейшим вопросом. В какой мере и как именно представления императора об окружающем мире связаны с общеевропейским контекстом, прежде всего с появлением и ростом влияния университетов, рецепцией аристотелизма и научных сочинений мусульман и иудеев, а также с новой практикой художественного образа и культурой книги?
Фридрих II родился 26 декабря 1194 года в Йези, в Анконской марке. Его отец, Генрих VI Штауфен, в 1191 году был избран императором Священной Римской империи, но с 1169 года он уже был соправителем своего отца Фридриха I Барбароссы. В 1186 году он был обвенчан с Констанцией Отвиль, последней дочерью короля Сицилии Рожера II (1097–1154) и одной из претенденток на престол. В результате довольно продолжительной борьбы Генриху VI удалось нейтрализовать норманнскую династию в лице Танкреда, графа Лечче. Произошло объединение Сицилийского королевства и Империи. Хотя оно было осуществлено при непосредственном участии папства, в XIII веке эта уния стала камнем преткновения во взаимоотношениях империи и папства: Папское государство, Патримоний Св. Петра, оказалось зажато между владениями Штауфенов и одновременно преграждало стратегически важный путь с Севера на Юг новым властителям.
Петр Эболийский, писавший под влиянием или по заказу Констанции, а затем Генриха VI и канцлера Конрада Кверфуртского, воспевал рождение наследника в самых восторженных выражениях, явно ориентируясь на хорошо известного ему Вергилия[11]. За риторикой умиротворения природы скрывалась политическая программа Штауфенов, основанная на установлении нового политического устройства Южной Италии, она не раз будет встречаться в гибеллинской публицистике и поэзии. Политическая программа, однако, не помешала Констанции отдать сына на воспитание герцогине Сполето. Первые три года жизни Фридрих II находился в Умбрии, после чего был отправлен на Сицилию. Остается только гадать, что именно впитал в себя мальчик, живя в Палермо, даже если мы и сегодня можем видеть те же великие греческие мозаики, которые, наверное, и на Фридриха II производили сильное впечатление[12].
Палатинская (т. е. дворцовая) капелла, в которую постоянно ходил Фридрих II, украшен мозаиками и великолепным деревянным потолком. Он создан арабскими резчиками и художниками в 1140-х годах по заказу Рожера II. Здесь он мог видеть сцены из мирной жизни мусульманских государей, застолья, танцы, охоту, отсылки к христианской образности. Если представить себе, что юноше кто-то объяснял различные смыслы, которые вкладывались в такой декор мусульманской художественной традицией, можно строить гипотезы на тему того, как это великое искусство повлияло на его сознание. Удивительное сочетание строгой геометрии и куртуазной роскоши могло сформировать что-то во вкусах будущего императора – но что именно? Желание организовать государство и науку по строгим законам логики и математики[13]. Сомнительно. Капеллой восхищались, но даже очень умный анонимный панегирист Палермо, писавший около 1170 года, не нашел для потолка ничего кроме нескольких общих слов на тему «изящной резьбы» и «блеска золота»[14]. Ничто не доказывает, что тонкости масштабной изобразительной программы великой капеллы доходили до сердец и умов сицилийских государей.
Королевская капелла, капелланы и прелаты, включая двух архиепископов, Палермо и соседнего Монреале, безусловно были той средой, которая отвечала за воспитание мальчика. Но мы никогда не узнаем, какими глазами все эти люди смотрели на потолок, восхищающий сегодня любого туриста. Ничто не доказывает, что они видели в нем нечто большее, чем экзотическое для христианского храма украшение. Семь капелланов, служивших в Палермо в 1200-х годов, известны по именам, понятно, что они видели наследника трона часто, но почти ничего не известно, как это на нем отразилось[15].
Младший современник Фридриха II, францисканский хронист Салимбене приписывал ему знание нескольких языков[16]. Историки склонны ему верить: на латыни написана «Книга об искусстве соколиной охоты», о которой нам предстоит говорить, на сицилийском вольгаре – три коротких стихотворения[17]. Знание средневерхненемецкого мы принимаем как данность, ведь Фридрих II провел около десяти лет в Германии (1212–1220 годы, середина 1230-х годов). Что до греческого, иврита, арабского, старопровансальского, о которых писали прежде патриотично настроенные исследователи, то здесь мы остаемся в области догадок[18]. Присутствие значительного греческого меньшинства в Апулии и Калабрии, контакты, его политическая и религиозная активность – все это еще не было поводом учить их язык. Несмотря на неподдельный интерес к народам, говорившим на чужих языках и следовавших чужим обрядам, в своей политике к ним, к своим подданным, Фридрих II вообще часто оказывался более чем традиционным средневековым государем[19].
После смерти мужа (1197) королева Констанция, активно взявшись за правление, передала королевство в лен папе Иннокентию III (1198–1216), одновременно обеспечив наследственные права сыну и найдя ему могущественного, талантливого и авторитетного опекуна. В деле воспитания вскоре совсем осиротевшего юноши понтифику помогали немолодой кардинал Ченчо Савелли, в будущем папа Гонорий III, епископ Катании Рожер и другие высокопоставленные клирики. Однако ничего конкретного об их дистанционном влиянии на молодого монарха нам неизвестно.
Резонно задаться вопросом: где Фридрих II приобрел свою не совсем обычную для светского государя, а для иных современников и вовсе скандальную любознательность? Где искать истоки его специфической лояльности к иноверцам, которую не следует путать с политической веротерпимостью? Откуда он мог почерпнуть начатки знаний в то время, когда, по свидетельству современника, «в королевстве почти не было образованных людей»?[20] Даже если позитивно настроенный по отношению к Штауфенам хронист в 1280 году преувеличивал масштаб упадка в неизвестном ему прошлом, смутное для итальянского юга начало XIII столетия действительно не располагало к ученым дискуссиям – тем более придворным, поскольку двора как такового не было. Среди капелланов и клириков Сицилийского королевства около 1200 года никто не вошел в историю словесности, не оставил серьезных следов какой-либо интеллектуальной работы.
Сохранилось несколько писем неизвестного придворного Фридриха II к Иннокентию III, в которых он рассказывает о достоинствах и занятиях молодого короля. В одном из них, описывающем усобицу начала 1207 года, говорится о Фридрихе II: «Своими познаниями он настолько обогнал свои годы, в добродетели он столь выше своего возраста, что в нем не найти ничего, что не подобало бы мужу совершенному и зрелому. Без сомнения он уже может управлять, ибо способен сам судить о добре и зле среди христиан и среди неверных»[21]. Такая фраза вполне может восприниматься как хвалебная риторика – не случайно ей вторит Иннокентий III, рекомендуя юношу его будущему тестю, королю Арагона[22]. Именно в эти годы Фридрих II начал активно вмешиваться в управление королевством, появляются первые подписанные им лично дипломы.
В том же письме есть другое интересное для нас свидетельство, отчасти подтверждающее приведенное выше, отчасти противоречащее ему. Автор хвалит внешние качества молодого короля, его физическую подготовку, после чего добавляет не без беспокойства: «Нрав у него необычный и строптивый, не по природе, а по грубому его образу жизни. Однако врожденное королевское достоинство, по природе своей предрасположенное к лучшему, если и приобретет нечто неподобающее, в скором времени будет исправлено благими привычками.
Кроме того, наскучив общением с наставником, он жаждет свободы суждений. Насколько можно судить, ему кажется позорным, то ли что им управляет воспитатель, то ли что его, короля, держат за мальчика. В результате, сбросив власть воспитателя, будто получив на то разрешение, он зачастую отклоняется от подобающих королю правил поведения, затевает публичные разговоры, и такие пустые дискуссии попирают достоинство трона»[23]. За чеканным ритмом придворного письмоводительства хочется видеть зарисовку из жизни.
Проводя бо́льшую часть дня в военных упражнениях, как это было свойственно знатной молодежи, «все время после мессы он проводил за чтением истории о сражениях»[24]. Под armata historia подразумевались, видимо, рыцарские романы и песни о деяниях, «жесты», которые получили в Южной Италии широкое распространение благодаря связям норманнской династии с Северной Европой. Какой-то интерес к новинкам император проявлял и позже: 5 февраля 1240 года он благодарит одного чиновника из Мессины за посылку ему «принадлежавших покойному магистру Иоанну Романсору 54 тетрадей, переписанных с книги Паламида»[25]. Однако нет свидетельств систематического интереса. Сын Фридриха II Манфред не без гордости писал уже после смерти отца о богатстве семейной библиотеки. Но ее состав реконструируется лишь в самых общих чертах[26].
Для западноевропейской знати зрелого и позднего Средневековья зерцалом мужественного и справедливого государя служил, среди прочих, Александр Македонский. Повествования о нем формировали картину мира, наполненную чудесами – теми самыми, которые встречал на своем пути давно ставший легендой завоеватель[27]. После относительного забвения в период раннего Средневековья образ Александра вновь начал завоевывать популярность начиная с середины X века. Тогда по наказу неаполитанских герцогов Иоанна III и Марина II архипресвитер Лев отправился с посольством в Константинополь и переписал там оказавшуюся в его руках «историю о битвах и победах Александра, царя Македонии». Тот же архипресвитер перевел эту версию романа псевдо-Каллисфена на латынь[28]. В дальнейшем приключения Александра рассказывались фактически на всех языках средневековой словесности, обрастая новыми экзотическими подробностями.
Одна версия «Романа об Александре», «Historia de preliis I2», датируемая третьей четвертью XIII века, скорее всего, правлением Манфреда (1258–1266), происходящая из Южной Италии, сохранилась в Библиотеке Лейпцигского университета[29]. Сюжет вполне традиционен: рассказы о битвах и путешествиях Александра Македонского в то время уже формировали представления европейцев о далеких землях и диковинных народах. Необычность рукописи состоит в ее богатейшей иконографической программе, и это самый ранний из дошедших до нас масштабных живописных циклов об Александре Македонском[30]. Есть основания полагать, что именно через Южную Италию в XIII веке в латинскую Европу из Византии проникла иллюстративная программа романа пс. – Каллисфена, основа которой лежит самое позднее в III веке. Среди иконографических источников нашего «Романа об Александре» следует упомянуть иллюстративную традицию историка Павла Орозия и греческие рукописи, ходившие между православными монастырями Апулии, Сицилии и Калабрии[31].
Лейпцигская рукопись содержит 167 миниатюр, выполненных в богатой палитре, иллюстрирующих около 200 сцен. Несмотря на «медиевализацию» многих деталей, связь их с античной традицией видна по следующему признаку: они не отделены от текста никакой рамкой, что создает совершенно особую неразрывную связь между текстом и изображениями. Эта особенность оформления характерна и для других рукописей, связанных с двором Фридриха II. Такой способ связывания текста и изображений унаследован средневековыми кодексами от античных свитков, он продержался до позднего Средневековья и вошел в историю печатной книги Нового времени[32].
Заказчиком столь богато иллюминированного кодекса мог быть лишь знатный человек, возможно, сам Манфред. Учитывая существование рукописи BnF nouv. Acq. Lat. 174, мы можем предположить, что Фридриху II, чьим вкусам и интересам верно следовал его сын, был известен какой-то прототип лейпцигского памятника, наверняка с ним схожий. Поэтому прочтение текста и изображений дошедшего до нас «Романа об Александре» поможет прояснить некоторые аспекты мировоззрения Фридриха II и его окружения.
Здесь мы видим чудовищ, с которыми приходится непрестанно сражаться войску Александра (fol. 65r, 66r, 98r), женщин-вампиров (lamie), чьей красоте удивляется Александр (fol. 73r), амазонок (fol. 61r) и мужчин с головами на груди (fol. 104r). Наряду с традиционными образами средневекового воображения есть и такие, которые подтверждают связь с двором Фридриха II: слоны, использовавшиеся в войске персидского царя Пора, были вооружены своего рода башнями, в которых находились воины (fol. 60r). Точно таким же описывает слона Фридриха II Салимбене[33]. Кроме того, миниатюры в лейпцигской рукописи, изображающие слонов, отличаются натурализмом. Хочется даже предположить, что художник сам видел знаменитого на всю Европу слона в зверинце Штауфенов. Он, в частности, не последовал довольно распространенному еще с Античности мотиву клетчатой моделировки кожи, условно, орнаментально передававшей складки на коже животного. Довольно часто слонов изображали не с ногами, а с лапами, подходившими для хищников из семейства кошачьих. Миниатюрист лейпцигской рукописи в этом плане намного ближе к действительности.
Южноитальянский мастер не был одинок: в 1255 году британский историк и художник Матвей Парижский (Мэтью Пэрис) специально поехал из Сент-Олбанс в Лондон, чтобы срисовать слона живьем для своей истории[34]. Считается, что он первым показал движение ног слона: в бестиариях утверждалось, что он вообще лишен коленных суставов и поэтому якобы спит, прислонившись к дереву, подрубив которое охотники легко справлялись с беспомощно падавшим на землю животным. Фантазии таких «натуралистов» сливались с фантазией художников, давая истории живописи исключительно устойчивые иконографические типы. Способность рисовать с натуры, проявленная Матвеем, пробивавшая себе дорогу в искусстве середины XIII в., не была уникальной, и мы об этом еще будем не раз говорить. Его слоны, несомненно, самые натуралистичные в живописи его времени. Однако характерно, что, описывая слона Фридриха II, которого он лично не видел, Матвей решил последовать устойчивому литературному и художественному шаблону, что хорошо видно на одной миниатюре[35].
Миниатюры, как известно, несут не менее важную для средневекового читателя информацию, чем само повествование. То, что может быть рассказано словами, приобретает гораздо большее значение, если оно выделено изображением. Естественно, особое внимание миниатюрист уделяет главному герою. На листе 53r за рассказом о победе Александра над Дарием следует изображение македонского царя-победителя на троне в окружении приближенных. Но особое значение в цикле репрезентации власти получает изображение вознесения Александра на небо. Рассказ лаконичен. Увидев большую гору на берегу Красного моря, государь решил обозреть всю землю, приказал поймать двух грифов и, привязав их к корзине, уселся в нее. Насадив на два копья приманку, он заставил строптивых животных поднять его в небо. «Грифы поднялись так высоко, что Александру была видна вся земля, словно тарелка, на которой толкут фрукты. Вокруг земли было видно море, извивающееся, словно дракон». Этот апофеоз Александра прервался, «божественное всемогущество» низвергло грифов на землю. Все же, по возвращении Александра в лагерь, «воины встретили его радостными криками, славя его словно бога»[36].
Эта легенда вошла в «Роман об Александре» в IX в. Ее идеологическое значение может быть правильно понято при углубленном изучении ее иконографии, уходящей корнями в искусство Междуречья, от загробных путешествий душ усопших до философского экстаза[37]. В византийском мире вознесение Александра обычно толковалось положительно[38]. На Западе восприятие вознесения Александра могло быть иным: следуя библейской экзегетике его трактовали как иллюстрацию непомерной человеческой гордыни, вознамерившейся познать божественные сферы. Такое понимание не было чуждо религиозному сознанию жителей Южной Италии: например, в напольной мозаике 1160-х годов в соборе города О́транто на юге Апулии этот образ очевидным образом сопоставляется с первородным грехом. Противостояние здесь норманнов и Константинополя ощущалось довольно сильно и, конечно, проявлялось в искусстве. Латинский клир Отранто, находившегося на землях с доминировавшим греческим населением, демонизировал Александра Македонского и тем самым очернял его наследников – византийских василевсов[39].
В Риме около 1240 года по заказу кардиналов Александра изобразили как олицетворение гордыни, которую попирает персонификация Страха Божьего. Здесь, в так называемом Готическом зале монастыря Четырех мучеников, македонский правитель оказался в не слишком приятной компании Иуды, Мухаммеда, Нерона, Юлиана Отступника и Симона Мага. Поскольку этот монастырь был непосредственно связан с курией, то нечего удивляться, что в момент напряженного противостояния между папством и Империей пороки изображены как олицетворения светской власти, одним из представителей которой как раз и стал Александр[40].
Интересно, что в лейпцигском «Романе об Александре», восходящем к византийскому прототипу, вознесение македонского государя вновь трактуется позитивно. Завоевания почти завершены, Александр на вершине славы и достиг края земли. Истинное величие власти состоит в том, чтобы стремиться к познанию неба и всего мироздания. Хотя «божественное всемогущество» осудило Александра, войско встречает его с ликованием. Миниатюрист опускает падение, но изображает государя сидящим на троне, вознесенном над землей (илл. 1). В соотношении текста и изображений в каждом конкретном случае всегда можно обнаружить смысловые оттенки, причем изображение для читателя, привыкшего к иллюстративному материалу, обладало не меньшей убедительностью, чем текст. Если таким читателем был Фридрих II, парадигма ученого монарха, идущего на риск и поначалу даже на конфликт с дружиной ради познания, могла повлиять на формирование его самосознания. Как мы увидим в дальнейшем, именно такой модели Фридрих II следовал в своей интеллектуальной деятельности, ставшей частью его политики и представлений о своей власти[41].
Любознательность Александра является одним из мотивов Лейпцигской рукописи. Увидев «круг земной» (orbis terrae), Александр, по наущению Аристотеля, решил изучить «глубины моря». Он приказал сделать стеклянный сосуд, «чтобы он мог все четко видеть снаружи», после чего его опустили в воду, где он наблюдал жизнь рыб и других тварей, «ползавших по морскому дну, словно животные по земле, которые поедают плоды с деревьев. Эти твари подползали к нему и убегали. Он видел там еще много чудесных вещей, о которых он никому не захотел рассказывать, потому что они казались людям невероятными»[42]. Этот рассказ сопровождается соответствующей миниатюрой, на которой мы видим Александра, сидящего в прозрачном сосуде и наблюдающего за жизнью подводных животных.
Сама собой напрашивается параллель с одним из опытов Фридриха II, о которых рассказывает Салимбене, называя их «чудачествами» (superstitiones). Фридрих II приказывал некоему сицилийцу Николе «против его воли» нырять в Мессинский пролив с тем, чтобы измерить плотность воды и рассказать о жизни рыб, увидев их воочию. Упоминание этого «эксперимента» в хронистике не следует считать свидетельством того, что он действительно имел место, несмотря на то что Салимбене, как это ему свойственно, ссылается на самые что ни на есть надежные свидетельства очевидцев, своих друзей-францисканцев из Мессины. За его рассказом стоит древняя средиземноморская легенда о Николе Рыбе (Nicola Pesce), нырявшем в море, чтобы исследовать жизнь морских организмов. Интересен тот факт, что современники приписывали Фридриху II активное участие в этой широко известной истории, связанной с познанием природы опытным путем[43].
В «Истории сражений» Александр Македонский тоже ставит опыты: чтобы узнать характер встреченного по дороге «дикаря, покрытого шерстью, словно свинья», перед ним ставят девушку, которую он тут же попытался утащить в лес, и ее удалось отнять лишь с большим трудом. Дикарь был схвачен и сожжен живьем (fol. 87r). Александр спускается в Ад с тем, чтобы узнать, как он устроен, встречает там сначала Сесонхозиса[44], затем Сераписа, «отца всех богов», (origo omnium deorum), сидевшего на черном облаке. Задав вопрос о том, сколько лет ему осталось жить, Александр получил ответ, что ни одному из смертных не дозволено знать этого (fol. 96v–97r).
Жажда познаний, «этнографический» интерес к незнакомым племенам – вот то, что движет героем романа. И миниатюрист, вслед за текстом, старается максимально изобретательно показать чудеса Индии. Александр хочет расспросить брахманов об их обычаях, даже кишащий крокодилами и скорпионами Ганг не может остановить его: он затевает переписку с царем Диндимом, используя для посылки писем «суденышко», parvam naviculam (fol. 82v, 85r)[45]. Он приказывает своим воинам переплывать реки, чтобы допросить местных жителей, но те пали жертвами крокодильих зубов (fol. 64r). В нашей рукописи Индию населяют полулюди, привычные для средневековой картины мира. Их можно встретить на страницах энциклопедий, романов и на тимпанах соборов, в том числе на юге Италии[46]. Но здесь же и вечная мечта о «добром дикаре», гимнософистах и брахманах, живущих блаженной жизнью, не знающих ни пороков цивилизации, ни даже религии (fol. 86v).
У гигантов-циклопов художник отнял не только один глаз, но и одну ногу, сблизив их таким образом с другой не упоминаемой в романе расой одноногих, в существовании которой никто не сомневался (fol.103v). Такое небольшое несовпадение между текстом и изображением не следует считать ошибкой – за ним стоит метод работы художника. Он создает новый иллюстративный ряд, что называется, ad hoc, но прибегает и к уже устоявшимся иконографическим клише. Так, феникс в тексте описывается сидящим на высохшем дереве, лишенном листьев и плодов, nec folia nec fructus (fol. 88v). Однако для профессионального миниатюриста феникс – символ воскресения. Поэтому он идет на явный разрыв с текстом, используя раннехристианский образ феникса, сидящего на цветущем дереве, к которому старец ведет Александра[47]. Такие отклонения нормальны в оформлении средневековых рукописей, иногда они могут быть случайными, как в данном случае, иногда же несут особую смысловую нагрузку.
Рукопись заканчивается четырьмя необычными миниатюрами: это изображения 15 государей и царицы Клеопатры, сидящих на тронах со скипетрами, мечами и соколами в руках (fol. 113r–114v, по четыре изображения на каждом листе). Александр Македонский оказывается вписанным в мировую историю, от персов до римлян, от Кира до Августа – фигуры, исключительно важной для идеологии Штауфенов. Как я уже говорил, текст рукописи и ее миниатюры изобилуют сюжетами, являющими величие власти владыки мира. Своеобразная «генеалогическая схема», встречающаяся и в других исторических рукописях того времени, подводит итог истории, воспевшей македонского царя – воина, естествоиспытателя и этнографа. В последующие же столетия такие серии условных портретов «знаменитых мужей» и «знаменитых жен» стали самым обычным оформлением дворцов знати во всех странах Запада.
Лейпцигская рукопись не принадлежала Фридриху II, но обилие иконографии власти указывает на то, что заказчиком явно был знатный мирянин. Если вчитаться в этот текст и всмотреться в его иллюстрации, и в том и в другом можно увидеть то, что могло повлиять на формирование мировоззрения Фридриха II. Если мы зададимся вопросом, где искать источник его необычной любознательности, можно предположить, что одним из примеров для подражания ему послужил образ мудрого монарха, познающего тайны неба и преисподней, земли и моря, тайны, о которых он не хочет рассказывать во всеуслышание, потому что такого знания достоин лишь он сам. Александр мог послужить для Фридриха II «зерцалом государя», в своей тяге к знанию он следовал образцам для подражания. Вскоре мы увидим на материале других текстов, что Фридрих II часто задавал природе те же вопросы, что и Александр.
С семьей Штауфенов связан и другой памятник, в котором македонскому правителю отведено немаловажное место. Это «Пантеон» (Pantheon) Готфрида из Витербо († ок. 1200 г.). Итальянская рукопись из Национальной библиотеки Франции (BnF, lat. 5003) датируется XIII веком[48]. В ней сохранилась иллюстрированная версия апокрифического «Письма Александра Аристотелю» (Epistola Alexandri Magni ad Aristotelem, fol. 92r), на определенном этапе вошедшего и в «Роман». Александр иногда изображается сидящим на троне, иногда описывается, словно Беовульф, в одиночку одолевающий всякую нежить. Этот эпос сочетается с пророчествами о «последнем космократоре». Он должен явиться из рода Штауфенов, чтобы победить в финальной битве апокалиптические племена Гог и Магог, запертые Александром в Каспийском море, возложить свою корону и Животворящий Крест Христа на Голгофу до Судного дня[49]. Готфрид был одним из тех авторов, которые наряду с Оттоном Фрейзингенским, дядей и историографом Барбароссы, очень серьезно отнеслись к апокрифическим пророчествам Тибуртинской и Кумской сивилл, распространившихся во второй половине XII века в землях Империи.
Именно в этом эсхатологическом климате возникли мечты о Последнем императоре, уходящие своими корнями в мессианские представления древних иудеев[50]. В норманнской Сицилии были известны Сивиллины книги, переведенные с греческого на латынь Евгением Палермским, крупным чиновником, которому принадлежат также переводы «Оптики» Евклида, басенного сборника «Стефанит и Ихнилат» (греческой версии индийского по своему происхождению цикла «Калила и Димна»). Евгений работал и при дворе Штауфенов до своей смерти в 1203 году[51]. «Пантеон» могли знать при дворе Фридриха II, подражали ему и позднейшие историки.
При реконструкции интеллектуального горизонта Фридриха II мы постоянно встречаемся со всевозможными политическими и историческими коннотациями наших источников. Приведем еще один пример, связанный с появлением на географической карте латинской Европы монголов и татар.
Образ Александра был связан в средневековой литературе с Гогом и Магогом. В первой половине XIII века Европа оказалась перед угрозой монгольского нашествия. До вторжения монголо-татар в Польшу и Венгрию у европейцев были иллюзии о возможности мирного сосуществования, поскольку разгром русских княжеств никого не волновал и прошел слух, что в их войске было немало несториан. Кто-то хотел видеть в них союзные войска легендарного пресвитера Иоанна, которые должны были помочь христианам наконец-то нанести поражение исламу. С вторжением Чингизидов в западные христианские страны иллюзии рассеялись. В контексте эсхатологических ожиданий, свойственных этому времени и отразившихся в самых разных документах, монголы, Mongoli, были идентифицированы с Magogoli: нехитрая лингвистическая операция, вполне типичная для Средневековья. Столь же легко было ассоциировать их с исмаилитами, которым псевдо-Мефодий, исключительно популярный в XIII веке, отводил роль последнего наказания перед наступлением конца света. Роджер Бэкон уже не сомневается, что с их нашествием сбывается пророчество о последних временах, когда Гог и Магог прорвутся сквозь Каспийские врата, запертые некогда Александром Македонским, и разорят землю. При этом он ссылается на некоего францисканца, посланного к великому хану Людовиком IX, который якобы прошел сквозь эти ворота и затем углубился в горы (имеется в виду, конечно, миссия Гильома де Рубрука)[52].







