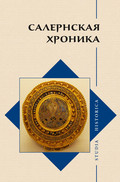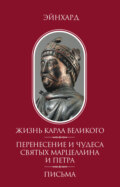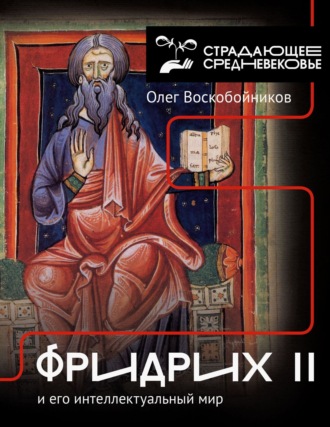
Олег Воскобойников
Фридрих II и его интеллектуальный мир
Подобные примеры нетрудно умножить. Они показывают, что «праздным» чье-либо любопытство оказывалось под чьим-то конкретным пером. Никому не пришло в голову обвинять в нем того же Климента IV, адресата всех основных сочинений Бэкона, или его предшественника Урбана IV, проводившего у себя в столовой (mensa) ученые споры. Осуждая Фридриха II, Салимбене следует представлениям о греховной природе любопытства, унаследованным францисканцами от предшествующей традиции, в особенности от св. Бернарда Клервоского[140]. Сам он признается, что после смерти предтечи Антихриста в 1250 году и особенно после 1260 года, в котором ожидали конца света, он предпочитает «верить только тому, что видит». Такое сочетание наивной веры в самые невероятные сплетни с желанием убедиться во всем воочию, видимо, характерная особенность не только культуры XIII века в целом, но и в частности культуры францисканцев, глубоко визуальной, зрительной по своей природе.
* * *
В энциклике 1239 года об отлучении Фридриха II Григорий IX обвиняет императора, в частности, в том, что он «открыто заявлял, если использовать его собственные слова, что мир был обманут тремя обманщиками: Христом, Мухаммедом и Моисеем, из которых двое умерли благородной смертью, а Иисус – на кресте»[141]. Луи Массиньон исследовал мусульманские корни этой легенды о трех обманщиках. Там наихудшим из трех «обманщиков» оказывался пророк Мухаммад, погонщик верблюдов[142]. Вполне вероятно, что в исламе истоки этой легенды следует искать в ересях, в свою очередь, связанных с христианством. Так, в X веке аш-Шальмагани, объявивший себя носителем духа божия и сожженный визирем Ибн Муклой, учил, что Иисус соединил в себе все божественное и человеческое, а Моисей и Мухаммад были «обманщиками»[143]. В христианизированной версии Иисус тоже оказался обманщиком, причем худшим. Вряд ли такое обвинение в богохульстве могло иметь что-то общее с реальными высказываниями Фридриха II: именно на это обвинение он отреагировал особенно быстро[144]. Во время ожесточенной полемики 1240-х годов оно уже не используется.
Папская пропаганда распространила слух, что Фридрих II отрицал также непорочное зачатие: «Он считал глупцами всех, кто верил, что Бог мог родиться от Девы, поддерживал еретическое суждение, что никто не может родиться, если зачатию не предшествовало соединение мужчины и женщины. Он утверждает, что человек должен верить только тому, что он может объяснить, исходя из законов природы»[145]. Это одно из обвинений, которые приводит английский бенедиктинец Матвей Парижский, что свидетельствует об эффективности папской пропаганды, ее широкой аудитории. Матвей знаком с приписанным императору высказыванием о трех обманщиках, но старается оправдать государя, которому симпатизирует: «В своих письмах он смиренно и согласно католической вере пишет о Боге, кроме того, что касается личности последнего папы (Иннокентия IV. – О. В.), но не самого достоинства понтифика. Он никогда не проповедует публично и не заявляет дерзко ничего еретического или нечестивого, насколько нам на данный момент известно»[146].
Эти краткие замечания интересны с нескольких точек зрения.
1. Взвешенность. Хронист не опровергает всех обвинений в адрес императора, часто касавшихся его личного морального облика, личных мнений – их редко можно было проверить. Для хрониста, напротив, важна публичная сфера репрезентации власти, отразившаяся в официальных посланиях и, возможно, в дипломатических миссиях Петра Винейского и других придворных в связи с женитьбой Фридриха II на Изабелле Плантагенет в 1235 году. В этой сфере Фридрих II действительно выступал как христианнейший государь, princeps christianissimus. В данном случае текст хроники очень хорошо иллюстрирует трудности реконструкции личного мировоззрения средневекового монарха, ибо человек той поры исключительно редко видел в монархе его индивидуальные качества, гораздо чаще – отражение этико-политических норм и конфликтов своего времени[147].
2. Вопрос о религиозности Фридриха II. Историки периодически поддавались соблазну видеть в нем правителя, по меньшей мере индифферентного к христианской религии. Эрнст Канторович достаточно четко выразил свою позицию по этому вопросу, назвав последнюю главу своей замечательной книги «Антихрист», возможно, не без влияния одноименного эссе Ницше[148]. Ганс Низе, в целом осторожно трактующий духовную жизнь при штауфеновском дворе, также считает, что мировоззрение Фридриха II было антихристианским: главное, что владело его духом, считает автор, – это философия природы, материальный мир; у Аверроэса он должен был перенять уверенность в смертности души и конечности мира[149].
Такие толкования исходят из желания модернизировать Фридриха II, стилизовать его под этакого первого ренессансного «тирана» и тем сделать более понятным нашему современнику. Проблема, однако, лежит глубже: как могли сочетаться его веротерпимость, дружба с мусульманскими правителями и широкие интеллектуальные интересы с официальной ролью «защитника церкви», advocatus, patronus et defensor ecclesiae, которую он разделял фактически со всеми средневековыми государями?[150] Ганс Шаллер в интересной статье о религиозности Фридриха II попытался отдельно рассмотреть его личную религиозность и политику в отношении Церкви, Kirchenpolitik. Судя по приведенным Шаллером многочисленным материалам, Фридрих II был вполне набожным человеком. Хотя исследователь признает, что из официальных дипломов мало что можно почерпнуть относительно личных представлений императора, он отмечает, что в них часто говорится о бренности мира и величии благочестивых дел. Формула «хотя все бренно» (etsi omnia caduca sunt) употребляется в королевской переписке с 1209 года, причем не для красного словца: такова религиозная мотивация политики, которую вел Фридрих II. Он не первый стал отправлять на костер еретиков, но именно он сделал это нормой в Империи, считая борьбу с еретиками своим католическим долгом и даже оспаривая эту прерогативу у папы[151]. Границы веротерпимости Штауфена заканчивались, судя по всему, там, где начинались государственные интересы, а ересью часто могло считаться политическое диссидентство[152].
Приведенный мной пассаж из Матвея Парижского о «смиренности» Фридриха II говорит о том, что император боролся не против Церкви, не против духовной власти вообще, но против конкретных иерархов. Как и большинство его современников, он был приверженцем теории двух мечей, духовного и светского, взаимно поддерживающих друг друга. В этом Матвей Парижский со свойственной ему проницательностью уловил очень важную особенность сознания Фридриха II, не выступающего против существующего устройства западнохристианского мира, но пытающегося привести его к гармонии согласно собственным представлениям о справедливости.
Ни один из историков, занимавшихся этой проблемой, не задал себе такой простой вопрос: почему в «Книге об искусстве соколиной охоты», столь ярко отражающей мировоззрение императора, нет даже намека на присутствие Бога в тварном мире? У Матвея Парижского сказано: «Человек должен верить только тому, что он может объяснить, исходя из законов природы» (Et homo debet nihil aliud credere, nisi quod potest vi et ratione nature probare). Снова английский хронист из потока слухов и мнений выделяет нечто главное, определяющее характер Фридриха II. У нас будет немало поводов убедиться в верности этого высказывания. Немного забегая вперед, сопоставим его с основным принципом «Книги об искусстве соколиной охоты»: «Наше намерение состоит в том, чтобы в книге о соколиной охоте показать вещи такими, какие они есть» (Intentio vero nostra est manifestare in hoc libro de venatione avium ea que sunt sicut sunt)[153].
Не одной лишь проницательностью объясняется тот факт, что Матвей Парижский, при всей лаконичности, столь точно отражает мысль императора. В выборе хрониста сказалось и его собственное мировоззрение. Он был не только писателем, но и художником-миниатюристом, чутко относившимся к натуралистичному отображению действительности. Матвей Парижский пишет и рисует в то же время, когда Виллар де Онкур собирает в свой блокнот зарисовки архитектурных форм, людей и животных, сделанные с натуры, в эпоху расцвета «готического натурализма» во Франции, в Германии и на итальянском юге. Вполне возможно, что эмпиризм сознания Фридриха II, его новое чувство природы находило отклик у таких людей, как он. После Салимбене перед нами еще один пример литературного образа, но созданного пером, чутким к новым тенденциям в развитии культуры. Эта эпоха находила во Фридрихе II то, что искала, и различала в его характере те черты, которые способна была различить, описать и интерпретировать.
* * *
Одним из источников, позволяющих узнать, какие вопросы интересовали Фридриха II, является «Книга о частностях» (Liber particularis) шотландского астролога и переводчика с арабского Михаила Скота. Это вторая, относительно независимая часть его масштабной «Книги введения», или просто «Введения» (Liber introductorius), написанной около 1230 года по заказу императора «для начинающих и небогатых интеллектом». О Михаиле Скоте речь пойдет позже. Сейчас нас интересует один довольно оригинальный фрагмент, с которого начинается раздел «Книги о частностях», посвященный «глубинам земли и чудесам мира». Это список вопросов, которые, как уверяет автор, всегда интересовали императора и были предложены Михаилу для разрешения. Приведу его целиком[154].
«Фридрих, августейший император Рима, давно уже сам систематически размышлял о разнообразных явлениях земли, которые можно наблюдать на ней, над ней, внутри нее и под ней. Однажды он позвал к себе меня, Михаила Скота, среди прочих наиболее верного ему астролога, и задал мне втайне по порядку вопросы об устройстве земли и о чудесах, которые на ней содержатся, начав так:
Дорогой мой магистр, мы часто слышали от одного человека и от многих различные вопросы и их решения о небесных телах, т. е. о солнце, о луне и неподвижных звездах на небе, об элементах, о душе мира, о народах языческих и христианских и о других созданиях, которые сосуществуют над землей и на земле, таких, как растения и металлы. Еще слышали мы о тех тайнах, которые предназначены для услаждения духа и мудрости, т. е. о рае, чистилище и аде и об устройстве земли и ее чудесах. Поэтому мы просим тебя, чтобы ты из любви к мудрости и из почтения к нашей короне изложил нам устройство земли, т. е. как она держится над бездной, и как пропасть под землей пребывает, и есть ли что-нибудь, что поддерживает землю, кроме воздуха и воды, или она стоит сама, или она находится над небесами, которые под ней; сколько небес, и кто их носители, в них по преимуществу пребывающие; насколько одно небо в истинном измерении отстоит от другого, и что находится за последним небом, ведь их много, и насколько одно небо больше другого; на каком небе Бог находится по существу, т. е. в божественном величии, и как Он сидит на троне небесном; как к Нему приобщаются ангелы и святые, что ангелы и святые постоянно делают возле Бога. Скажи нам далее, сколько бездн, и как называются духи, в них живущие, где находятся ад, чистилище и рай небесный, т. е. ниже земли, в земле или над землей. Еще скажи нам, какова величина тела земли в ширину и в длину, и какое расстояние от земли до самого высокого неба и от земли до бездны, и одна ли бездна, или их много. И если их много, то насколько далеко отстоит одна от другой, имеет ли эта земля пустоши или она – твердое тело, наподобие живого камня. И какое расстояние от нижней поверхности земли до нижнего неба.
Скажи нам также, почему морская вода такая горькая и во многих местах становится соленой, а некоторые воды вне моря пресные, хотя вытекают все из одного и того же моря. Еще скажи нам о пресной воде, почему она всегда бьет из земли, иногда из камней и из деревьев, как это видно, когда весной подрезают виноградные лозы; откуда она происходит и поднимается, и почему в одних местах она сладкая и мягкая, в других – прозрачная, в третьих – мутная, в четвертых – плотная, т. е. камедистая. Мы очень удивляемся этому, давно зная, что все воды вытекают из моря и, протекая разными путями по местностям, опять возвращаются в море, которое является ложем и вместилищем всех текущих вод. Поэтому мы хотели бы знать, существуют ли отдельный источник соленой воды или и соленая, и пресная вода проистекают из одного места, и если это так, то почему же эти воды столь друг другу противоположны; ведь если судить по разнице цвета, запаха и течения, то кажется, будто они из двух разных источников. Если же источника два, т. е. пресный и соленый, то мы хотим уточнить, какой из них больше, а какой меньше, и как так получается, что эти воды, растекаясь по земле, как кажется, круглый год в огромном изобилии вырываются на поверхность из своего ложа. И хотя они изливаются в таком изобилии, они тем не менее почти не превосходят норму, несмотря на столь бурное течение, но так и продолжают вытекать в том же количестве. Мы хотели бы знать, откуда берется соленая и горькая вода, источники которой можно найти в разных местах, а также зловонная вода, как, например, в местах для купания и в водоемах, становится ли она сама такой или проистекает откуда-либо. Как так получается, что эта вода бывает прохладной, теплой и кипящей, как будто она в какой-то емкости поставлена на раскаленный очаг. Откуда она проистекает, откуда берется, и почему некоторые воды всегда прозрачны, а другие – мутные. Хотели бы мы еще узнать, что представляет собой ветер, дующий со всех концов света, и огонь, вырывающийся из земли как на равнине, так и в горах. Что за дым появляется то здесь, то там, что его питает, что извергает, как видно на Сицилии и в Мессине: Монджибелло, Вулькано, Липари и Стромболи. Как так получается, что пламя появляется не только на земле, но и в некоторых районах Индийского океана?»
Перед нами текст, ставший знаменитым в истории ментальности. Уже впервые издавший этот список вопросов Чарльз Хаскинс видел в них «скептицизм, след еретика-эпикурейца, чья трагическая фигура является в одной из тысячи пылающих могил десятой песни Ада»[155]. Вслед за ним историки восхищались широтой интересов «чудесного реформатора», обладавшего, казалось им, непосредственным взглядом на природу, отразившимся именно в этих вопросах[156].
Можем ли мы полностью доверять Михаилу Скоту в верности передачи императорских вопросов? Перед нами, однако, текст, автором которого является именно он, придворный астролог. Все «Введение», особенно «Книга о частностях», является ответом на энциклопедический запрос Фридриха II. Но в какой степени всеобъемлющий характер этих вопросов связан с личными интересами Михаила Скота, а в какой – с интересами монарха? Почему не предположить, что астролог, претендующий на роль «самого верного среди прочих», приписал какую-то часть собственных вопросов своему августейшему покровителю? Он наверняка имел сильное интеллектуальное влияние на Фридриха II.
Следует обратить внимание на стиль изложения, который я постарался передать в переводе. Некоторые вопросы повторяются дважды, сформулированы сумбурно, что через несколько лет так раздражало шейха ибн Сабина в «Сицилийских вопросах». Разные страницы и разделы «Введения» вообще можно отнести к разным стилистическим регистрам: иногда автор предельно прост, иногда темнит. Следуя наказу императора, шотландский астролог не раз подчеркивает, что он пишет для простецов, pauperes intellectu, на разговорном языке, iuxta vulgare. Эта формула очень симптоматична.
Можно предположить, что в «вопроснике» он сознательно выбрал такой разговорный стиль, напоминающий нравоучительные exempla, которыми проповедники усыпали свои проповеди. Знала различные стили и ученая схоластическая латынь[157]. Бросается в глаза краткость и конкретность некоторых вопросов, которую мы уже замечали в других источниках. Как будто Фридрих II спешит задать как можно больше вопросов, экономя слова. Но является ли это особенностью его личного характера, его личной манеры выражаться, его личной жажды знаний? Или следует принимать во внимание литературный этикет и стилистический регистр? Михаил Скот, как и позже ибн Сабин, хотел предстать перед своими читателями участником настоящего диалога с императором. В начале третьего раздела «Физиогномики», третьего трактата «Введения» Михаил увещевает его:
«Советую вам: приглашайте ко двору докторов, магистров и талантливых от природы людей. Разговаривайте часто со многими, обращайтесь к их сердцам разумно и в домашней обстановке. Размышляйте о разном. Задавайте им вопросы, когда они с вами, и храните в сердце их ответы, дабы в дальнейшем и другие смогли вам помочь. Не уподобляйтесь сухой невозделанной земле, все отвергают за бесплодие. Поддерживай обучение наукам в твоем королевстве, устраивай диспуты в твоем присутствии, дабы восславился дух твой и увеличились твои природные дарования. Позаботься о том, чтобы править долго. Это будет так, если ты предашься добродетелям и будешь избегать пороков. Об этой морали мы еще расскажем тебе в ином месте, если Бог того захочет»[158].
Как видим, императорские вопросы становятся почти что частью придворного этикета, если не реального, то во всяком случае литературного. В научном трактате, написанном при дворе, следует постараться увидеть этот литературный этикет. Михаила Скота нельзя считать особым новатором в том, что он стимулирует любознательность государя. Скорее всего, он следует хорошо ему знакомой псевдоаристотелевской «Тайной тайных»: «Королю следует уважать знатоков законов, почитать священников, превозносить ученых, общаться с ними, выдвигать сложные вопросы, расспрашивать честным образом, скромно отвечать, самых ученых и благородных почитать особо, согласно статусу каждого»[159]. Но и банальным его призыв не назовешь, потому что далеко не все интеллектуалы и проповедники в те годы считали занятия наукой достойным делом государя, от которого ждали, напомню, мира и правосудия, а не философии. Не следует забывать, что сознательный клир считал образование и науку в целом своей прерогативой, оберегал ее так же ревниво, как сегодня соответствующие министерства.
Безусловно, Михаил Скот присоединился к Фридриху II потому, что этот монарх во многом соответствовал той модели просвещенного государя, в которой так нуждались европейские интеллектуалы со времен Иоанна Солсберийского, писавшего в середине XII века, что «необразованный король подобен коронованному ослу»[160]. Однако Михаил и сам создает образ своего монарха, он подсказывает ему вопросы, подобающие императору. Что в них – его личный интерес, а что – дань литературным, идеологическим канонам, отразившимся и в сознании Михаила Скота, и в сознании Фридриха II?
Я анализировал «Роман об Александре», чтобы показать, как образ взыскующего знания монарха мог отразиться в мировоззрении средневекового императора. Александр спускается в ад, чтобы расспросить о будущем, и возносится на небеса, чтобы увидеть землю посреди воды Мирового океана, как на тарелке. И Фридрих II желает знать, что представляет собой abyssus, бездна под землей, насколько одно небо отстоит от другого. Для традиционной космологии он требует «точного измерения», verax mensura. В третьей дистинкции «Введения» Михаил Скот приводит поучительную сказку (poetica fabula) о любознательном персидском царе, который хотел узнать, где находится центр мира. Ответить на вопрос вызвался какой-то крестьянин, прельщенный возможностью получить королевскую власть. Показав центр земли прямо у трона царя, он кончил дело тем, что вместе с соратниками сверг его, убил всех приближенных, а сам сел на престол. Так слишком возгордившийся своим могуществом современник Магомета был посрамлен, а сказка показала пример опасного праздного любопытства[161].
Вопросы Фридриха II большей частью традиционны для средневековой науки о природе: в разной форме они обсуждаются и у Беды Достопочтенного, в сочинениях, возникших позже, но приписанных ему, у Храбана Мавра, у Александра Неккама, в богатейшей и широко распространенной литературе о чудесах (mirabilia) вроде «Книги Немрода» (Liber Nemroth). У Гильома Коншского и других шартрцев заимствована платоновская по своему происхождению проблематика души мира, anima mundi, бывшая предметом ожесточенных споров в XII веке: сильно было искушение отождествить платоновскую «душу мира» с животворящим Духом, одним из лиц Троицы. Как мы увидим позже, мировоззрение Михаила Скота, несмотря на знакомство с арабской наукой, было глубоко укоренено в христианской философской традиции. Это отразилось и на вопросах Фридриха II.
Не следует также отрицать зависимость этого круга проблем от античной науки – большинство их уже обсуждалось во времена Аристотеля и задолго до него. Взять хотя бы природу вод. Об интересе Фридриха II к ним как к средству лечения и профилактики свидетельствуют несколько связанных с ним медицинских сочинений. Он наверняка знал о целебных свойствах источников к северу от Неаполя, вокруг Поццуоли, и мог заинтересоваться их природой. Вопросы о природе вулканических явлений столь же традиционны, как вопросы о воде. Более того, сам термин «вулкан» возник в античном естествознании из наблюдений над островом Вулькано в Эоловом архипелаге, который греки называли Гефестиадой. В современной науке два типа вулканической активности получили наименование по островам Стромболи и Вулькано. Фридрих II, словно предшественник современной вулканологии, приводит примеры, которые свидетельствуют о его личной заинтересованности и личном знании, ведь Этну и острова Эолова архипелага близ Сицилии он мог не раз наблюдать в действии. Однако ответ, который Михаил Скот дает императору, полностью совпадает с объяснением, данным задолго до него Бедой и восходящим, видимо, к Плинию Старшему[162].
Важным посредником между наукой при дворе Фридриха II и античной традицией были и классические «шестодневы» IV века Василия Великого и ориентировавшегося на него Амвросия Медиоланского. В этих пространных комментариях на первую главу Книги Бытия, где рассказывается о шести днях Творения, ярко проявился специфический для христианских мыслителей Средневековья способ вопрошания. Обращая свой взор к миру дольнему, они всегда имели в виду горние умопостигаемые реальности. Исходя из этого следует понимать вопросы Фридриха II об устройстве горнего мира, о жизни в небесных чертогах. Они связаны также с желанием увидеть в ней прообраз гармонии на земле, в том числе – в человеческом обществе и при собственном дворе.
Где-то на рубеже V–VI веков анонимный автор греческого трактата «О небесной иерархии» писал: «Таков, по моему разумению, первый порядок небесных сущностей, вокруг Бога и при Боге непосредственно стоящий, и просто и бесконечно в вечном Его познании в хороводе кружащий по высочайшему для ангелов, находящемуся в непрестанном движении храму, и многие блаженные видения чисто созерцающий»[163]. Для придания этому и другим своим сочинениям авторитета аноним назвался Дионисием Ареопагитом, учеником апостола Павла. Трудно переоценить влияние Ареопагитик на схоластику вообще и на политическое богословствование в частности. В конце XII века богослов Алан Лилльский разработал учение об «антииерархии» (exordo) демонов, сопоставив небесную иерархию с земной иерархией. Во времена Фридриха II Гильом Овернский сравнил девять ангельских хоров с королевскими чиновниками, officia, и с устройством Церкви, politia clericalis, а девять «античинов» – с «устройством церкви злодеев и синагогой Сатаны», т. е. с еретическими сектами[164]. То есть самая что ни на есть возвышенная богословская мысль при необходимости возвращалась на грешную землю, превращаясь в нечто вроде социологии[165].
Перу того же псевдо-Дионисия принадлежит и трактат «О церковной иерархии», где та же логика, тот же глубокий неоплатонизм применяется к делам земным, пусть и отражающим дела небесные. В каролингскую эпоху экклезиологическая традиция толкования преобладала. Но уже сам текст «О небесной иерархии», как мне представляется, скрывал в себе возможность применить его к анализу светского общества: «порядок небесных сущностей», «в хороводе кружащий» (perichoreousa), находится в «высочайшем храме». Этим последним термином русский переводчик передает греческое слово hidrusis, происходящее от глагола hidruō: «строить», изначально, прежде всего, «строить храмы». Позднее это сакрализованное значение стерлось, и оно стало означать вообще всякое сооружение. Таким образом, это понятие можно передать и религиозным понятием «храм», как это делает М. Г. Ермакова, а можно и более нейтральным «collocationem», «помещение», как у Иоанна Скота Эриугены, переводчика середины IX века. Средневековый комментатор должен был хорошо чувствовать эти тонкости значений слов и умел пользоваться буквальным переводом для обоснования новых концепций.
Михаил Скот, судя по всему, был знаком и с «Иерархией», и с другими текстами Алана Лилльского, доступными в Толедо. Почему не предположить, что он познакомил с этой новой проблематикой Фридриха II, предложив свое, более секуляризованное, чем у Алана Лилльского, политическое понимание небесной иерархии?[166]
Даже если вопросы Фридриха II в передаче Михаила Скота глубоко укоренены в традициях средневекового естествознания и христианской экзегетики, это не значит, что они не интересны для истории культуры. Скажу больше: очень похожий вопросник император и его астролог могли найти в «Книге Нимрода». Это компендиум астрономии и астрологии, созданный на Западе кем-то знавшим восточные христианские апокрифы, возможно, в IX веке. Ветхозаветный царь «с большой любовью» передает там знания своему ученику Иоантону, отвечая на его вопросы и снабдив повествование иллюстрациями. Михаил Скот следует этому примеру, поменявшись, однако, ролями[167]. Почти за сто лет до Фридриха II Гильом Коншский изложил свою космологию в форме диалога, где его собеседником выступает герцог Нормандии, чьих детей он действительно учил словесности. Один из этих барчуков стал королем Англии Генрихом II. На старофранцузском языке до нас дошел «Источник всех наук», или «Книга Сидрака», где мудреца Сидрака буквально забрасывает вопросами царь Бокт. Анонимный автор, кстати, в предисловии связывает появление книги со штауфеновским двором[168].
Важно не только то, какие именно вопросы задавались, не только то, насколько новаторскими оказывались ответы. Для истории культуры едва ли не важнее социально-политическая составляющая, сама возможность интеллектуальных споров при светском дворе – пусть «досужих», подозрительных, периодически осуждавшихся моралистами[169]. В этих спорах могло быть много не только от натурфилософских исканий, но и от литературной, куртуазной игры – но игры глубокой. При всей банальности этого утверждения, Михаил Скот – не только астролог, но и придворный астролог, то есть входит в тот же круг, который на сицилийском вольгаре создал под покровительством Фридриха II первую в Италии школу поэзии[170]. Очень может быть, что новорожденная сицилийская метрика вобрала в себя не только открытия провансальских трубадуров, но и что-то из обсуждавшейся при дворе математики[171]. Как и другие культурные начинания Штауфена, эта школа сыграла свою важную роль в репрезентации власти сицилийской короны.