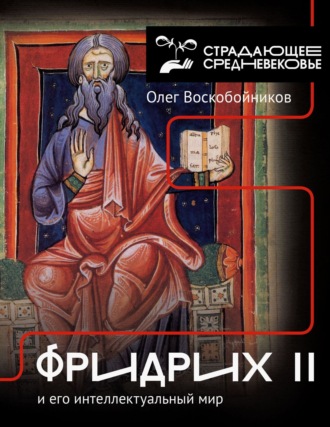
Олег Воскобойников
Фридрих II и его интеллектуальный мир
Язык высокой риторики стал языком власти, причем не только имперской, не только папской, не только королевской. На этой специфической, витиеватой латыни писались и «Мельфийские конституции», и антипапские памфлеты, и дружеские послания придворных нотариев. Но важно и то, что риторы кампанской выучки обычно поддерживали друг друга, в том числе поверх политических границ. Эти контакты обеспечивали живучесть словесности и тем общекультурным ценностям, которые эта словесность выражала[100].
В Неаполе мы встречаем магистра Гвалтьеро из А́сколи. Его деятельность пока плохо изучена. В 1220-е годы он преподавал в Болонье, там он начал писать этимологический трактат, «Сумму этимологий», Liber derivationum. Где-то после 1229 года он закончил его в Неаполе[101]. Это произведение следует рассматривать в традиции «Этимологий» Исидора Севильского (VII в.), но особенно заметна связь с более современным ему памятником, имевшим большое значение в преподавании грамматики в XIII веке: «Большими этимологиями» (Magnae derivationes) Угуччо Пизанского, использовавшимся в университетских кругах Северной Италии в начале столетия[102].
Наследник латинской культуры XII века, свод Гвалтьеро стал связующим звеном между культурами Севера и Юга Италии. Как и другие средневековые этимологии, это произведение имеет не много общего с привычными для нас этимологическими словарями: слишком отличным было само отношение к природе слова. «Сумма» состоит из 820 лемм. Мы найдем большое количество глаголов, несколько греческих слов, начинающихся с приставки dia, отдельные еврейские слова. Все они, впрочем, не свидетельствуют о каких-либо серьезных познаниях в греческом или еврейском языках. Слова сгруппированы в своего рода смысловые «созвездия», с ключевой ролью глаголов, постулируемой уже во введении[103]. Они не воспринимались по отдельности, атомарно, как сегодня. Этимологии слов, выглядящие совершенно фантастическими с точки зрения сегодняшней лингвистики, отражают глубинные принципы средневековой логики, заметные уже у Исидора, принципы, соединяющие слово и вещь. Между формой и значением слова должна была существовать неразрывная связь. Именно поэтому средневековый ученый видел общий корень, скажем, в словах clericus (клирик) и legere (читать), ведь именно клирик умеет читать[104].
В «Письмовнике Петра Винейского» до нас дошло письмо Николая де Рокка, в котором он просит у своего покровителя Петра Винейского разрешения прочитать в Неаполе курс лекций по ars dictaminis. Для этого необходимо было согласие университетских профессоров, и мы не знаем, смог ли один из лучших стилистов Великой курии поделиться своим искусством со студентами[105]. Вполне возможно, что грамматику и риторику в Неаполе преподавал Терризио из Атины. Его перу принадлежит серия небольших сатирических сочинений. В форме прозаических посланий около 1240 года он описал не всегда приглядные (но типичные и веселые) стороны студенческой жизни: по случаю карнавала просит себе подарков; блудницы пишут профессуре на предмет разделения их общих прав на студентов, на что профессура отвечает отповедью[106]. Одно стихотворение, обращенное к государю, он посвятил описанию жизни двора, особый акцент делая на несправедливости судей[107].
В Неаполе преподавались и науки о природе, scientia naturalis. Магистр Петр Ирландский (Petrus de Hibernia) упоминается в качестве одного из учителей Фомы Аквинского, пожалуй, самого известного выпускника этого университета[108]. После смерти Фридриха II он был связан с двором Манфреда, о чем свидетельствует запись его диспута с королем по вопросам о причинно-следственных связях в природе. К этому диспуту мы еще вернемся, поскольку он связан с историей «Книги об искусстве соколиной охоты». Петр Ирландский вел свои занятия в форме традиционного комментирования авторитетных текстов, сочетая «чтение» (lectio) и «обсуждение» (quaestio). Его интересовали аристотелевские сочинения «Об истолковании», «О долготе и краткости жизни», «О смерти и жизни», «Исагог» Порфирия. В его комментариях аристотелизм звучал так же полнозвучно, как в среде преподавателей факультета свободных искусств Парижского университета. Несомненно, это новое глубокое восприятие аристотелевской натурфилософии стало возможным в Южной Италии благодаря переводам комментариев Аверроэса, выполненным Михаилом Скотом, а также доступности наследия толедских переводчиков Доминика Гундисальви (Гундиссалина) и Герарда Кремонского. Общение с Петром Ирландским объясняет, например, тот факт, что Фома Аквинский был хорошо знаком с аверроистскими доктринами. Более того, как считает Мартин Грабманн, его собственная философия, во многом нацеленная на опровержение аверроизма, оказалась парадоксальным образом ближе к нему, чем, скажем, учение его старшего современника Альберта Великого[109].
Один авторитетный историк научной мысли XIII века окрестил Неаполитанский университет «колыбелью аверроизма»[110]. У этого смелого утверждения есть основания, однако остается неясным, был ли он действительно «колыбелью», местом зарождения, или он получил его извне, прямым или косвенным путем. Комментарии Петра Ирландского, в частности «О смерти, жизни и причинах длительности и краткости» (De morte et vita et de causis longitudinis et brevitatis), свидетельствуют о глубоком проникновении в мысль Аверроэса, что было в то время одной из насущных задач большинства тех, кто интересовался науками о природе. Однако были ли они написаны в правление Фридриха II или, что представляется более вероятным, вскоре после 1250 года? В рецепции Аверроэса вопрос одного десятилетия может быть принципиальным для оценки новаторства и интеллектуальной смелости того или иного мыслителя. Мы не знаем также, читал ли Петр свои комментарии с университетской кафедры в то время, когда такое чтение еще находилось под формальным папским запретом[111].
Кроме двух версий De longitudine et brevitate vitae из малых физических сочинений Аристотеля (Parva naturalia), переведенных в XII веке Иосифом Венецианским и в XIII веке Вильгельмом из Мёрбеке, другом Фомы Аквинского, был распространен компендиум Аверроэса на ту же тему (De causis longitudinis et brevitatis vitae). Перевод его приписывался Михаилу Скоту. Влияние Аверроэса на восприятие «темного» и «сложного» Аристотеля было велико, что очевидно в случае Петра Ирландского. Слова Аверроэса легко смешивались с терминами Аристотеля, зачастую просто подменяя их[112]. Этот выходец из Ирландии был, конечно, не единственным, кто интересовался Аристотелем, облаченным в комментарии Аверроэса.
В одном письме Терризио из Атины соболезнует своим университетским коллегам в кончине магистра Арнальда Каталонского, преподававшего scientia naturalis. Оно начинается с приветствия коллегам, столь же странного для печальной ситуации, сколь и эмблематичного, почти афористического: он желает им «знать не больше положенного», non plus sapere quam oportet. Смерть магистра, уверяет нас автор, привела к затмению светил, которые он изучал, беспорядку в стихиях и возмущению всей природы, о которой он писал. Природа, которую столь хорошо постиг магистр Арнальд, оказала ему плохую услугу, не защитив своего «автора (слово auctor, конечно, многозначно), который посвятил ей свою душу». Он умер, читая лекцию о душе, «и не смог хоть на минуту задержать собственную душу, которая по крайней мере должна была бы возвестить ему час своего ухода»[113].
Перед нами традиционный жест коллегиального сочувствия, бывший обязательной составляющей университетского стиля общения, упражнение в риторике, балансирующее на грани сострадания и легкой, едва заметной насмешки над наукой, преподаваемой в соседнем помещении, почти что спор «физиков» и «лириков». Для такого отношения к новшествам натурфилософии традиционным интеллектуальным подспорьем моралистам служило «презрение к миру», contemptus mundi, детально разработанное еще в XI веке такими крупными мыслителями, как Петр Дамиани и Иоанн Феканский, а в конце XII века обновленное не менее влиятельными и яркими умами: Аланом Лилльским и кардиналом Лотарио де Сеньи, будущим Иннокентием III[114]. Мы еще увидим, как такое презрение к миру, сомнение в ценности научного познания могло сочетаться под пером одного и того же мыслителя с неподдельным творческим оптимизмом и уверенностью в значимости своего дела.
Письмо Терризио, в своей риторической витиеватости, отражает атмосферу, видимо, царившую в университете: тот, кто изучает «смешения» элементов, становится как бы адептом природы, ее слугой душою и телом, изучая звезды, он по определению становится и «звездочетом», получает способность ясновидения. Если же он рассуждает о душе, одном из высоких предметов в изучении природы, душа как бы «обязана» подчиняться тому, кто ее изучает, должна оказывать ему услуги, словно вассал своему сеньору. Почему не предположить, что не известный нам по другим источникам каталонский магистр во время своей последней лекции комментировал «О душе» Аристотеля, переведенной наряду с Большим комментарием Аверроэса Михаилом Скотом? В сознании современников и, наверное, слушателей, такой преподаватель, которому было доступно новое знание о мире, приобретал новую власть над собственной душой и над миром, который вдруг начинает разрушаться в момент его неожиданной смерти. Письмо Терризио, несмотря на одновременно хвалебный и элегический тон, является по сути реакцией «гуманиста», «филолога» против суетности «физика», который, несмотря на все свои познания, не способен избежать уготованной всем смертным грустной доли. Мы видим здесь хороший образец эпистолографии, который в лаконичных фразах отразил несколько смысловых пластов.
В 1239 году Неаполитанский университет оказался лишенным преподавателей богословия: многие доминиканцы, францисканцы и бенедиктинцы были изгнаны из королевства из-за подозрения, лишь отчасти обоснованного, в шпионстве в пользу Римской курии. В ноябре 1240 года студенты и преподаватели университета написали профессору богословия бенедиктинцу Эразму Монтекассинскому: «Мы были лишены источника живой воды, когда братья [проповедники] покинули Неаполь и не осталось никого, кто бы открыл нам мистический смысл Писания. Нам отказано в науке наук, прекрасном подспорье для тела и спасительном прави́ле для души. Отсутствие богословского факультета тем более пагубно для нашего университета, что достоинство богословия среди других наук особенно высоко»[115]. Значит ли это письмо, что богословие, для того времени и впрямь наука наук, представляло собой что-то серьезное в Неаполитанском университете? Сомнительно. Право же выдавать соответствующие дипломы вообще оставалось тогда привилегией Парижа и Оксфорда. Даже Болонья получила папскую привилегию на богословский факультет лишь в 1360 году.
Эразм, монах крупнейшего бенедиктинского аббатства Монтекассино, учился в Париже в 1241–1251 годах. Он был, видимо, одним из немногих монахов, которому было разрешено остаться в родном монастыре в 1240 году, когда он был разогнан по приказу императора – это произошло в то время, когда конфликт с папством входил в свою тяжелейшую фазу. В своих проповедях и Эразм отзывается об этом конфликте с очевидным осуждением[116]. В это время он, скорее всего, был связан с Петром Ирландским и молодым Фомой, который тогда оставил Монтекассино, чтобы начать учебу в Неаполе. Он разделял их интерес к тому, что в истории науки принято называть «новым Аристотелем», которого пытался приспособить к изучению Писания[117].
Его творчество дошло в виде проповедей на праздники, о небесной иерархии, о шести днях творения – о сюжетах вполне традиционных. Особого влияния вне монастыря оно не оказало, все рукописи, насколько мне известно, сосредоточены в монтекассинской библиотеке (ms. 794 и 832). Это не умаляет его значения для истории схоластической мысли: он был одним из учителей Фомы Аквинского. Несмотря на высокую оценку, данную ему крупным историком философии, Мартином Грабманном, все изучение произведений Эразма ограничивается несколькими изданиями довольно случайно отобранных фрагментов[118]. Только с некоторой натяжкой можно назвать эти записи трактатами. Однако в них ясно просматривается дидактическая основа, и вполне возможно, что это преподавание осуществлялось в Неаполе, где у Монтекассино было представительство: Сан-Деметрио. По своей структуре «трактаты» часто следуют схоластической дискуссии: изложение тезиса, иногда с приведением авторитетного мнения (auctoritas) и типичным подразделением «относительно первого», «относительно второго» (circa primum, circa secundum), противоположные доводы (contra, probatio quod non, circa primum obiicitur, item), ответы (respondeo, respondetur quod), контраргументация (ad primam auctoritatem dicendum, quod queritur… dicendum).
Приведем в качестве примера разговор об ангелах и шести днях Творения. Классический «Шестоднев» Василия Великого и его не менее знаменитый парафраз Амвросия Медиоланского (IV в.) были известны в монастыре – последний был даже переложен в стихах Александром Монтекассинским. Эразм цитирует их, но этому классическому христианскому наследию он дает новую, более современную для его времени форму, подходящую для университетского преподавания. Здесь ощущается присутствие новой проблематики, возникавшей в умах современников Эразма при чтении Аристотеля. Его влияние видно в обсуждении вопросов познания, которое, по мнению Эразма, зависит не исключительно от божественного просвещения, в обсуждении соотношения между природой и благодатью, человеческого мышления, первоначальной материи.
На шестой день, как известно, по образу Божию был создан человек. Для Эразма человек уподобляется Богу не по своему мышлению, ибо, согласно трактату «О душе», «мышление не есть в нас ни тело, ни некая способность тела, но свет, происходящий от первопричины»[119]. Очевидно, что он цитирует Аристотеля, читая Аверроэса, поскольку выражение intellectus non est in nobis corpus neque virtus in corpore можно найти в «Большом комментарии» Аверроэса, переведенном Михаилом Скотом, а не в соответствующем разделе аристотелевского трактата (429a 10–430a 9)[120]. Здесь у Эразма, как в те же годы или чуть позже у Петра Ирландского, уже видно то смешение Философа и его Комментатора, которое стало характерным для схоластики второй половины XIII века. К тому же речь идет об одном из самых деликатных сюжетов философских споров того времени: учении о природе разума.
Попытка Эразма построить всеобщую науку под эгидой богословия объясняется, конечно, его положением на соответствующей кафедре Неаполитанского университета. Но возможно и влияние Парижской школы, в частности, влиятельной «Золотой суммы» Гильома Осерского[121]. В одной проповеди, посвященной Деве Марии, он дает замечательный образ ученого клирика, освещенного четверояким светом: верой, наукой, разумом и мудростью[122]. Эразм – просвещенный клирик, богослов, вышедший, как и Фома, из монастыря. Он проповедник, начинающий с Библии и к ней всегда возвращающийся, и только для этого он берется толковать природу. Он совсем не тот «физик», над которым мог посмеиваться «лирик» вроде Терризио. Рассуждая об устройстве мироздания, он не забывает, что презрение к миру помогает человеку возлюбить своего Бога: «Для того, чтобы Бог единый был возлюблен, мир стал нелюбимым»[123]. Но, как и многие его коллеги по университету, как и другие его соотечественники, он проявлял неподдельный интерес к новым текстам и идеям, чтобы с их помощью придать новую силу «науке наук» – богословию. Вполне вероятно, что Великая курия, несмотря на непоследовательность по отношению к культурной элите, представленной монашеством, могла предоставить для такой интеллектуальной работы необходимую поддержку, в том числе книжные новинки.
* * *
Наши сведения о научной жизни Неаполитанского университета отрывочны, хотя и небезынтересны для истории идей в первой половине XIII века. В современной литературе много раз писалось о том, что проект «государственного» образования, задуманный Фридрихом II, был столь же неудачным, как и вся его политика. В его правление университет не мог пользоваться привилегиями юридической и интеллектуальной свободы, столь необходимой для нормального развития знания. Можно даже противопоставить штауфеновский проект Парижу: младший современник Фридриха II Людовик IX Святой, судя по всему, не вмешивался в жизнь знаменитого на всю Европу университета, и не факт, что это невмешательство не пошло университету на пользу.
Неаполь мог гордиться таким выпускником, как Фома Аквинский, даже если тот завершил свое образование уже в Париже, а потом в Кёльне под руководством Альберта Великого. Фома был сыном графа Ландольфо д’Аквино и племянником великого юстициария Сицилийского королевства, графа Томмазо д’Ачерра, зятя Фридриха II. Столь сомнительное родство могло бы сослужить дурную службу молодому богослову, несмотря на его открытый конфликт с семьей и на вступление в верный папству доминиканский орден. Тем не менее в 1260-х годах по приглашению Римской курии он проповедовал, преподавал и писал в Риме и Лацио.
Университет был слишком тесно связан с личностью своего создателя. Великая курия контролировала преподавательский состав и набор предметов. На юристов возлагалась задача апробации и комментирования законодательных инициатив власти. Задача сама по себе вполне благородная, но университету поручалась «возможная интерпретация», interpretatio probabilis, в то время как «общая интерпретация», interpretatio generalis, оставлялась непосредственно императору и его окружению[124]. Можно ли называть такую работу юридической наукой?
Даже если степень пресловутой интеллектуальной свободы крупнейших университетов XIII века сегодня резонно пересматривается, на общем фоне Неаполь оказывался не в лучшем положении[125].
Не следует также думать, что Фридрих II был единственным государем, который видел в высшем образовании один из столпов трона. Для того чтобы в конце его столетия возникла формула Александра фон Реса о знании как третьей силе, соответствующие представления о социальной и политической функции знаний должны были утвердиться в умах светской и духовной элиты. Фридриху II не нужно было для своего эксперимента обращаться к опыту преподавания на Востоке, как это иногда хочется видеть некоторым современным исследователям[126]. Первая половина XIII столетия отмечена серией привилегий и хартий, дарованных новым школам, отличавшимся по своим установкам от церковных учебных заведений. Некоторые университеты также открывались по инициативе светских государей: в Тулузе (1229), Саламанке (1218 или 1219), Паленсии (1208–1214). О собственном университете подумывали и римские понтифики[127].
Таков общеевропейский контекст эксперимента Фридриха II в области образования. Теперь нам следует поговорить о его опытах, менее масштабных для культурной жизни государства, но достаточно красноречивых для понимания его собственного мировоззрения.
3. Нечестивые опыты и праздные вопросы
Салимбене де Адам, францисканец из Пармы, оставил одну из самых интересных хроник XIII века. Он писал ее в 1280-х годах, в ней присутствуют все важнейшие события столетия. Его искренность, весьма необычная для профессиональной историографии того времени, объясняется особенностями религиозности францисканцев первого столетия существования ордена. Францисканцы были прежде всего проповедниками, моралистами. Их мало интересовала традиционная для историков ориентация во времени и пространстве, они не работали в монастырских библиотеках и писали о том, что было слышно на улицах, о чем сплетничали в их обителях, стараясь на самом простом языке донести до своих читателей незамысловатую мораль, вынесенную из слухов, которыми земля полнилась[128]. Салимбене много путешествовал, и рассказы о его встречах с великими мира сего, суждения об этих людях занимают в хронике важное место, в том числе – о Фридрихе II.
Салимбене рисует в целом резко отрицательный образ императора. В то же время, обвиняя его в коварстве, жадности, сластолюбии, гневливости и прочих пороках, он добавляет при этом, что тот «иногда обнаруживал хорошие качества – когда хотел выказать благорасположение и обходительность; он любил развлечения, был приятным, ласковым, деятельным; умел читать, писать и петь, а также сочинял кантилены и песни; он был красивым человеком, хорошо сложенным, но среднего роста. Я видел его и некогда почитал. Ведь он написал обо мне брату Илии, генеральному министру ордена братьев-миноритов, чтобы из любви к нему тот вернул меня моему отцу. Он также мог говорить на многих и различных языках. Короче говоря, если бы он был верным католиком и любил Бога, Церковь и свою душу, мало бы нашлось в мире правителей, равных ему»[129].
В своих оценках Салимбене вообще иногда противоречил сам себе. Великие люди его времени часто становились под его пером материалом для библейской экзегезы, к чему он явно имел особый вкус, щеголяя превосходным знанием Писания. Так и Фридрих II: прежде всего, он – исполнение пророчеств богослова Иоахима Флорского (1130–1202) о последнем императоре, предтече Антихриста. Салимбене иногда заставляет спорить об этом своих героев, например французского иоахимита Уго и доминиканского лектора из Неаполя Петра Апулийского, хотя нельзя быть до конца уверенным, что он точно передал их слова и что вообще этот спор имел место[130]. Негативное отношение Салимбене к Фридриху II несомненно было связано еще и с тем, что в 1239 году минориты были изгнаны из Сицилийского королевства. Говоря об этом политизированном иоахимизме, ярко проявившемся, в частности, у Салимбене, следует стараться отделять эти напластования от идей самого Иоахима[131].
Салимбене был связан с иоахимитами в самый «антиимперский» период в истории этого движения (ок. 1245–1260): папство сквозь пальцы смотрело на подозрительное учение, ценя антиштауфеновский настрой популярных проповедников. Из этого настроя в сочетании с публичной аскезой ковалась религиозная составляющая идеологии гвельфов[132]. Личность Фридриха II и все его потомство оказались связанными с легендой о «возродившемся Нероне», Nero redivivus. Штауфен был превращен в воображении этих людей в главного врага Церкви, каковым он сам себя, конечно, не считал. Святыми же, призванными бороться с этим врагом, естественно становились радикальные францисканцы-иоахимиты. Когда в 1250 году император умер, так и не принеся ожидавшегося со дня на день конца света, пророчества механически перенесли на его наследника Конрада, но уже без прежнего задора. Пророчества и откровения на тему Империи легко приспосабливались к нуждам дня, к пессимистическим или, наоборот, оптимистическим настроениям публики, они подходили как для гвельфов, так и для гибеллинов.
Несмотря на чисто человеческую симпатию к Штауфену, Салимбене-писатель и моралист, что называется, подчинился пророчествам калабрийского аббата и сивилл, всемирному историческому плану. Из «последнего» императора он сотворил почти предшественника Антихриста, «врага Римской церкви», преисполненного всяческих пороков, из которых можно собрать весьма пеструю мозаику, внимательно прочитав несколько сотен страниц его «Хроники»[133]. Среди них нас интересует внушительный список «предрассудков» superstitiones и «чудачеств», curiositates[134].
«Первым его чудачеством было то, что он приказал отрезать некоему нотарию большой палец на руке, потому что тот писал его имя не так, как ему хотелось. Он хотел, чтобы в первом слоге его имени писалось “и”, таким образом: “Фридерик”, а тот писал через “е”, употребляя вторую гласную, таким образом: “Фредерик”. Вторым его чудачеством было то, что он захотел выяснить, каковы будут язык и речь у детей, когда они вырастут, если они ни с кем не будут разговаривать. И поэтому он приказал нянькам и кормилицам, чтобы они давали младенцам молоко, кормили их грудью, купали и заботились о них, но ни в коем случае не ласкали и не разговаривали с ними. Он хотел узнать, будет ли их языком еврейский, который был первым языком, или греческий, или латинский, или арабский, или, может быть, язык их родителей, от которых они родились. Но он трудился зря, так как все дети умирали во младенчестве. Ведь они не могли жить без шлепков, поглаживаний, улыбок и ласк своих нянек и кормилиц… Третье его чудачество было следующее: когда он увидел заморскую землю, которая была землей обетованной и которую столько раз восхвалял Бог, называя ее землей, “где течет молоко и мед” (Втор. 27, 3), и красой всех земель, она ему не понравилась, и он сказал, что иудейский Бог не видел его земли, а именно Терра ди Лаворо, Калабрию, Сицилию и Апулию, а то бы Он не восхвалял столько раз землю, которую обещал и дал иудеям… Четвертым его чудачеством было то, что он много раз посылал некоего Николу против его воли на дно Фаро, и тот много раз возвращался оттуда; и желая точно узнать правду, действительно ли он добирается до дна и возвращается оттуда или нет, император бросил свой золотой кубок в том месте, которое он считал наиболее глубоким. И тот нырнул, нашел его и принес, и изумился император… Фридрих отличался также и другими чудачествами и странностями, бранился, проявлял недоверчивость, развращенность, совершал злодеяния (в рус. пер. “злоупотребления”. – О. В.); некоторые из них я описал в другой хронике (не сохранилась. – О. В.): например, человека, которого он живым держал в большой бочке до тех пор, пока тот там не умер, желая этим доказать, что душа полностью погибает… Ведь он был эпикурейцем, и поэтому все, что он мог найти в Священном Писании сам и с помощью своих мудрецов, что способствовало бы доказательству, что нет другой жизни после смерти, – он все это находил, как например: “Он разрушит их и не созиждет их” (Пс. 27, 5)… Шестая странность и чудачество Фридриха, как я писал в другой хронике, проявились в том, что он на каком-то обеде до отвала накормил двух людей, одного из которых послал затем спать, а другого – охотиться, а на следующий вечер заставил обоих опорожнить желудок в его присутствии, желая узнать, кто лучше переварил обед. И врачами было установлено, что тот, кто спал, лучше справился с перевариванием пищи. Седьмой и последней странностью и чудачеством было, как я также указал в другой хронике, что, когда однажды, находясь в каком-то дворце, он спросил Михаила Скота, своего астролога, на каком расстоянии от неба находится дворец, и тот ответил, как ему представлялось верным, Фридрих отправил его в другие земли королевства, под предлогом проведения измерений, и удерживал его там в течение нескольких месяцев, повелев строителям или плотникам так уменьшить размеры дворцового зала чтобы никто не мог этого заметить. И так и было сделано. И когда, спустя много дней, в том же дворце император встретился с вышеупомянутым астрологом, то, начав как бы издалека, он спросил у него, таково ли расстояние до неба, как он сказал в прошлый раз. А тот, произведя расчет, ответил, что или небо поднялось, или, наверное, земля сжалась. И тогда император понял, что перед ним настоящий астролог. И о многих других его чудачествах я слышал и знаю, но умолчу о них ради краткости изложения, а также потому, что мне противно перечислять столько его глупостей и я спешу перейти к рассказу о других вещах».
Мы уже знаем, что Салимбене не слишком разборчив в источниках. Ничто не доказывает, что все эти «опыты» действительно проводились. Выше говорилось, что за рассказом о Николе Рыбе стоит легенда, более древняя, чем наш хронист, которая, возможно, как и другие рассказы, стала под пером автора сборником «новелл» или, точнее говоря, «примеров», поучительных exempla, столь типичных для культуры XIII столетия. Более того, эти «опыты», если говорить языком литературоведов, «циклизовались», образовав замкнутое, самоценное с идеологической точки зрения ядро в повествовании. Они иллюстрируют многочисленные, опущенные мной ради краткости библейские цитаты, с помощью которых Салимбене превращает Фридриха в воплощение пророчеств Иоахима, в свою очередь взращенных внимательным чтением Писания. Неизвестно, что в большей степени определяло образ императора в сознании «видевшего его» францисканца: эти «достоверные» рассказы о чудачествах или библейские тексты, которые в общем-то полностью могли объяснить Салимбене, что происходит вокруг него?
Для Салимбене фридриховское «любопытство», curiositas, одновременно его проклятие (maledictio) и синоним предрассудков, греховности и распущенности. Оно привело императора к неверию, эпикурейству в вульгарном понимании этого слова, отрицанию бессмертия души. Рассказ о Михаиле Скоте выглядит типичной зарисовкой, иллюстрирующей основательность и точность науки о звездах, хотя Салимбене пытается использовать ее в отрицательном ключе. Эту же историю мы можем найти у самого Михаила Скота[135]. Осуждая подобные научные изыскания императора, францисканец сам на страницах «Хроники» не раз отдает дань астрологическим верованиям своего времени[136].
В среде нищенствующих монахов он не был одиноким. Францисканец Роджер Бэкон по секретному заказу папы Климента IV (1265–1268) изложил множество астрологических идей в «Большом произведении» и в «Третьем произведении». Причем эти объемные, написанные в спешке и тайне труды он считал лишь введением в курс наук, необходимых для спасения человечества. Первый генеральный министр миноритов брат Илия Кортонский, назначенный самим Франциском, был низложен Григорием IX за сотрудничество с императором, но заодно ему стали приписывать и оккультизм. В конце 1264 года доминиканец Джерардо из Фельтре объяснял генеральному министру своего ордена, Иоанну из Верчелли (1264–1283), значение кометы, которая появилась на небе тем летом, в год его избрания[137]. По его просьбе Джерардо написал потом целую компилятивную «Сумму о звездах», опровергавшую астрологию и дошедшую в трех рукописях. Тот же Иоанн Верчелльский, несомненно, стимулировал интерес Фомы Аквинского к астрологии.
В Средние века от появления кометы никогда ничего хорошего не ждали, в особенности в большой политике. Бэкон объяснял Клименту IV, избранному вскоре после ухода той кометы: «Когда в 1264 г. в июле появилась комета, ясно, что ее породил Марс: он находился тогда в Тельце, а комета появилась в Раке и все время двигалась к своему источнику, словно магнит к железу. Но Церковь убедилась в том на опыте, в то время и дальше шли войны в Италии, Испании, Англии и других землях»[138]. Нечего удивляться, что, отправляясь зимой 1265 года из Парижа на конклав, кардинал Ги Фулькуа, будущий Климент IV, остановившись в родном Провансе, заглянул к местному предсказателю, чтобы узнать, чего ему ждать. Кардинал не прогадал, а мы узнали о свидании из материалов инквизиционного процесса, закончившегося, кажется, ничем[139].







