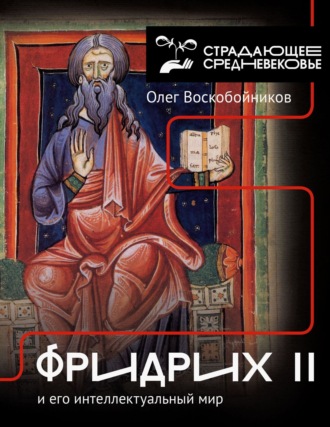
Олег Воскобойников
Фридрих II и его интеллектуальный мир
4. Свои и чужие: Фридрих II и мир ислама
Наряду с христианскими авторами, арабские историки тоже не раз отмечали познания императора в логике, медицине, философии: «Император, один из франкских королей, был щедрым человеком, знатоком философии, логики и медицины и любил мусульман, поскольку был воспитан в Сицилии, где большинство населения мусульманское»[172]. Об этом говорили и придворные поэты, и провансальские трубадуры. Распространенность топоса в литературе XIII века вызвана во многом политикой Фридриха II, хотевшего воплотить идеал просвещенного монарха. Посмотрим, как именно он воплощался в контактах с арабским миром.
Абу аль-Фада сообщает, что в 1240-х годах при дворе Фридриха II находился посол аль-Малика ас-Сали, кади Сирах ад-Дин аль-Урмави, славившийся познаниями в геометрии, астрономии, богословии и юриспруденции. Он посвятил императору трактат по логике[173]. Аль-Урмави был учеником Кемаля ад-Дина ибн Юниса. Его философия сложилась под влиянием произведений Авиценны. Наряду с ат-Туси, аль-Абхари и Феодором Антиохийским, он был ярким представителем научной школы в Мосуле, важного места контактов между Востоком и Западом, поскольку Ибн Юнис переписывался с учеными Багдада и Дамаска. Многие из них прославились своими философскими суммами. Согласно сообщению Ибн Аби Усайбия, посланник Фридриха II прибыл в Мосул для обсуждения ряда вопросов по астрологии и другим наукам о природе. Они встретились после того, как султан Египта Малик аль-Камиль (1218–1238), поддерживавший хорошие отношения с императором, лично попросил Ибн Юниса не принимать почетного гостя в его обычной потертой одежде[174]. Вполне вероятно, что дискуссии с Ибн Юнисом и аль-Урмави были связаны с вопросами, обсуждавшимися при дворе Фридриха II. Во всяком случае, в сочинениях аль-Урмави подробно разбираются учения о душе, интересовавшие Михаила Скота, но у арабского мыслителя они с философской точки зрения более развиты, особенно в том, что касается жизни души после смерти тела.
Крестовый поход 1228–1229 годов, после ссор с папством и под отлучением, оказался одновременно мирным по отношению к неверным и скандальным для понтификов и их сторонников[175]. В официальной переписке он чаще всего назывался просто «делом Святой земли», negotium Terre Sancte, и стал одним из ключевых моментов в развитии связей с мусульманскими странами и формировании интересов Фридриха II. Молодой король принял крест, т. е. дал обет отправиться на освобождение Гроба Господня, еще в 1215 году, в Аахене. Это был торжественный момент, когда он получил корону Германии, а мощи Карла Великого, канонизированного еще по инициативе Фридриха I Барбароссы, поместили в новый роскошный реликварий, созданный рейнскими мастерами. На этом реликварии была изображена династия Штауфенов как преемников Карла, включая молодого безбородого Фридриха с крестом в руке. Коронация, обет и идеологическое содержание образа, помещенного на раке, – все вместе это было довольно смелым символическим жестом новой власти.
Во время IV Латеранского собора, когда папство предстало во всем своем могуществе, Штауфен обещал отправиться на освобождение христианских святынь. Это по-своему нормальная плата за поддержку: без личной помощи Иннокентия III Фридрих II не получил бы королевской короны и титула короля Германии и Рима, открывавшего путь к императорской коронации. С этого момента negotium Terre Sancte стал одним из важнейших пунктов в политике Фридриха II и в его взаимоотношениях с папой. Длительное откладывание его стало в конце концов причиной отлучения. Но в 1225 году император взял в жены Изабеллу де Бриенн, дочь Жана де Бриенна, короля Иерусалима, и принял этот формальный, но престижный титул, соединив Империю, Сицилийское королевство и Святую землю. Для политической карты Средиземноморья, для символического христианского пространства это было важным событием.
Отправившись в Святую землю без папского благословения, без поддержки верного папе иерусалимского патриарха и местного латинского духовенства, Фридрих II провел переговоры с Маликом аль-Камилем, в результате которых главные христианские святыни на десять лет открывались христианским паломникам. 18 марта 1228 года в императорской энциклике заявлялось, что император «нес корону, и Господь всемогущий, с высоты Своего трона пожаловавший нам ее, по особой милости поставил нас над всеми государями мира»[176]. Церемония получилась паралитургической, но без участия клириков, поскольку венценосный крестоносец находился под отлучением и не имел права участвовать в мессе. Понтифик и патриарх Иерусалима распространили слух, что император собственными руками короновал себя короной Иерусалимского королевства перед алтарем храма Гроба Господня, в опустошенном Иерусалиме[177]. Эта реакция была типичной отрицательной – и максималистской – интерпретацией действительно необычного символического жеста. Однако магистр Тевтонского ордена Герман фон Зальца, комментируя события, сознательно выразился неопределенно: государь «нес корону». Какую? В руках или на голове? Откуда куда? Все это остается в тени догадок[178]. Фридрих II не был королем Иерусалима, лишь регентом при сыне Конраде, унаследовавшем титул от матери. Но заподозрить его в том, что он не рассчитал какие-то символические жесты в такой ответственный момент своей жизни, как первое богослужение в чудом, без крови освобожденной святыне, тоже невозможно. Мессианские мотивы в его политике периодически выражались на высокой куриальной латыни. Возможно, что-то подобное должно было прозвучать и в тот мартовский день в Иерусалиме.
Хотя достигнутый между христианами и арабами мир продлился лишь до 1240-х годов, на какое-то время императору удалось доказать, что мирный договор возможен: Иерусалим, Вифлеем, Назарет и несколько городов были открыты для христианских паломников.
Сохранился интересный для нас рассказ аль-Макризи о некоторых деталях пребывания Фридиха II в Иерусалиме. В сопровождении мусульманского кади он направился осматривать городские мечети. Аль-Акса произвела на него особо сильное впечатление. Взойдя на кафедру, он вдруг заметил входившего в мечеть католического священника с Евангелием в руках. Аль-Макризи вкладывает в уста императора следующие слова: «Если еще один франк войдет сюда без разрешения, я прикажу снести ему то место, к которому у него крепятся глаза. Мы не более, чем черные рабы султана Малика аль-Камиля, который, по доброте своей, отдал нам и вам церкви. И никто не смеет преступать указанные нам границы». После чего, уверяет историк, священник вышел, дрожа от страха[179]. На следующий день Фридрих II жаловался на то, что из уважения к христианскому государю кади приказал отменить возгласы муэдзинов, ибо он, император, якобы провел ночь в Иерусалиме лишь затем, чтобы услышать призыв на молитву и то, как мусульмане по ночам восхваляют Бога[180]. Ясно, что это памфлет мусульманина, направленный против крестоносца, пусть и склонного к диалогу. Однако нельзя отвергать предположение, что подобные слухи об исламофильстве императора передавались из уст в уста, в том числе поверх вероисповеданий и языковых границ.
Находясь на территории восточных правителей, императору необходимо было подкрепить в их глазах престиж власти верховного государя христианского Запада. Видимо, для этого он разослал им список вопросов по различным областям знаний. Он обратился, в том числе, к Малику аль-Камилю с просьбой прислать к нему «какого-нибудь специалиста по астрономии. К нему был послан аль-Алам Кайсар, известный под именем Ханифи, в народе называемый Таазиф («сумасшедший наездник». – О. В.), который был самым известным тогда знатоком этой науки»[181]. Нам неизвестно, о чем они говорили с Фридрихом II. Согласно аль-Макризи, император направил свои вопросы «по геометрии, арифметике и умозрительным наукам» прямо аль-Камилю, который представил их шейху аль-Аламу и другим ученым, а их ответы потом были посланы императору[182].
В одном арабском сочинении, написанном египетским юристом Ахмедом ибн Идризи аль-Карафи (ум. между 1283 и 1285 годами) и озаглавленном «Интересное рассмотрение вещей доступных зрению», рассказывается, что в правление Малика аль-Камиля Фридрих II прислал сложные вопросы из области наук о природе, чтобы испытать мусульман: «Почему погруженные в воду части весел, копий и других прямых предметов выглядят искривленными, если смотреть с поверхности воды? Почему Канопус при восхождении кажется больше, чем в точке кульминации, несмотря на то что на юге нет влажности, которая объясняет подобное явление для солнца, ведь южная местность представляет собой пустыню? Почему тот, у кого испарения поднимаются к мозгу, и тот, у кого начинается катаракта, видит черные нити, мух и комаров, хотя на самом деле их нет, а упомянутый человек находится в твердом рассудке? Как можно что-либо увидеть в зрачке, в то время как человек не может разглядеть то, что находится в непосредственной близости от зрачка или даже касается его?»[183]
В этих вопросах видно не только желание удивить мусульманских ученых разносторонностью каверзных вопросов. Важнее другое: как будет видно в дальнейшем, Фридрих II часто ставит проблемы, которые мы сегодня могли бы назвать «междисциплинарными». Оптика, астрономия и медицина дополняют друг друга для того, чтобы из многих кирпичиков создать цельную картину мира. Правда, не следует забывать и о литературных источниках этих вопросов и не приписывать их исключительно изобретательности и любознательности императора. Например, преломление весел в воде обсуждалось Лукрецием, Сенекой, а вслед за ними, в XII веке, Гильомом Коншским. О Канопусе, альфе Киля, очень яркой звезде, которую можно было наблюдать в Египте, писали Плиний Старший, Марциан Капелла и опять же Гильом Коншский[184].
Еще один факт подтверждает то, что науки о природе, которыми увлекался Фридрих II, были важным моментом в связях с арабским миром. Большое значение в общении с арабскими странами имели дары. Султан Дамаска аль-Ашраф подарил Фридриху II своеобразный «планетарий», представлявший собой, судя по всему, шатер, на внутренней стороне которого было изображено звездное небо. В ответ султан получил белого медведя и белого павлина. Шатер высоко ценился и хранился в императорской сокровищнице в Венозе. Правда, мы вряд ли узнаем, как он выглядел[185].
В одной арабской рукописи из Оксфорда (Hunt. 534) сохранилось сочинение шейха ибн Сабина, названное «Сицилийские вопросы» (Al-masā’il al-siqilliyya), важное для истории арабской мысли. Это пять вопросов философского и религиозного характера, посланные, если верить авторскому прологу, «государем Рум», императором, королем Сицилии различным мусульманским владыкам (в Египте, Иконии, Ираке, Йемене). Поскольку он не был удовлетворен полученными ответами, ему сказали, что в Ифрикии жил ученый шейх ибн Сабин. При посредничестве альмохадского халифа ар-Рашида и наместника Сеуты ибн Халаса вопросы были переданы ему. Отказавшись от подарков, предложенных христианским императором, как и положено настоящему философу, шейх принял на себя труд дать подробные ответы, «исключительно чтобы снискать похвалу у Аллаха и во благо мусульман»[186].
С тех пор, как арабист Микеле Амари привлек внимание ученых к этому тексту и его автору, вышло много специальных исследований, хотя большинство его сочинений остаются неизданными[187]. Абд аль-Хакк бен Ибрагим бен Мухаммад бен Наср аль-Акки аль-Мурси Абу Мухаммад Кутб ад-Дин ибн Сабин (1216/17–1270) был, несомненно, одним из самых ярких и эксцентричных мусульманских мыслителей XIII века. Несмотря на почетное наименование «Кутб ад-Дин» («полярная звезда религии»), этот философ суфийского толка постоянно оказывался объектом преследования как со стороны фукаха, юристов, ответственных за правоверие, так и рационалистических школ: му‘тазилитов и фаласифа. Некоторые суфии, в свою очередь, считали, что он слишком смело вводил философский язык в область религии, в частности, в istilāh, терминологию суфиев[188].
«Сицилийские вопросы» свидетельствуют о хорошем знании греческих и арабских классиков, о понимании иудаизма и христианства. Он критиковал крупнейших арабских философов за слепое, как ему казалось, следование Аристотелю. Ибн Сабин был известен своим темным, сотканным из намеков и недомолвок языком, в его задачи явно не входило сделать свое учение легкодоступным для понимания. Однако община его учеников, «сабинитов», tarīqa as-sa‘bīniyya, сделала его знаменитым, а его учение – влиятельным. Главный постулат его состоял в «абсолютном единстве» (wahdat al-mutlaqa): единственная реальность есть Бог, и любое творение не может рассматриваться в отрыве от него.
Этих кратких сведений уже достаточно, чтобы представить себе тот письменный диалог, который должен был состояться между христианским государем и мусульманским философом между 1237 и 1242 годами. Анна Акасой первая высказала сомнение в том, что вопросы действительно были сформулированы Фридрихом II, по крайней мере, в дошедшей до нас форме. По ее мнению, политическая ситуация в аль-Андалусе была слишком сложной, ибн Сабин был слишком молод, чтобы быть представленным императору в качестве большого авторитета. А юноша отзывается о коронованном корреспонденте не слишком уважительно.
Введение в собственный трактат столь знаменитого персонажа, как «друг» мусульман Фридрих II, вполне подходящего для роли интеллектуального и религиозного оппонента, конечно, прибавляло важности сочинению молодого амбициозного ученого: в мусульманской научной литературе хорошо знали специфический повествовательный жанр «вопросов и ответов» (Masā’il wa-ağwiba)[189]. Эти аргументы важны, хотя остается все же неясным, почему выбор ибн Сабина пал именно на иноверца. Кроме того, не только в мусульманской традиции существовали воображаемые диалоги. Анна Акасой абсолютно права в том, что не следует принимать за чистую монету все, что ибн Сабин рассказывает нам в предисловии о переписке и о том, как к нему попали императорские вопросы. Однако, как мы вскоре увидим, сами эти вопросы вполне вписываются в ту широкую научную дискуссию, которая велась при штауфеновском дворе на протяжении десятилетий. Эта дискуссия объединяла философски настроенные умы, не считаясь с религиозными границами. Перейдем к вопросам.
«Мудрец (al-hakīm, т. е. Аристотель) во всех своих писаниях четко говорит о вечности мира, и нет сомнения, что таково было его мнение. Если он это доказал, то какие доводы он приводил? Если же он этого не доказал, то каковы были его аргументы?»[190]
Отвечая на этот вопрос, как и на следующие, ибн Сабин проявляет чуткость к формулированию философских концепций. Языковая и терминологическая точность, по его мнению, являются единственным методом довести дискуссию до объективных выводов. В этом он верен Аристотелю[191]. Исходя из этого, он обвиняет Фридриха II не просто в научном невежестве, но и, более определенно, в неумении формулировать вопросы. Император, «желающий услышать правильный ответ», должен был бы задать технический вопрос (sinā‘iyy), а не провоцировать собеседника формулами вроде этой: «Если он это не доказал, то каковы были его аргументы?» Он должен был бы спросить: «Каково было мнение Мудреца о мире? Считал ли он его вечным (qadīm) или новым (muhdat)? Или же он не имел определенного мнения, как Гален и другие древние?[192]
Далее ибн Сабин анализирует слова «мир», «вечность», «новизна», «созидание», «творение», отмечает разногласия крупнейших комментаторов Аристотеля: Фемистия, Александра Афродисийского, ибн Сины, ибн аль-Саига, – и объясняет их двусмысленностью выражений, ложными выводами и неточными спекуляциями. Вкратце изложив физику и онтологию Аристотеля, автор отмечает, что для Мудреца только научные законы обладали статусом строгого доказательства, burhān. Все остальное было лишь материалом для дальнейшего размышления[193]. Это важное различение: оставаясь приверженцем креационизма, учения о сотворенности мироздания, ибн Сабин приводит различные аристотелевские аргументы о его вечности, но настаивает на том, что Аристотель явно сомневался, не имел определенного суждения по этому вопросу, в то время как потомки удовольствовались его аргументами, приняв их за неопровержимые доказательства. Против них и направлена его полемика.
Защищая главный философский авторитет своего времени, ибн Сабин близок не только крупнейшим христианским ученым, но и еврейскому философу Моисею Маймониду (1135–1204). Одной из основных целей его «Путеводителя растерянных» было как раз освещение трудных мест Закона и примирение рассказа о Творении в Книге Бытия с физикой и метафизикой Аристотеля[194]. Нужно учесть эту параллель, поскольку Великая курия стала первым местом на латинском Западе, где обсуждалось это сочинение, оказавшее впоследствии большое влияние на развитие европейской мысли. Как ибн Сабин, Маймонид четко различал аргументы и неопровержимое доказательство. Это различие соответствовало умственному настрою многих христиан: дискуссия и сомнение по поводу важнейших постулатов веры еще не означали их опровержения.
Второй вопрос касался природы богословия: «Каковы ее цели и необходимые основания, если таковые имеются?»[195]
В устах средневекового интеллектуала, будь то христианин, мусульманин или иудей, такой вопрос звучал по меньшей мере провокационно. Не следует, однако, забывать, что то было время оживленных дискуссий о содержании и статусе отдельных наук и системе христианского знания в целом, менее устойчивой, чем когда бы то ни было. Об этом брожении свидетельствуют и многочисленные специальные трактаты (от Гуго Сен-Викторского до Роберта Килуордби), и обилие схем в рукописях и на витражах. Тенденция к пересмотру традиционных научных и дидактических схем была очевидна во всей Европе, и двор Фридриха II не мог не ответить на этот вызов. Ключевым в этих дискуссиях всегда был вопрос о достоинстве, благородстве той или иной дисциплины по сравнению с родственной или соседней по схеме. В этих бесконечных дискуссиях рождались представления о науке Нового времени.
Для окружения Фридриха II вопрос о статусе богословия не был ни праздным, ни провокационным. Ибн Сабин, отвечая на него, приводит мнения древних, аристотелевский «Органон», ряд псевдо-аристотелевских сочинений, включая популярное «Яблоко», и суфиев[196]. Предлагая свое подразделение наук, он основывается, как и христианские систематизаторы, на античном наследии. Обращаясь же к языку суфиев, он намеренно темнит: «Неспособность достигнуть понимания есть понимание». Это поучение, приписываемое первому халифу Абу-Бакру, стало принципом «ученого незнания», единственным способом «познавания» Бога. Он раскрывается в главе «Путь заблудшего». Здесь для описания Бога используются многочисленные термины, которые не являются атрибутами, ограничивающими Его сущность. Описание заканчивается вызовом: «Нам нужно встретиться. Твой вопрос показывает, что ты не знаком с наукой и проблемами философской спекуляции. … Все твои вопросы для членов нашей общины столь же ясны, как огонь на горе, умы их острее меча и кинжала. Задай вопросы посложнее, поглубже, поумнее, чтобы ты смог поговорить об этом с каким-нибудь мусульманским школяром, а не с ученым»[197].
Такой не слишком дружественный тон не раз встречается на страницах «Сицилийских вопросов». Автор особенно критичен к своему корреспонденту в третьем вопросе, посвященном аристотелевским категориям. Фридрих II спрашивал, «каковы они, как их используют в разного рода науках, чтобы достичь их полного числа “десять”? Сколько их? Можно ли насчитать их больше или меньше, и каково доказательство»[198].
По мнению ибн Сабина, император слишком мало начитан, он «очень далек от общины исследователей и от исследования. Он даже не ищет быть ведомым, что должно быть, для нашего мусульманского философа, смыслом письменного обращения к нему как авторитету. Император сам не знает, о чем спрашивает. Он желает то ли лжи, то ли невозможного, пытается скрыть свое невежество, но Бог открывает его. Вопрос о количестве категорий, поставленный сразу после утверждения о том, что их десять, является доказательством глупости. Это все равно что спрашивать: девять сфер, их вообще сколько?»[199] Для ибн Сабина, суфия, единственная истина, которую следует искать, состоит в раскрывании божественной реальности. Поэтому аристотелевская логика, интересовавшая мутакаллимов и фаласифа, часто критикуется в этом разделе «Сицилийских вопросов». Однако он не отвергает логику в целом. Он объясняет значение категорий и советует императору заняться систематическим чтением. Тогда он лучше будет знать то, что его интересует, а ответы уже не покажутся ему «более темными, сложными, туманными и непонятными, чем его собственные вопросы»[200].
Четвертый вопрос посвящен доказательствам бессмертия души[201]. Император снова становится предметом критики, поскольку он не уточнил, о каком роде души тот спрашивает. Ибн Сабин выделяет пять типов души: растительная, животная, разумная (аристотелевские), философская и, самая благородная, пророческая. Фридрих II хотел также знать, в чем Александр Афродисийский противоречил Аристотелю. Это самый ужасный из всех когда-либо задававшихся вопросов, восклицает ибн Сабин, поскольку он совершенно беспорядочен. Император не умеет вести дискуссию, и разговаривать с ним – все равно что ждать ответа от спящего[202].
Разумная душа не просто бессмертна: смерть тела делает ее прекрасной и исполненной блеска. Смерть – мгновение ее настоящего рождения[203]. Он цитирует Аристотеля, его греческих и арабских комментаторов, которые, по его мнению, запутали вопрос о бессмертии души, но которые потом отказались от своих учений. Пятый вопрос, скорее всего, является интерполяцией. Он посвящен хадису: «Сердце верующего меж двух пальцев Всемилостивого»[204].
В «Сицилийских вопросах» прежде видели выражение крайнего скептицизма и неверия Фридриха II[205]. Для других историко-культурный смысл этого памятника ограничивается желанием императора произвести впечатление на Альмохадов, спровоцировать, испытать, искусить мусульман, как говорили современники. Тон ответов ибн Сабина подкрепляет такое толкование[206]. Политический контекст этой переписки действительно не должен от нас ускользнуть. Ибн аль-Хатиб писал тогда: «Ученые Рум послали эти вопросы, чтобы смутить мусульман… Ответы ибн Сабина понравились Фридриху, и он послал ему дары. Как и в предыдущий раз, тот отказался от них, христианин был посрамлен, и Бог явил торжество ислама, возвеличив его неопровержимыми свидетельствами перед христианской религией»[207].
В 1243 году Абд Аллах бен Худ, государь Мурсии, отправил в Рим Абу Талиба, чтобы он представил понтифику жалобу на инфанта Альфонса, будущего Альфонса Мудрого. Абу Талиб был братом ибн Сабина. Два арабских историка, ибн аль-Хатиб и аль-Маккари, приводят следующий эпизод. Когда Иннокентий IV принимал мусульманского посланника, он уже знал о существовании «Сицилийских вопросов» и, возможно, был знаком с их содержанием. Он сказал, что среди мусульман нет никого, кто знал бы Бога лучше, чем ибн Сабин[208]. Конечно, эти слова, как всякая прямая речь в исторических сочинениях того времени, скорее всего, являются изобретением авторов. С таким же успехом их мог придумать и брат ибн Сабина. Странно было бы услышать их от главы католической церкви, который обвинял императора в неподобающей ему симпатии к неверным, эти связи стали даже одним из поводов для низложения.
Не следует, впрочем, преуменьшать интерес папской курии к арабским наукам и к связям с миром ислама[209]. Можно также сомневаться, что Иннокентий IV был на самом деле знаком с содержанием «Сицилийских вопросов». Известно лишь, что брат ибн Сабина говорил с понтификом. Вряд ли можно предположить, что он не упомянул об этой переписке, – даже если она была фиктивной, выдуманной ибн Сабином для собственного возвеличения. Эта литературно-философская фикция, попав в руки политических и интеллектуальных противников, становилась своего рода «базовым документом» для обвинений, которые в дальнейшем были развиты. Достаточно вспомнить содержание вопросов, чтобы представить себе впечатление курии и логику ее дальнейших действий. Ведь эти «крамольные» вопросы обсуждались не в университетской аудитории, а были заданы неверным, от лица верховного светского государя христианского Запада. Речь шла об аудитории совершенно особого значения и масштаба, и поэтому вопросы становились религиозно-политическим манифестом не только для мусульман, но и для христиан, прежде всего для Рима.
Если папа знал о содержании «Сицилийских вопросов», если у него был этот текст или тем более его перевод на руках, значит, научная информация довольно быстро циркулировала между соперничавшими дворами. Булла о низложении Фридриха II, опубликованная Иннокентием IV на I Лионском соборе 17 июля 1245 года, достаточно сдержанно говорит о взглядах императора, хотя она наверняка обсуждалась в курии и в чувствительных к ее голосу кругах (Салимбене и Матвей Парижский тому свидетели).
Если отлучение было традиционным орудием воздействия Церкви на политику светской власти на всех уровнях, то низложение государя происходило гораздо реже и было сопряжено с большими трудностями. Это тем более очевидно, когда речь идет о конфликте европейского масштаба – противостоянии императора и папы. Как известно, это противостояние длилось примерно столько же, сколько существовала сама средневековая Римская империя. Основа конфликта была заложена еще коронованием Карла Великого в Риме в 800 году, казалось бы, совершенным по обоюдному согласию. Но корону на голову короля франков положил именно римский епископ, и вследствие этого прецедента он стал обязательным посредником между Богом и верховной светской властью. На протяжении столетий это противостояние могло приобретать более или менее бескомпромиссные формы, а иногда могло даже являть признаки умиротворения, гармонии, говоря языком византийцев, симфони́и. Однако противостояние двух властей было вершиной айсберга, и современники видели в нем не просто тяжбу о чем-то не договорившихся политиков, но конфликт духовного и светского начал. Этот конфликт был неискореним. Хорошо известный памятник этой борьбы – «Монархия» Данте (второе десятилетие XIV века). Это было противостояние двух культурных моделей, двух символических систем, каждая из которых претендовала на исключительную роль в жизни христианской Европы.
Если перед нами противостояние двух мировоззренческих систем, то мы должны задаться вопросом, что именно делало их непримиримыми? Было ли что-то в характере Фридриха II, что курия не хотела принять? Какие-то там схоластические кулуарные дискуссии и переписка с неверными – все это имело ли отношение к большой политике?
В 1245 году на специально созванном папой Иннокентием IV соборе в Лионе Фридрих II, уже дважды отлученный от церкви Григорием IX, был объявлен низложенным, все его подданные были освобождены от присяги верности[210]. Это было несомненным поражением международной политики императора, которое сразу получило резонанс в жизни Европы: правящий император низлагался впервые.
Собор не воспринимался Иннокентием IV в качестве гаранта юридической силы низложения, инициатором которого выступила курия. Комментируя буллу отлучения, он говорил, что лишь использовал торжественную обстановку для объявления решения, принятого им лично исходя из апостольской «полноты власти» римского понтифика (plenitudo potestatis)[211]. Он был профессиональным юристом, по-настоящему крупным мыслителем-канонистом. Его понтификат отмечен исключительной законодательной активностью курии. Поэтому булла, будучи, конечно, в определенной мере коллективным документом, несла на себе печать сугубо практического правового сознания ее главного автора. В ней перечисляются многочисленные оскорбления, нанесенные императором служителям Церкви, прежде всего пленение кардиналов в 1241 году, его нерадение к церковному строительству и к делам милосердия, нечестивый союз с мусульманами и с греческими раскольниками (в лице императора Никеи Иоанна III Ватаца), личное аморальное поведение императора, доведение до нищеты церковных приходов Сицилийского королевства, являвшегося феодом Римской курии, убийство ассасинами герцога Людвига Баварского, якобы им организованное, продолжение церковного общения, несмотря на отлучение, и т. д. Лейтмотивом проходит также несоблюдение обещаний и клятв.
Многие участники собора до последнего заседания 17 июля надеялись на мирный исход, и Иннокентий IV должен был привести в этом экстраординарном документе те доводы, которые, по его представлениям, имели непререкаемую юридическую силу. Это было тем более важно, что процессуальная сторона судебного разбирательства была гораздо более шаткой, чем не преминули воспользоваться в дальнейшем сторонники императора. Подписи собрали с трудом. Радикальное вмешательство Церкви в дела светской власти, при всех ее (вовсе не уникальных) грехах, не могло не вызвать по крайней мере глухого неприятия со стороны европейских монархов, ибо принимая правомочность низложения, в дальнейшем, в чем-то не согласившись с понтификом, любой из них мог разделить судьбу императора.
Нас, однако, сейчас интересует не юридическая сторона конфликта и не реакция на него в международной политике, а то, о чем булла молчит: на протяжении многих лет Фридрих II обвинялся не только в нерадении к делам веры, но и в еретических воззрениях. Иннокентий IV вообще был человеком здравомыслящим, а в бытность свою кардиналом относился к императору довольно дружелюбно. Лишь новое положение главы христианского Запада, возможно, связанное с этим новое чувство ответственности заставили его резко изменить свое отношение. Но и кроме него в курии были влиятельные люди во главе с кардиналом Раньеро Капоччи из Витербо и памфлетисты, грозившие всем концом света. Между Римом и Великой курией шла война слухов и «фейков» один другого краше[212]. Если близкий францисканцам Григорий IX прислушивался к подобной мистике, Иннокентий IV выступал и в пропаганде скорее прагматиком. Неверие в важнейшие догматы, эпикуреизм императора – все это быстро стало частью сначала куриального, а потом и общеевропейского фольклора, расхожей монетой, отправившей уже давно покойного императора в дантовский ад (песнь Х, стих 119).







