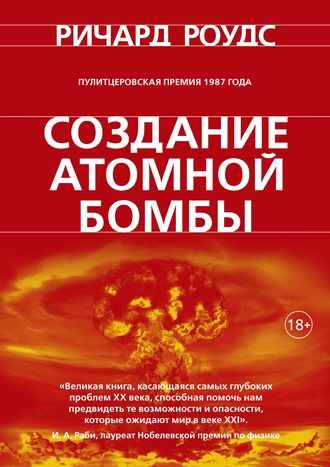
Ричард Роудс
Создание атомной бомбы
5
Марсиане
Первая в континентальной Европе линия метро появилась не в Париже и не в Берлине, а в Будапеште. Длиной около трех километров, она была открыта в 1896 году и соединяла процветающую венгерскую столицу с северо-западными предместьями. В том же году был перестроен большой дворец Франца-Иосифа I, бывшего в одной из ипостасей монарха двуединой империи королем Венгрии; после этого расширения в здании стало 860 комнат. На противоположном от него берегу широкого Дуная возвышалось великолепное здание парламента, занимавшее несколько гектаров, – шестиэтажная каменная постройка в викторианском стиле с мансардами на крыше, ощетинившаяся неоготическими шпилями, которые окружали вытянутый купол в стиле Возрождения, поддерживаемый ажурными контрфорсами. Дворец находился в холмистой, тихой Буде, а парламент – к востоку от него, в равнинном и оживленном Пеште. «Конные дрожки», вспоминает это время венгерский физик Теодор фон Карман, катали «дам в шелковых платьях и сопровождавших их графов-гусар в красных мундирах и меховых шапках по древним, искалеченным войнами холмам Буды». Однако, добавляет фон Карман, «за этими видами скрывались более глубокие общественные течения»[441].
С холмов Буды открывался вид далеко за Пешт, на огромную Среднедунайскую низменность, обрамленную в 400 километрах к востоку дугой Карпат, перейдя которые тысячу лет назад, мадьяры вторглись в Венгрию. Пешт разрастался внутри колец бульваров, устроенных по венскому образцу; в его конторах шла кипучая банковская и брокерская деятельность, а также весьма прибыльная торговля зерном, фруктами, вином, говядиной, кожей, лесом и промышленное производство, только недавно появившееся в стране, 96 % жителей которой всего лишь пятьюдесятью годами ранее жили в поселениях с населением менее 20 000 человек. В течение этих пятидесяти лет Будапешт, объединивший в себе города Буду, Обуду и Пешт, рос быстрее, чем любой другой город континентальной Европы и поднялся с семнадцатого на восьмое место по численности населения – она составляла почти миллион душ. Бульвары стали оживленнее благодаря многочисленным кофейням, бывшим, по мнению одного венгерского журналиста, «источником подпольной торговли, прелюбодеяния, каламбуров, сплетен и поэзии, местом встреч интеллектуалов и противников угнетения»[442]; в парках и скверах разместилась целая армия бронзовых всадников; и крестьяне, попадавшие в Королевский город на Дунае, с подозрением таращились на целые районы особняков, не уступавших лучшим европейским образцам.
Причиной венгерского бума был экономический рывок, позднее знакомство страны, богатой сельскохозяйственными ресурсами, с организационными механизмами капитализма и индустриализации. Механизмы эти – благодаря более сильному честолюбию и энергичности, но также и из-за отсутствия других желающих, – приводились в действие евреями, которые составляли в 1910 году около 5 % населения Венгрии. Упрямо державшаяся сельских и милитаристских традиций мадьярская знать, которой удавалось до самого 1918 года удерживать 33 % венгерского народа в состоянии неграмотности[443], не желала иметь ничего общего с вульгарной торговлей, хотя охотно пользовалась ее плодами. В результате к 1904 году еврейским семьям принадлежало 37,5 % венгерской пахотной земли[444]; к 1910 году, хотя евреи составляли всего лишь 0,1 % сельскохозяйственных работников и 7,3 % промышленных рабочих, на их долю приходилось 50,6 % венгерских юристов, 53 % коммерсантов, 59,9 % врачей и 80 % финансистов Венгрии[445]. Единственной другой существенной частью среднего класса в Венгрии была огромная армия бюрократов из обедневшего венгерского дворянства, которые соперничали с еврейской буржуазией за политическое влияние. Еврейская коммерческая элита, оказавшись зажата между преимущественно еврейскими же социалистами и радикалами с одной стороны и реакционной бюрократией с другой, причем обе эти группы были настроены к ней враждебно, стала искать спасения в союзе со старой аристократией и монархией. Одним из проявлений этого консервативного союза стал резкий рост числа евреев, возведенных в дворянство, в начале XX века.
Первым со средневековых времен некрещеным евреем, получившим дворянство, стал в 1863 году дед Дьёрдя де Хевеши с материнской стороны, преуспевающий промышленник С. В. Шоссбергер[446]; в 1895 году в дворянство была возведена вся семья де Хевеши. Банкир Макс Нейман, отец блестящего математика Джона фон Неймана, стал дворянином в 1913-м. Случай отца фон Кармана был исключительным. Мор Карман, основатель прославленной школы «Минта», был не состоятельным коммерсантом, а просветителем. В последние десятилетия XIX века он реорганизовал беспорядочную венгерскую школьную систему по германскому образцу, что чрезвычайно ее улучшило, – причем он далеко не случайно отнял управление образованием у господствовавших в нем религиозных учреждений и передал его государству. За это он получил место при дворе: ему было поручено планирование образования молодого эрцгерцога, племянника императора. В результате, как пишет фон Карман:
Однажды в августе 1907 года Франц-Иосиф вызвал его во дворец и сказал, что хотел бы вознаградить его за отличную работу. Он предложил сделать отца «его превосходительством».
Отец слегка поклонился и сказал: «Ваше императорское величество, я очень польщен. Но я предпочел бы что-нибудь, что я смогу оставить своим детям».
Император согласно кивнул и распорядился, чтобы отец был включен в состав потомственного дворянства. Чтобы получить дворянский титул, отцу нужно было иметь землю. К счастью, он владел маленьким виноградником под Будапештом, так что император прибавил к его имени «фон Солоскислак» (что значит «мелкий виноград»). Я оставил в своем имени только «фон», потому что даже для меня, венгра, полный титул оказался почти что непроизносимым[447].
Суммарное число еврейских семейств, возведенных в дворянство до 1900 года, было равно 126; за короткие полтора десятилетия между 1900 годом и началом Первой мировой войны непрочному консервативному альянсу удалось протолкнуть еще 220[448]. В общей сложности это коснулось нескольких тысяч членов этих 346 семей. Таким образом, они оказались вовлечены в систему политических связей, и имевшиеся у них возможности независимых действий были упущены.
Из процветающего, но уязвимого еврейского среднего класса Венгрии вышло семь человек, попавших в число самых великих ученых XX века: если расположить их в хронологическом порядке по датам рождения, это Теодор фон Карман, Дьёрдь де Хевеши, Майкл Полани, Лео Сцилард, Юджин Вигнер, Джон фон Нейман и Эдвард Теллер. Все семеро уехали из Венгрии в молодости; все семеро оказались людьми не только талантливыми, но и необычайно разносторонними и внесли большой вклад в науку и технику; двое из них, де Хевеши и Вигнер, впоследствии стали нобелевскими лауреатами.
Загадка появления столь концентрированного потока талантов из столь далекого, провинциального места чрезвычайно занимала научное сообщество. Говоря об этом «созвездии блистательных выходцев из Венгрии», Отто Фриш вспоминает, что его друг, физик-теоретик Фриц Хоутерманс, выдвинул популярную теорию, утверждающую, что «на самом деле эти люди прилетели с Марса; им, говорил он, было трудно говорить без акцента, который мог их выдать, и поэтому они притворились венграми, которые хорошо известны своей неспособностью говорить без акцента на каком-либо языке – кроме венгерского, а в Венгрии-то никто из [этих] блестящих людей как раз и не жил»[449]. Это забавляло его коллег и было лестно самим венграм, которым нравился налет тайны, придававший их прошлому романтический оттенок. Истина была менее приятной: венгры уехали из своей страны из-за отсутствия возможностей заниматься наукой и под давлением усиливавшегося и в конце концов дошедшего до насильственных форм антисемитизма. Они принесли с собой в большой мир те уроки, которые получили в Венгрии.
Все они с раннего возраста были талантливы, но таланты эти проявлялись и запоминались по-разному. Фон Карман в шесть лет поражал гостей своих родителей, быстро перемножая в уме шестизначные числа[450]. Фон Нейман, также шестилетний, обменивался с отцом шутками на древнегреческом и обладал фотографической памятью: он мог рассказывать наизусть целые главы из прочитанных книг[451]. Эдвард Теллер, как когда-то Эйнштейн, необычайно поздно научился – или решил начать – говорить[452]. Его дед предупреждал родителей мальчика, что тот может оказаться неполноценным, но, когда Теллер наконец заговорил в трехлетнем возрасте, он заговорил сразу законченными предложениями.
Фон Неймана также занимала загадка происхождения его самого и его соотечественников. Его друг и биограф, польский математик Станислав Улам, вспоминает, как они обсуждали примитивную сельскую местность в холмах, расположенных по обе стороны от Карпат, охватывающую части Венгрии, Чехословакии и Польши и густо усеянную обедневшими православными деревнями. «Джонни говорил, что все знаменитые еврейские ученые, художники и писатели, эмигрировавшие из Венгрии накануне Первой мировой войны, происходили, прямо или косвенно, из этих мелких карпатских поселений, из которых их семьи перебирались в Будапешт, как только улучшалось их материальное положение»[453]. Для людей, за плечами которых были такие последовательные перемещения, прогресс мог стать метафизической верой. «Мальчиком, – пишет Теллер, – я обожал научную фантастику. Я читал Жюля Верна. Его слова уносили меня в восхитительный мир. Возможности усовершенствования человека казались безграничными. Достижения науки были фантастическими и приносили благо»[454].
Задолго до того, как Лео Сцилард познакомился с романами Герберта Уэллса, он восхищался другим вдохновенным исследователем прошлого и будущего человечества. В зрелом возрасте Сцилард считал, что его «болезненная страсть к истине» и «стремление “спасать мир”» происходили прежде всего из историй, которые рассказывала ему мать. Но, если не считать их, говорил он, «наиболее серьезное в моей жизни влияние оказала одна книга, которую я прочитал в десять лет. Это было классическое произведение венгерской литературы, которое преподают в школе, – “Трагедия человека”[455]»[456].
Эта длинная драматическая поэма, главными героями которой выступают Адам, Ева и Люцифер, была написана склонным к идеализму, но разочарованным молодым венгерским аристократом Имре Мадачем в годы, последовавшие за крахом венгерской революции 1848 года. Один современный критик назвал эту работу «самой опасно пессимистической поэмой XIX века»[457]. В ней Люцифер проводит Адама по истории человечества, приблизительно так же, как духи Рождества ведут Эбенезера Скруджа, последовательно предлагая Адаму роли разных исторических персонажей – египетского фараона, Мильтиада, рыцаря Танкреда, Кеплера. Пессимизм поэмы заключен в ее драматической стратегии. Люцифер демонстрирует Адаму бессмысленность веры человека в прогресс не на воображаемых опытах, как в «Фаусте» или «Пер Гюнте», а на реальных исторических событиях. Фараон освобождает своих рабов, и они поносят его за то, что он оставил их без главенствующего бога; Мильтиад возвращается из Марафона и подвергается нападению кровожадной толпы граждан, подкупленных его врагами; Кеплер торгует гороскопами, чтобы содержать в роскоши свою неверную жену. Адам разумно заключает, что человек никогда не достигнет своих высочайших идеалов, но все равно должен к ним стремиться – этот вывод Сцилард продолжал поддерживать еще в 1945 году. «В книге [Мадача], – говорил он тогда, – дьявол показывает Адаму историю человечества, [заканчивающуюся] смертью Солнца. В живых остается только несколько эскимосов, и они больше всего беспокоятся о том, что эскимосов слишком много, а тюленей слишком мало [в последней сцене перед тем, как Адам снова возвращается к началу]. Идея заключается в том, что после того, как предсказание сделано, и оно пессимистично, все равно остается, хоть и довольно слабая, надежда»[458].
Такая небезоговорочная вера Сциларда в прогресс и его либеральные политические ценности отличали его от его венгерских товарищей. Он считал, что члены этой группы оформились под влиянием особой атмосферы Будапешта начала века, «общества, в котором экономическая безопасность считалась само собой разумеющейся», как перефразирует его слова историк, и «высоко ценились интеллектуальные достижения»[459]. Фон Карман, учившийся в «Минте» (в которую попали потом и Сцилард с Теллером) в мирные 1890-е годы, был от нее в восторге. «Мой отец [бывший основателем этой школы], – писал он, – был убежденным сторонником преподавания всех предметов – латыни, математики и истории – методом демонстрации их связи с повседневной жизнью». В начале изучения латыни ученики ходили по городу, копируя надписи со статуй и из музеев; в начале изучения математики – искали цифры производства пшеницы в Венгрии и составляли по ним таблицы и графики. «Мы никогда не заучивали правил из учебников. Вместо этого мы пытались вывести их самостоятельно»[460]. Что может быть лучше для предварительной подготовки ученого?
Ставший впоследствии одним из ведущих физиков-теоретиков XX века невысокий и подтянутый Юджин Вигнер, отец которого заведовал кожевенной мастерской, поступил в лютеранскую гимназию в 1913 году; Джон фон Нейман – годом позже. «У нас было два года физики, два последних класса, – вспоминает Вигнер. – И это было очень интересно. Там были просто великолепные учителя по всем предметам, но учитель математики был совершенно фантастическим. Он давал частные уроки Джону фон Нейману. Он давал ему частные уроки, потому что понимал, что тот станет великим математиком»[461].
Фон Нейман подружился с Вигнером. Они гуляли вместе, разговаривая о математике. Хотя сам Вигнер обладал исключительным математическим талантом, ему казалось, что он уступает этому вундеркинду из семьи банкира. В течение всей жизни фон Неймана его блестящие дарования впечатляли его коллег. Теллер вспоминает, как кто-то предложил усеченный силлогизм, который гласил: а) Джонни может доказать что угодно и б) любое доказательство Джонни истинно[462]. В Принстоне, в котором в 1933 году фон Нейман стал в двадцать девять лет самым молодым сотрудником вновь созданного Института перспективных исследований, ходила шутка, что венгерский математик – на самом деле полубог, который так тщательно и подробно изучил людей, что смог идеально притвориться одним из них[463]. Эта история намекает на некоторую расчетливую холодность, скрывавшуюся под маской добродушия, которую научился носить фон Нейман; даже Вигнеру казалось[464], что их дружбе недостает сердечности. Тем не менее Вигнер считал его единственным из всей компании настоящим гением[465].
Эти воспоминания о первых днях учебы в гимназии резко контрастируют с теми бурными переживаниями, которые испытал Теллер. Отчасти это были различия личного характера. Математика, которую преподавали в «Минте» в первый год, была Теллеру скучна, и он быстро умудрился настроить против себя учителя математики, бывшего к тому же директором школы, когда усовершенствовал одно из доказательств. Директору такие выступления на уроках не нравились. «Так вы, Теллер, гений? Я не люблю гениев»[466]. Но каковы бы ни были личные проблемы Теллера, еще школьником, в одиннадцать лет, ему пришлось непосредственно столкнуться с революцией и контрреволюцией, с бунтами и жестоким кровопролитием, со страхом за свою жизнь. То, что обычно лишь подразумевалось в жизни «марсиан» старше его, на его глазах стало явью. «Мне кажется, отец впервые произвел на меня столь глубокое впечатление, – рассказывал он своим биографам. – Он сказал, что на нас надвигается антисемитизм. Идея антисемитизма была мне в новинку, и то, что отец так серьезно к этому относился, заставило меня задуматься»[467].
Фон Карман сначала изучал в Будапештском университете механику и инженерное дело, а в 1906 году перебрался в Гёттинген; де Хевеши попытался учиться в Будапеште в 1903 году, но уже в 1904-м поступил в берлинскую Высшую техническую школу, а затем работал с Фрицем Габером и, еще позднее, с Эрнестом Резерфордом; Сцилард учился в Будапеште в Технологическом институте, затем служил в армии и решился уехать под влиянием смуты, которая началась после окончания войны. В отличие от них Вигнер, фон Нейман и в особенности Теллер пережили крах венгерского общества подростками – Теллер был тогда в нежном возрасте полового созревания – на собственном опыте.
«Революция налетела как ураган, – вспоминает один из свидетелей Венгерской октябрьской революции 1918 года. – Никто ее не подготавливал, никто ее не организовывал; она неудержимо разразилась сама по себе»[468]. Однако были события, ей предшествовавшие: всеобщая забастовка полумиллиона рабочих Будапешта и других промышленных центров Венгрии в январе 1918 года; еще одна всеобщая забастовка сходной силы в июне. Осенью того же года в Будапеште собрались массы солдат, студентов и рабочих. Эта первая краткая революция началась с антимилитаристских и националистических требований. К концу октября, когда был сформирован Национальный совет Венгрии под руководством графа Михая Каройи («Даже революцию мы не можем устроить без графа», – шутили в Будапеште), возникли ожидания реальных демократических реформ: Совет выпустил манифест, призывавший к независимости Венгрии, прекращению войны, свободе печати, введению тайного голосования и предоставлению женщинам избирательных прав.
Двуединая Австро-Венгерская монархия развалилась в ноябре. Австрийский романист Роберт Музиль дал лучшее объяснение ее гибели в форме сухой эпитафии: Es ist passiert [469] («Это случилось»). 31 октября Венгрия обрела новое правительство, и улицы Будапешта заполнили торжествующие толпы – они размахивали хризантемами, которые стали символом революции, приветствуя проезжающие по городу грузовики с солдатами и рабочими.
Однако победа давалась нелегко. Революция затронула почти только один Будапешт. Новое правительство не могло договориться ни о каком решении, лучшем, чем расчленение страны. За основанием Венгерской Республики 16 ноября 1918 года тут же, 20 ноября, последовало создание Венгерской коммунистической партии солдатами, которые возвращались из русских лагерей для военнопленных, набравшись в них радикальных идей. 21 марта 1919 года, всего через четыре месяца после образования Венгерской Республики, она бескровно превратилась в Венгерскую Советскую Республику, которую возглавил бывший военнопленный, ученик Ленина, журналист еврейского происхождения, родившийся в Трансильванских Карпатах, – Бела Кун. Артур Кестлер, бывший тогда в Будапеште четырнадцатилетним мальчиком, впервые услышал «вдохновляющие звуки “Марсельезы” и “Интернационала”, заливавшие музыкальный город на Дунае горячим, мелодичным потоком в течение всех ста дней Коммуны»[470].
Дней было чуть больше ста – 133. Это были дни неразберихи, надежды, страха, смехотворной неуклюжести и до некоторой степени насилия. К концу войны в Будапешт вернулся фон Карман: он занимался работами по аэронавтике для военно-воздушных сил Австро-Венгрии, участвуя в разработке одного из ранних прототипов вертолета. Вернулся и де Хевеши. В течение краткого периода существования республики фон Карман участвовал в реорганизации и модернизации университета и даже служил заместителем министра образования при режиме Белы Куна. Ему больше запомнилась его наивность, чем жестокость: «Насколько я помню, в течение ста дней правления большевиков никакого террора в Будапеште не было, хотя мне и приходилось слышать о некоторых садистских эксцессах»[471]. Зимой 1918/19 года университет, нуждавшийся в квалифицированных физиках, принял де Хевеши на должность лектора по экспериментальной физике. В марте замминистра фон Карман назначил его на вновь созданную должность профессора физической химии, но де Хевеши нашел условия работы при коммунистической власти неудовлетворительными и в мае уехал в Данию к Бору. Старые друзья договорились, что он поступит на работу в новый копенгагенский институт Бора, как только тот будет построен.
Артур Кестлер вспоминает, что еды не хватало, особенно если пытаться покупать ее по выпущенным правительством продуктовым карточкам и на почти совершенно обесценившиеся бумажные деньги. Однако на те же деньги почему-то можно было купить огромное количество ванильного мороженого, которое спонсировала Коммуна, и поэтому семья Кестлера ела его на завтрак, обед и ужин. Этот курьез, по словам Кестлера, «был типичен для той беззаботности, того дилетантства, даже того сюрреализма, с которыми управлялась Коммуна». Все это, считал Кестлер, «было довольно трогательно – по меньшей мере по сравнению с безумием и дикостью, которым суждено было охватить Европу в следующие годы»[472].
Фон Неймана и Теллера Венгерская Советская Республика коснулась гораздо более суровым образом. Они не были ни горячими ее сторонниками, как Кестлер, ни – пока еще – членами интеллектуальной элиты, как де Хевеши и фон Карман. Они были детьми коммерсантов – Макс Теллер был преуспевающим адвокатом. Макс фон Нейман забрал семью и бежал в Вену. «Мы покинули Венгрию, – много лет спустя рассказывал его сын, – вскоре после того, как коммунисты захватили власть… По сути дела, мы уехали, как только это стало возможным, то есть дней через тридцать или сорок, и вернулись приблизительно через два месяца после поражения коммунистов»[473]. В Вене старший фон Нейман присоединился к группе венгерских финансистов[474], работавших вместе с консервативной аристократией над свержением Коммуны.
Поскольку у Теллеров не было состояния, которое помогло бы им, они поневоле остались в Будапеште, лицом к лицу со своими страхами. Они совершали вылазки в деревню, выменивая у крестьян продукты. Теллер слышал о трупах, висящих на фонарях[475], но сам ничего такого не видел – так же, как фон Карман не был свидетелем «садистских эксцессов». Чтобы решить проблему перенаселения города, Коммуна обобществила все жилье. И к Кестлерам, и к Теллерам в один прекрасный день постучались солдаты, которым было поручено реквизировать буржуазные излишки жилой площади и мебели. Кестлерам, занимавшим две обшарпанные комнаты в пансионе, было позволено их сохранить. В то же время Артур обнаружил, что рабочие бывают разными и интересными людьми. К Теллерам подселили двоих солдат[476], которые спали на диванах в двух комнатах конторы Макса Теллера, примыкавшей к квартире. Солдаты вели себя вежливо; иногда они делились едой; они мочились в фикус; но, поскольку они пытались найти спрятанные деньги (которые были надежно укрыты в обложках книг по юриспруденции Макса Теллера) или просто потому, что Теллеры в целом не чувствовали себя в безопасности, их чуждое присутствие наводило на семью ужас.
Однако самый большой ужас в конце концов вселил в родителей Эдварда Теллера вовсе не венгерский коммунизм. Вожди Коммуны и многие из ее должностных лиц были евреями – что было неизбежно, поскольку вся образовавшаяся к тому времени в Венгрии интеллигенция была еврейской. Макс Теллер предупреждал сына о приближении антисемитизма. Мать Теллера выражала свой страх более живо. «Я дрожу от страха при виде того, что делает мой народ, – сказала она гувернантке сына в дни расцвета Коммуны. – Когда все это закончится, наступит ужасное возмездие»[477].
Летом 1919 года, когда положение Коммуны стало неустойчивым, одиннадцатилетнего Эдварда и его старшую сестру Эмми отправили от греха подальше к родителям матери в Румынию. Вернулись они осенью; к тому времени адмирал Миклош Хорти въехал в Будапешт на белом коне во главе новой национальной армии и установил первый в Европе жестокий фашистский режим. В результате красного террора было казнено в общей сложности около пятисот человек[478]. Масштабы белого террора режима Хорти были на порядок больше: по меньшей мере 5000 жертв[479], многие из которых были убиты с особой жестокостью; тайные камеры пыток; выборочный, но непрестанный антисемитизм, вынудивший десятки тысяч евреев покинуть страну. Наблюдатель того времени, социалист, в равной степени осуждающий обе крайности, писал, что у него нет «ни малейшего желания оправдывать зверства пролетарской диктатуры; отрицать ее жестокость нельзя, хотя связанный с нею террор чаще выражался в виде оскорблений и угроз, нежели реальных действий. Однако радикальное различие между террором красным и террором белым не подлежит никакому сомнению»[480]. Макс фон Нейман, сочувствовавший новому режиму, снова привез свою семью в Венгрию.
В 1920 году режим Хорти ввел в действие закон о numerus clausus[481], ограничивавший возможности поступления в университеты. Закон этот требовал, чтобы «относительное число поступающих как можно точнее соответствовало удельной численности населения различных рас или национальностей»[482]. Это правило, ограничивавшее число еврейских студентов пятью процентами, было намеренно антисемитским. Хотя фон Нейман был принят в Будапештский университет и мог продолжать в нем учиться, в семнадцать лет, в 1921 году, он предпочел уехать из Венгрии в Берлин. Там он попал в сферу влияния Фрица Габера и сперва учился на инженера-химика; в 1925 году он получил диплом по этой специальности в Цюрихском политехническом институте. Годом позже он получил в Будапеште докторскую степень summa cum laude[483], в 1927-м стал приват-доцентом Берлинского университета; в 1929-м, когда ему было двадцать пять, получил приглашение читать лекции в Принстоне. К 1931 году он уже был в Принстоне профессором математики, а в 1933-м получил там пожизненную должность в Институте перспективных исследований.
Самому фон Нейману лично не пришлось испытать в Венгрии каких-либо проявлений насилия, лишь общие потрясения и беспокойство, которое ощущали его родители. Тем не менее он чувствовал, что эти события оставили в нем свой след. После обсуждения карпатских деревень в качестве исходной точки происхождения талантливых венгерских эмигрантов его разговор со Станиславом Уламом перешел на более зловещие темы. «Историкам-“науковедам”, – пишет Улам, – еще предстоит выявить и объяснить условия, ставшие своеобразными катализаторами появления в тех краях столь многих блистательных личностей. Их имена изобилуют в анналах математики и физики современности. Джонни говорил, что здесь имело место совпадение каких-то культурных факторов, о которых он не мог судить точно – возможно, внешнее давление на все общество этой части Центральной Европы, ощущение крайней незащищенности, жившей в каждом отдельном человеке, необходимость сопроводить свое вымирание чем-то необычным, чтобы не уйти бесследно»[484][485].
В худшие годы правления Хорти Теллер был слишком молод, чтобы уехать из Венгрии. Именно в этом подростковом возрасте, по словам самого Теллера, пересказанным впоследствии журналом Time, Макс Теллер «вбивал сыну в голову два суровых урока: 1) когда он вырастет, ему нужно будет эмигрировать в какую-нибудь более благополучную страну и 2) ему, представителю непопулярного меньшинства, придется превосходить средний уровень, чтобы только держаться наравне с другими»[486]. Теллер добавил к этому свой собственный урок. «Я любил науку, – сказал он в одном интервью. – Но, кроме того, она давала возможность спастись из обреченного общества»[487]. В автобиографии фон Кармана есть не менее яркое высказывание о роли науки в его эмоциональной жизни. После краха Венгерской Советской Республики он спрятался в доме одного состоятельного друга, а затем сумел вернуться в Германию. «Я был рад выбраться из Венгрии, – пишет он о своих мыслях того времени. – Мне казалось, что с меня достаточно политики и государственных переворотов… Внезапно меня охватило ощущение, что долговечной может быть только наука»[488].
Идея о том, что наука может стать убежищем от мира, распространено среди тех, кто ею занимается. По словам Абрахама Пайса, Эйнштейн «однажды сказал, что продал науке свою душу и тело в попытке убежать от “я” и “мы” к “оно”»[489]. Но наука, дающая возможность убежать от знакомого мира рождения, детства и языка, когда этот мир становится смертельно угрожающим, – наука, дающая выход, культуру, которую можно унести с собой, международное братство и единственную устойчивую уверенность, – должна для этого стать предметом еще более безнадежной и, следовательно, еще более тотальной зависимости. Хаим Вейцман до некоторой степени описывает ее тотальность в еще более суровом мире российской черты оседлости, когда пишет, что «приобретение знаний было для нас в равной мере нормальным процессом образования и накоплением оружия в арсенале, при помощи которого мы надеялись впоследствии выжить во враждебном мире»[490]. С болью вспоминает он, что «каждое решение в жизни человека было судьбоносным»[491].
Жизнь Теллера в Венгрии до того, как в 1926 году он семнадцатилетним юношей уехал в Высшую техническую школу Карлсруэ, была гораздо менее суровой, чем жизнь Вейцмана в черте оседлости. Однако внутренние травмы нельзя точно измерить внешними обстоятельствами, и мало что способно породить столь глубокий гнев и столь ужасное, сохраняющееся на всю жизнь ощущение тревоги, как неспособность отца защитить собственных детей.
«В последние несколько лет, – писал Нильс Бор немецкому физику-теоретику Арнольду Зоммерфельду в апреле 1922 года в Мюнхене, – я часто чувствовал чрезвычайно острое научное одиночество; мне казалось, что мои попытки систематической разработки принципов квантовой теории, в которые я вкладывал все свои способности, находили очень мало понимания»[492]. В продолжение всей войны Бор напряженно старался развивать последствия тех «радикальных изменений», которые он внес в физику, куда бы они ни вели. Они привели его к отчаянию. Какими бы поразительными ни были предвоенные достижения Бора, слишком многие из европейских физиков старших поколений по-прежнему считали их безосновательной, импровизированной гипотезой, а саму идею квантового атома – отвратительной. Кроме того, работе мешала война.
Однако он не оставлял усилий, на ощупь пробираясь во тьме. «Лишь редкая, поразительная интуиция, – пишет итальянский физик Эмилио Сегре, – позволила Бору не заблудиться в этом лабиринте»[493]. Он скрупулезно следовал правилу, которое он назвал принципом соответствия. Как однажды объяснял Роберт Оппенгеймер, «Бор помнил, что физика есть физика и что значительную часть ее описал Ньютон, а другую большую часть – Максвелл». Поэтому Бор предположил, что «в тех ситуациях, в которых речь идет о действиях большого по сравнению с квантовым масштаба» его квантовые правила должны «приближаться к классическим правилам Ньютона и Максвелла»[494]. Это соответствие между надежной старой и неизведанной новой физикой позволило ему установить внешний предел, стену, держась за которую он мог продвигаться вперед.



