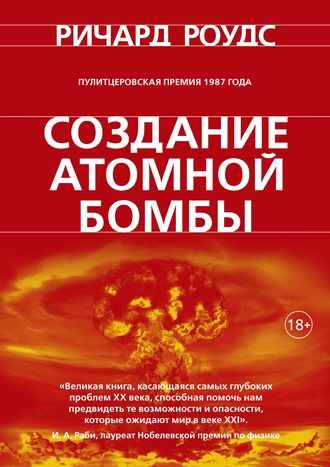
Ричард Роудс
Создание атомной бомбы
Бор построил свой Институт теоретической физики при поддержке Копенгагенского университета и датских частных промышленных компаний; он вселился в него 18 января 1921 года, более чем на год позже, чем предполагалось: архитектурные планы доставляли ему такие же мучения, как и письма. Городские власти Копенгагена выделили под институт участок на краю обширного Фелледпарка, в котором находятся футбольные поля и ежегодно проходит карнавал в честь Дня конституции Дании. Само здание было скромным, со стенами, покрытыми серой штукатуркой, и красной черепичной крышей. Оно было не больше многих частных домов, четырехэтажным, хотя снаружи казалось, что этажей в нем всего три: нижний этаж был полуподвальным, а верхний, сперва служивший Бору квартирой, уходил под своды крыши. Позднее, когда у Бора было уже пять сыновей, он построил себе отдельный дом по соседству, а в квартире на верхнем этаже института стали останавливаться приезжие студенты и коллеги. В институте были лекционная аудитория, библиотека, лаборатории и пользовавшийся большой популярностью теннисный стол, на котором Бор часто играл в пинг-понг. «Он обладал быстрой и точной реакцией, – говорит Отто Фриш, – а также огромной силой воли и выносливостью. В некотором смысле эти же качества отличали и его научную работу»[495].
В 1922 году, когда Бор получил Нобелевскую премию, что сделало его датским национальным героем, он одержал вторую из своих великих теоретических побед: он объяснил строение атома, лежащее в основе повторяющихся закономерностей периодической системы элементов. Это объяснение неразрывно связало химию с физикой; теперь оно неизменно приводится в любом учебнике начального курса химии. Вокруг атомного ядра, предположил Бор, расположены последовательные электронные оболочки – их можно представить себе в виде вложенных друг в друга сфер, – и на каждой оболочке может находиться лишь определенное число электронов и не более. Разные элементы обладают сходными химическими свойствами, потому что содержат равные количества электронов на самых внешних оболочках, и именно эти электроны могут быть использованы для образования химических связей. Например, барий, щелочноземельный металл, пятьдесят шестой элемент периодической системы с атомным весом 137,34, имеет последовательно расположенные электронные оболочки, содержащие 2, 8, 18, 18, 8 и 2 электрона. Другой щелочноземельный металл, радий, восемьдесят восьмой элемент с атомным весом 226, имеет электронные оболочки, заполненные 2, 8, 18, 32, 18, 8 и 2 электронами. Поскольку на внешней оболочке обоих элементов имеется по два валентных электрона, барий и радий имеют схожие химические свойства, несмотря на значительные различия их атомных весов и атомных номеров. «Мне казалось чудом, – говорил Эйнштейн, – что колеблющейся и полной противоречий основы [квантовой гипотезы Бора] оказалось достаточно, чтобы позволить Бору – человеку с гениальной интуицией и тонким чутьем – найти главные законы спектральных линий и электронных оболочек атомов, включая их значение для химии… Это наивысшая музыкальность в области мысли»[496][497].
В подтверждение этого чуда Бор предсказал осенью 1922 года, что элемент номер 72, когда он будет открыт, окажется элементом не редкоземельным, подобным элементам с 57 по 71, как ожидали химики, но металлом с валентностью 4, похожим на цирконий. Дьёрдь де Хевеши, уже работавший в это время в институте Бора, и недавно приехавший молодой голландец Дирк Костер взялись за поиски такого элемента в содержащих цирконий минералах методами рентгеновской спектроскопии. К началу декабря, когда Бор с Маргрете уехали в Стокгольм на церемонию вручения Нобелевской премии, их поиски еще не были закончены. Они позвонили ему в Стокгольм вечером накануне нобелевской лекции, в самый последний момент: им удалось совершенно несомненным образом выделить элемент номер 72, и его химические свойства оказались почти идентичны свойствам циркония. Они назвали новый элемент гафнием от слова «Гафния», древнеримского названия Копенгагена. На следующий день Бор с гордостью объявил о его открытии в заключение своей лекции.
Несмотря на такие успехи, квантовая теория нуждалась в более солидном основании, нежели интуитивные догадки Бора. Одним из первых свой вклад в это дело внес Арнольд Зоммерфельд, работавший в Мюнхене; после войны в работу включились самые талантливые из молодых людей, пытавшихся найти точку роста физики. Бор вспоминал этот период как время «уникального сотрудничества целого поколения физиков-теоретиков из множества разных стран», «незабываемый опыт»[498]. Он больше не был одинок.
В начале лета 1922 года Зоммерфельд привез с собой в Гёттинген послушать лекции, которые читал бывший там в это время Бор, самого многообещающего из своих студентов, двадцатилетнего баварца Вернера Гейзенберга. «Картина первой лекции неизгладимо запечатлелась в моей памяти, – писал Гейзенберг пятьдесят лет спустя, все еще помня эти события до мельчайших подробностей. – Зал был переполнен. Датский физик, в котором уже по фигуре можно было узнать скандинава, стоял на возвышении чуть склонив голову, дружески и несколько смущенно улыбаясь, а в широко распахнутые окна лилось яркое солнце геттингенского лета. Бор говорил довольно тихим голосом, с мягким датским акцентом, и когда он разъяснял отдельные положения своей теории, то выбирал слова осторожно, гораздо осмотрительнее, чем мы привыкли слышать от Зоммерфельда, и почти за каждым тщательно сформулированным предложением угадывались длительные мыслительные ряды, лишь начала которых высказывались, а концы терялись в полумраке чрезвычайно волновавшей меня философской позиции. Содержание лекции казалось и новым, и вместе с тем не новым»[499][500].
Тем не менее Гейзенберг резко возразил на одно из утверждений Бора. Бор уже знал, что на смышленых студентов, не боящихся поспорить с профессором, сто́ит обращать внимание. «…после дискуссии [Бор] подошел ко мне и спросил, не можем ли мы во второй половине дня прогуляться вместе по Хайнбергу[501], чтобы обстоятельно обсудить поставленные мною вопросы, – вспоминает Гейзенберг. – Эта прогулка оказала сильнейшее воздействие на мое последующее научное развитие, или даже, вернее сказать, все мое научное развитие, собственно, и началось с этой прогулки»[502][503]. Это воспоминание об обращении в новую веру. Бор предложил Гейзенбергу перебраться в Копенгаген, чтобы они могли работать вместе. «Внезапно стало казаться, что будущее преисполнено надежд»[504]. На следующий вечер за ужином к Бору внезапно подошли два молодых человека в форме гёттингенской полиции. Один из них положил руку ему на плечо: «Вы арестованы по обвинению в похищении малолетних детей!»[505] Этот добродушный розыгрыш был устроен студентами. «Малолетним ребенком», за которого они вступились, был Гейзенберг, выглядевший со своими веснушками и щеткой жестких рыжих волос совсем мальчишкой.
Гейзенберг был человеком спортивным, бодрым и энергичным – «сияющим», как говорит один из его близких друзей. «В те дни он выглядел даже моложе своих лет, потому что состоял в Молодежном движении… и часто носил, даже взрослым мужчиной, рубашку с расстегнутым воротником и прогулочные шорты»[506]. Юные немцы, участвовавшие в Молодежном движении, ходили в походы, жгли костры, пели народные песни и разговаривали о рыцарстве, Святом Граале и службе отечеству. Многие из них были идеалистами, но среди них уже расцветали ядовитые цветы антисемитизма и тоталитарной идеологии. Когда на Пасху 1924 года Гейзенберг наконец добрался до Копенгагена, Бор повел его в поход по северу Зеландии и расспросил обо всем этом. «…в газетах время от времени приходится читать и о темных антисемитских течениях в Германии, явно разжигаемых демагогами», – как вспоминает Гейзенберг, интересовался Бор. – «Не сталкивались ли Вы с чем-либо подобным?» «Да, в Мюнхене такие группы играют определенную роль», – ответил Гейзенберг. – «Они связаны со старыми офицерами, которые никак не могут смириться с поражением в последней войне. Но мы, надо сказать, не принимаем эти группы слишком всерьез»[507][508].
В рамках того «уникального сотрудничества», о котором любил говорить Бор, они с новыми силами взялись за квантовую теорию. По-видимому, Гейзенбергу вначале не нравилось представлять неизмеримые события. Например, еще студентом он был неприятно поражен, когда прочитал в «Тимее» Платона, что у атомов есть геометрические формы: «Меня крайне обеспокоило, что такой способный к критической остроте мысли философ, как Платон, опускается до спекуляций подобного рода»[509][510]. Орбиты электронов по Бору, считал Гейзенберг, были столь же фантастичны, и его коллеги по Гёттингену, Макс Борн и Вольфганг Паули, были с ним согласны. Заглянуть внутрь атома невозможно. Измерению поддается только свет, исходящий из атома, частоты и амплитуды, соответствующие спектральным линиям. Гейзенберг решил полностью отбросить все модели и сосредоточиться только на поиске численных закономерностей.
Он вернулся в Гёттинген работать под руководством Борна в должности приват-доцента. К концу мая 1925 года обострилась его сенная лихорадка; он взял у Борна двухнедельный отпуск и уехал на Гельголанд, крошечный, открытый частым штормам остров в сорока километрах от германского побережья Северного моря, на котором было очень мало пыльцы. Там он гулял и совершал длинные заплывы в холодном море… «Несколько дней оказалось достаточно, чтобы отбросить математический балласт, всегда неизбежно накапливающийся в подобных случаях, и найти простую математическую формулировку моего вопроса»[511]. Еще через несколько дней он смог представить себе очертания системы, которая была ему нужна. Система эта требовала странной алгебры, которую он создавал постепенно, по ходу дела: перемножение чисел в одном порядке часто давало в ней произведение, отличное от результата перемножения тех же чисел в обратном порядке. Он опасался, что его система, возможно, ведет к нарушению основополагающих физических законов сохранения энергии, и работал до трех часов ночи, проверяя свои цифры, нервничая и ошибаясь. К этому моменту он уже видел, что достиг «математической непротиворечивости и согласованности». И, как это часто бывает с великими физическими открытиями, работа эта вдохновляла, но в то же время приносила сильное психологическое беспокойство:
В первый момент я до глубины души испугался. У меня было ощущение, что я гляжу сквозь поверхность атомных явлений на лежащее глубоко под нею основание поразительной внутренней красоты, и у меня почти кружилась голова от мысли, что я могу теперь проследить всю полноту математических структур, которые там, в глубине, развернула передо мной природа. Я был так взволнован, что не мог и думать о сне. Поэтому я вышел в уже начинавшихся рассветных сумерках из дома и направился к южной оконечности острова, где одиноко выступавшая в море скала-башня всегда дразнила во мне охоту взобраться на нее. Мне удалось это сделать без особых трудностей, и я дождался на ее вершине восхода солнца[512][513].
Когда Гейзенберг вернулся в Гёттинген, Макс Борн узнал в его странной математике матричную алгебру, математическую систему для представления массивов чисел и операций с ними в матрицах – сетках, – разработанную в 1850-х годах; в 1904 году ее расширил учитель Борна Давид Гилберт. За три месяца напряженной работы Борн, Гейзенберг и их коллега Паскуаль Йордан создали, по словам Гейзенберга, согласованную математическую систему. Это была «…весьма совершенная, внутренне связанная математическая постройка, в отношении которой можно было надеяться, что она действительно удовлетворяет разнообразным экспериментальным данным атомной физики»[514][515].
Новую систему назвали квантовой механикой. Она соответствовала экспериментальным данным с высокой точностью. Ценой героических усилий Паули смог применить ее к атому водорода и последовательно получить те же результаты – формулу Бальмера, постоянную Ридберга, – которые Бор в 1913 году вывел из несистематических предположений. Бор был в восторге. Развитие новой системы продолжалось в Копенгагене, в Гёттингене, в Мюнхене, в Кембридже.
Дуга Карпат, изгибаясь к северо-западу, начинает образовывать северную границу Чехословакии. Задолго до ее окончания эта дуга сворачивает к Австрийским Альпам, но приграничный горный регион, Судеты, продолжается вглубь Чехословакии. Приблизительно в сотне километров от Праги он поворачивает на юг и образует расположенный между Чехословакией и Германией невысокий хребет, который называют по-немецки Эрцгебирге – Рудные горы. Добыча железной руды в Рудных горах началась еще в Средние века. В 1516 году в долине Святого Иоахима (Иоахимсталь) было найдено богатое серебряное месторождение; эта территория принадлежала графу фон Шлику, и он немедленно присвоил рудник. В 1519 году по его распоряжению из добытого серебра были отчеканены первые монеты. Их название, «иоахимсталер», сократилось впоследствии до «талер», а где-то до 1600 года оно превратилось в английском языке в слово «доллар». Таким образом, американский доллар ведет свое происхождение от серебра из Иоахимсталя.
В старинных, изрытых пещерами рудниках Иоахимсталя, укрепленных прокопченными деревянными балками, находили и другие необычные руды, в том числе черный, смолистый, тяжелый, бугристый минерал, который называли смоляной обманкой. В 1789 году немецкий аптекарь и химик-самоучка Мартин Генрих Клапрот, ставший первым профессором Берлинского университета, открывшегося в 1810 году, сумел выделить из образца смоляной обманки из Иоахимсталя сероватое металлическое вещество. Он стал искать для этого материала подходящее название. За восемь лет до этого сэр Уильям Гершель, родившийся в Германии английский астроном, открыл новую планету и назвал ее Ураном в честь первого верховного бога греческой мифологии, сына и мужа Геи, отца титанов и циклопов, оскопленного собственным сыном Кроносом при помощи Геи, кровь из раны которого, упав на землю, породила трех мстительных эриний. В честь открытия Гершеля Клапрот и назвал свой новый металл ураном. Он – в форме диуранатов натрия и аммония – оказался прекрасной красящей добавкой к керамической глазури; в концентрации 0,006 % он давал золотисто-желтую окраску, а при увеличении концентрации последовательно переходил к оранжевому, коричневому, зеленому и черному цвету. Добыча урана для керамической промышленности, в довольно скромных масштабах, продолжалась с тех пор в Иоахимстале вплоть до современной эпохи. Именно из урановой смолки из Иоахимсталя Мария и Пьер Кюри с большим трудом выделили образцы новых элементов, которые они назвали радием и полонием. После этого радиоактивность руды из Рудных гор придавала дополнительный блеск многочисленным водным курортам этих мест, в число которых входят Карлсбад и Мариенбад[516]: теперь они могли заявлять, что их воды не только происходят из естественных горячих источников, но и содержат бодрящую радиоактивность.
Летом 1921 года в Иоахимсталь приехал в качестве геологоразведчика-любителя богатый семнадцатилетний американский студент, недавно закончивший в Нью-Йорке Школу этической культуры. Юный Роберт Оппенгеймер начал коллекционировать минералы еще до Первой мировой войны, когда его дед, живший в немецком городе Ханау, подарил приехавшему в гости мальчику скромную коллекцию для начинающих. По его словам, именно тогда у него возник интерес к науке. «Сначала, конечно, это был интерес коллекционера, – впоследствии говорил он в одном из своих интервью, – но постепенно начал появляться и интерес ученого – не к историческим аспектам того, как появились камни и минералы, а настоящее увлечение кристаллами, их строением, двойным лучепреломлением, тем, что можно увидеть в поляризованном свете, то есть всеми обычными вещами». Дед был «бизнесменом-неудачником, который родился, по сути дела, в хибаре в почти что средневековой немецкой деревне, но обладал любовью к учению»[517]. Отец Оппенгеймера уехал из Ханау в Америку в 1898 году, когда ему было семнадцать лет, со временем стал владельцем компании, занимавшейся импортом текстиля, и преуспел, импортируя подкладочную ткань для мужских костюмов в то время, когда готовое платье стало заменять в Соединенных Штатах сшитое на заказ. Оппенгеймеры – Юлиус, его красивая и хрупкая жена Элла из Балтимора, получившая художественное образование, Роберт, родившийся 22 апреля 1904 года, и его брат и верный помощник Фрэнк, родившийся на восемь лет позже, – могли позволить себе проводить лето в Европе и часто пользовались этой возможностью.
Юлиус и Элла Оппенгеймер, нерелигиозные евреи, были людьми, исполненными чувства собственного достоинства и довольно осторожными. У них была просторная квартира с видом на Гудзон на Риверсайд-драйв, около 88-й улицы, и летняя дача в районе Бей-Шор на Лонг-Айленде. Они носили безупречную, сшитую по мерке одежду, занимались самосовершенствованием и ограждали себя и своих детей от реальных и воображаемых опасностей. О бывшем у Эллы Оппенгеймер врожденном увечье правой руки, которую она всегда скрывала в перчатке-протезе, никогда не говорили вслух – даже мальчики со своими друзьями, когда родители их не слышали. Элла была любящей матерью, но строго соблюдала формальности: только ее муж осмеливался повышать голос в ее присутствии. По словам одного из друзей Роберта[518], Юлиус Оппенгеймер был человеком разговорчивым и великим спорщиком, другой говорит, что он «был отчаянно любезным, очень старался понравиться»[519], но был в душе человеком добрым. Он состоял в основанном просветителем Феликсом Адлером из Колумбийского университета Обществе этической культуры, филиалом которого была школа Роберта. Это общество декларировало, что «человек должен принимать на себя ответственность за направление своей жизни и судьбы»: именно человек, а не Бог. Роберт Оппенгеймер вспоминал, что был «мальчиком приторным, отвратительно благовоспитанным». Детство, говорил он, «не подготовило меня к тому факту, что мир полон вещей жестоких и неприятных. Оно не научило меня быть нормальным, здоровым мерзавцем»[520]. Он был хрупким ребенком и часто болел. Поэтому – или потому, что средний сын в семье умер вскоре после рождения, – мать не хотела отпускать его бегать по улицам. Он сидел дома, коллекционировал минералы и в десятилетнем возрасте уже писал стихи, хотя все еще продолжал играть в кубики.
В то время он уже готовился к занятиям наукой. Одной из его игрушек был профессиональный микроскоп. В третьем классе он ставил опыты, в четвертом начал вести лабораторные журналы, а в пятом приступил к изучению физики, хотя в течение многих лет его больше интересовала химия. Куратор отдела кристаллов Американского музея естественной истории согласился его учить. В двенадцать лет он прочел лекцию членам Нью-йоркского минералогического клуба, удивление которых быстро сменилось восторгом: из предшествовавшей переписки с ним у членов клуба создалось впечатление, что он должен быть взрослым.
Когда ему было четырнадцать, родители отправили его в лагерь – чтобы он побыл наконец на свежем воздухе и, возможно, завел себе друзей. Он бродил по тропам лагеря «Кёниг» в поисках камней, и единственным другом, с которым он общался, была книга Джордж Элиот; его вдохновляла идея Элиот о том, что делами людей управляют причины и следствия. Он был стеснительным, нескладным, невыносимо претенциозным и высокомерным и не умел давать отпор. Родителям он писал, что рад был попасть в лагерь, потому что там он учился жизни. Оппенгеймеры срочно приехали за ним. Когда директор лагеря стал наказывать за непристойные шутки, другие мальчики, прозвавшие Оппенгеймера Милашкой, выяснили, что виноват в этом он. Они затащили его в лагерный ледник, раздели догола, побили – «пытали»[521], как говорит его друг, – раскрасили его гениталии и ягодицы зеленой краской и оставили его, голого, там на ночь. «Он все еще был маленьким мальчиком, – вспоминает его пятнадцатилетнего другая подруга детства, которая нравилась ему, сама того не зная, – очень хрупким, очень розовощеким, очень стеснительным и, конечно, очень талантливым. Очень скоро все признавали, что он отличался от остальных и значительно их превосходил. В том, что касается учебы, ему удавалось все… Кроме того, физически он был не то чтобы неуклюжим – скорее неразвитым, не в поведении, но в том, как он двигался, ходил, сидел. В нем было нечто удивительно детское»[522].
В феврале 1921 года он закончил Школу этической культуры лучшим из своего потока: ему было поручено произнести прощальную речь от имени учеников. В апреле он заболел аппендицитом и перенес операцию. Оправившись после нее, он поехал с семьей в Европу – именно тогда и произошла вылазка в Иоахимсталь. Где-то по пути он «слег с серьезным, почти смертельным случаем окопной дизентерии». В сентябре он должен был поступать в Гарвард, но «в это время лежал больной – в Европе, собственно говоря»[523]. Дизентерия сменилась сильным колитом, который не позволял ему подняться с постели в течение нескольких месяцев. Зиму он провел в квартире родителей в Нью-Йорке.
Чтобы закрепить выздоровление Роберта и несколько закалить его, отец договорился с его любимым учителем английского из Школы этической культуры, мягким и участливым выпускником Гарварда Гербертом Смитом, что на лето тот поедет с Робертом на Запад. Роберту было восемнадцать, его лицо по-прежнему было мальчишеским, но в ярких серо-голубых глазах светилась уверенность. Он был чуть выше 180 сантиметров ростом и отличался чрезвычайно худым сложением; никогда в жизни он не весил больше 57 килограммов, а в периоды болезни или сильных волнений мог доходить до 52. Смит отвез его на Лос-Пифиос, ранчо для туристов, расположенное в горах Сангре-де-Кристо к северо-востоку от Санта-Фе, и там Роберт ел, колол дрова и учился ездить верхом и справляться с дождем и непогодой.
Главным событием лета был конный поход. Маршрут начинался в деревне Фрихолес, расположенной в отвесном, изрезанном пещерными поселениями каньоне Фрихолес, который находится на противоположном от хребта Сангре-де-Кристо берегу Рио-Гранде, и поднимался по ущельям и террасам плато Пахарито до альпийских лугов Валье-Гранде огромной кальдеры Хемес на высоте трех тысяч метров. Кальдера Хемес – это чаша вулканического кратера около двадцати километров в поперечнике, внутри которой, на тысячу метров ниже края, расположены травянистые луга. Окаменевшие выходы лавы делят эту чашу на несколько высокогорных долин. Этот кратер, возникший миллион лет назад, – один из крупнейших в мире; его можно увидеть даже с Луны. В шести километрах к северу от каньона Фрихолес проходит еще один, параллельный ему каньон, имя которого происходит от испанского названия тополей, покрывающих его склоны: Лос-Аламос. Юный Роберт Оппенгеймер впервые попал в эти места летом 1922 года.
Как это бывало с полуинвалидами, приезжавшими с Востока в дни освоения Дикого Запада, встреча Оппенгеймера с дикой природой, освободившая его от чрезмерных ограничений цивилизации, стала поворотным моментом его морального излечения. Из болезненного и, возможно, склонного к ипохондрии мальчика он превратился за это энергичное лето в молодого человека, уверенного в своих силах. Он приехал в Гарвард загорелым и подтянутым, в хорошей – по меньшей мере физической – форме.
В Гарварде он воображал себя готом, вторгшимся в Рим[524]. «Он занимался интеллектуальным грабежом»[525], – говорит один из его однокурсников. Он регулярно записывался на шесть курсов, по которым нужно было сдавать экзамены, – хотя требовалось всего пять – и еще на четыре факультативных[526]. И курсы эти не были легкими. Его основной специальностью была химия, но в течение года он мог пройти четыре семестра химии, два семестра французской литературы, два математики, один философии и три физики – и это только те предметы, которые он сдавал. Кроме того, он еще читал самостоятельно, изучал иностранные языки, иногда ходил по выходным на девятиметровой яхте, которую подарил ему отец, или отправлялся с друзьями в двухдневные походы, писал рассказы и стихи, когда чувствовал вдохновение, но в целом избегал внеклассных занятий и клубов. Не увлекался он и личной жизнью; он все еще оставался настолько незрелым, что лишь восхищался женщинами старшего возраста с почтительного расстояния. Позднее он считал, что «хотя я любил работать, я очень разбрасывался и справлялся лишь чудом»[527]. Результатом этого чуда была зачетная книжка со множеством отличных оценок, лишь изредка перемежавшихся хорошими; через три года он окончил курс, получив диплом summa cum laude.
В этом неустанном трудолюбии, хотя и прикрытом традиционной для Гарварда вялостью, было нечто лихорадочное. Оппенгеймер еще не нашел своего места – возможно, эти поиски даются американцам труднее, чем европейцам вроде Сциларда или Теллера, которые, как кажется, с самой ранней молодости были цельными личностями? – и в Гарварде ему тоже не удалось его найти. Гарвард, говорил он, был «самым увлекательным периодом всей моей жизни. Там я действительно мог учиться. Мне там очень нравилось. Я почти ожил»[528]. За интеллектуальным восторгом скрывалась боль.
Он всегда старался – иногда весьма изобретательно – скрывать свои чувства, но в более поздний период своей жизни откровенно рассказывал о себе группе деликатных друзей, и эти откровения, несомненно, касаются того, что происходило с ним начиная со студенческих лет. «До сих пор, – говорил он этой группе в 1963 году, – и еще в большей степени в годы моего почти бесконечно растянувшегося взросления почти все, что я делал или отказывался делать, будь то статья по физике или лекция или то, как я читал книги, как я разговаривал с друзьями, как я любил, – почти все вызывало во мне очень сильное чувство отторжения, чувство чего-то неправильного»[529]. Его друзья по Гарварду почти не видели проявлений этой стороны его личности – в конце концов, атмосфера американского университета не располагает к откровенности, – но он намекал на них в своих письмах к Герберту Смиту:
Вы любезно спрашиваете, чем я занимаюсь. Помимо занятий, описанных в отвратительной записке от прошлой недели, я тружусь и пишу бесконечные сочинения, заметки, стихи, рассказы и прочую чушь; я хожу читать в математическую библиотеку и в философскую библиотеку и делю свое время между герром [Бертраном] Расселом и созерцанием прекрасной и очаровательной дамы, пишущей работу о Спинозе – восхитительно ироничная ситуация, не правда ли? Я произвожу нечто зловонное в трех разных лабораториях, слушаю сплетни Алларда о Расине, пою чаем несколько заблудших душ и веду с ними ученые разговоры, уезжаю на выходные, чтобы перегонять низкопробную энергию в смех и усталость, читаю по-гречески, совершаю оплошности, ищу в своем столе письма и мечтаю о смерти. Вуаля[530].
Преувеличенное стремление к смерти отчасти можно приписать стремлению Оппенгеймера покрасоваться перед своим наставником, но часть его вызвана подлинным страданием – которое, учитывая его вероятную тяжесть, он переносил весьма достойно и отважно.
Оба ближайших друга Оппенгеймера студенческих лет, Фрэнсис Фергюссон и Пол Хорган, соглашаются, что он был склонен к причудливым преувеличениям, часто видел в разных вещах больше, чем в них на самом деле содержалось[531]. Поскольку эта тенденция в конце концов испортила всю его жизнь, ее стоит рассмотреть повнимательнее. Оппенгеймер уже не был перепуганным мальчиком, но все еще оставался встревоженным и неуверенным молодым человеком. Он просеивал информацию, знания, эпохи, системы, языки, сокровенные и прикладные практики, примеряя их к своему духу. Преувеличение ясно показывало, что он понимает, как плохо они ему подходят (и в то же время, к его же собственному вреду, было источником его стеснительности). Возможно, в этом и заключалась социальная функция этого преувеличения. Глубже было еще хуже. Глубже лежала ненависть к самому себе, «очень сильное чувство отторжения, чувство чего-то неправильного». У него еще не было ничего своего, ничего оригинального, и все то, что он приобрел в результате обучения, казалось ему украденным, а сам он – вором, готом, разграбляющим Рим. Он был в восторге от награбленной добычи, но презирал грабителя. Он проводил такое же четкое различие между коллекционером и творцом, как Гарри Мозли в своем завещании. В то же время, на этом этапе своей жизни он, по-видимому, имел в своем распоряжении только умственные средства управления ею, и отказаться от них он не мог.
Он пытался писать стихи и рассказы. Его студенческие письма – это скорее письма литератора, чем ученого. Он и в дальнейшем сохранил свои литературные навыки, и они верно ему служили, но приобрел он их прежде всего в надежде, что они смогут открыть ему путь к самопознанию. В то же время он надеялся, что литературные занятия помогут ему стать более человечным. Он прочитал только что вышедшую «Бесплодную землю»[532], узнал в ней свою собственную «мировую скорбь» и стал искать сурового утешения в индуистской философии. Он превзошел трехтомные «Принципы математики»[533] Бертрана Рассела и Альфреда Норта Уайтхеда, обсуждая прочитанное с самим недавно приехавшим Уайтхедом – он был единственным студентом, не испугавшимся его семинара, – и гордился этим достижением до конца жизни. Важнее всего было то, что он открыл для себя физику, лежащую в основе химии, так же как раньше он обнаружил кристаллы, четко проявляющиеся в сложившейся веками путанице камней: «Мне открылось, что то, что мне нравится в химии, очень близко к физике; разумеется, когда изучаешь физическую химию и начинаешь встречать идеи, касающиеся термодинамической и статистической механики, о них хочется узнать побольше… Мне это казалось очень странной картиной – я никогда не изучал элементарного курса физики»[534].
Он работал в лаборатории Перси Бриджмена, ставшего много лет спустя нобелевским лауреатом; «у этого человека, – говорит Оппенгеймер, – хотелось учиться»[535]. Он многое узнал о физике, но знания эти были беспорядочными. Он получил диплом химика и безрассудно предположил, что Резерфорд с радостью примет его в Кембридж, куда тот вернулся из Манчестера в 1919 году, чтобы сменить стареющего Дж. Дж. Томсона на посту директора Кавендишской лаборатории. «Однако Резерфорду я был не нужен, – впоследствии рассказывал Оппенгеймер историку. – Он был невысокого мнения о Бриджмене, а моя квалификация выглядела странно и не внушала особого доверия – особенно человеку вроде Резерфорда с его здравым смыслом… Не знаю даже, почему я уехал из Гарварда, но у меня было ощущение, что [Кембридж] ближе к центру событий»[536]. Рекомендательное письмо Бриджмена, хоть и благожелательно составленное, тоже не помогло убедить Резерфорда. Гарвардский физик писал, что Оппенгеймер обладает «совершенно чудесной способностью к освоению нового» и «часто проявлял в своих решениях высокую степень оригинальности подходов и высокие математические способности». Однако «его слабая сторона связана с экспериментальной работой. Он обладает скорее аналитическим, нежели физическим, складом ума, и, работая в лаборатории, не чувствует себя в своей тарелке». Бриджмен честно написал, что считает Опенгеймера «своего рода лотереей». С другой стороны, «если у него будет получаться хоть что-нибудь, я полагаю, что он добьется огромных успехов»[537]. Проведя еще одно целебное лето в Нью-Мексико с Полом Хорганом и старыми знакомыми по лету 1921 года, Оппенгеймер отправился в Кембридж, чтобы каким бы то ни было способом взять штурмом центр событий.



