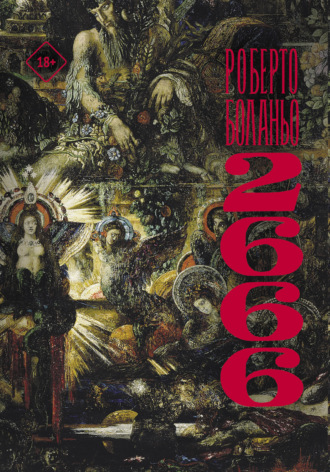
Роберто Боланьо
2666
В ожидании эксперта по Арчимбольди они решили никуда не уходить из гостиницы – это решение, похоже, разделяла с ними группа американцев: все трое посматривали в огромные окна гостиничного бара и видели, что туристы неуклонно накачиваются алкоголем на террасе, украшенной самыми разными кактусами, некоторые из них достигали трех метров в высоту. Время от времени какой-нибудь турист вставал из-за стола, подходил к балюстраде, заросшей полусухими растениями, и смотрел в сторону проспекта. Потом, изрядно покачиваясь, возвращался к своим приятелям и приятельницам, и все тут же начинали хохотать, словно бы услышали какой-то сальный, но все равно смешной анекдот. Молодежи среди них не наблюдалось, впрочем, стариков тоже – группа состояла исключительно из людей за сорок и за пятьдесят, и все они, похоже, сегодня вечером должны были лететь домой, в Соединенные Штаты. Понемногу терраса гостиницы стала заполняться, и вот уже не осталось ни одного пустого столика. Ночь постепенно наползала с востока, и в колонках заиграла музыка – первые ноты песни Вилли Нельсона.
Один из набравшихся узнал ее и торжествующе заорал. А потом встал. Эспиноса, Пеллетье и Нортон подумали, что американец сейчас пустится в пляс, однако он подошел к ограде террасы, вытянул шею, посмотрел вверх, посмотрел вниз, а потом вдруг успокоился и сел рядом с женой и своими друзьями. «Тронутые какие-то типы, – пробормотали Эспиноса и Пеллетье. А Нортон, наоборот, подумала: тут явно происходит что-то не то, причем и на проспекте, и на террасе, и в номерах гостиницы, и даже во всем Мехико с этими нереальными таксистами и портье, – а может и нет, но человеку рациональному не за что здесь зацепиться, и все это странно, странно настолько, что она не может понять, что происходит, и эти странности – они в Европе тоже присутствовали, начиная с аэропорта в Париже, где они встретились втроем, а может, и еще раньше, когда Морини отказался ехать с ними или вот когда они познакомились с несколько противным молодым человеком в Тулузе, ну или даже с Дитером Хеллфилдом и его неожиданными новостями об Арчимбольди. Да, с Арчимбольди тоже все странно: и с тем, что он пишет, и с ней тоже – тут присутствует что-то неопознанное, как будто внезапные порывы ветра что-то до нее доносят, – и с тем, как она читает, описывает и интерпретирует творчество Арчимбольди.
– Ты попросил, чтобы они тебе унитаз починили? – спросил Эспиноса.
– Да, сказал, пусть что-нибудь придумают. Правда, администратор предложил мне поменять номер. Хотели поселить меня в третий. А я им сказал, мне и тут хорошо, и я хочу остаться в своей комнате, а они пусть чинят унитаз после того, как я съеду. Хочу быть поближе к вам, – улыбаясь, заключил Пеллетье.
Об Амальфитано исследователи составили не слишком хорошее мнение – в полном соответствии с впечатлением от города: хотя чего тут ждать от ничем не примечательного места, вот только город этот, расползшийся по сторонам посреди пустыни, можно было рассмотреть как нечто типичное, полное местного колорита, как дополнительное доказательство того, как богата человеческая натура, даже слишком богата; между тем Амальфитано в первую очередь напоминал уцелевшего в кораблекрушении человека, кое-как одетого, несуществующего преподавателя несуществующего университета, рядового солдата после проигранной битвы с варварами, или, если выражаться не столь патетически, того, кем он действительно являлся – страдающим меланхолией преподавателем философии, что отправился попастись на собственном поле, оседлав капризного и инфантильного зверя, который в один присест заглотил бы Хайдеггера целиком, если бы Хайдеггеру не повезло родиться на американо-мексиканской границе. Эспиноса и Пеллетье видели в нем неудачника, неудачника еще и потому, что он в свое время жил и преподавал в Европе, а теперь вот хотел произвести впечатление человека толстокожего, но его тут же выдавала трогательная, присущая ему мягкость. А вот Нортон, наоборот, увидела в нем человека грустного, стремительно угасающего, которому совершенно не сдались прогулки по этому городу.
Той ночью все трое отправились спать довольно рано. Пеллетье снился разбитый унитаз. Приглушенный шум разбудил его, и он, как был голым, встал и заметил, что из-под двери ванной льется свет. Кто-то его там включил. Поначалу он думал, что это Нортон или даже Эспиноса, но, подойдя, понял – не они. Пеллетье открыл дверь ванной – никого. На полу – большие пятна крови. К ванне и шторке присохла какая-то масса, поначалу показавшаяся ему глиной или рвотой, – но нет, это было дерьмо. Его тошнило от вида дерьма, настолько, что кровь на полу уже не казалась страшной. В этой точке сюжета он и проснулся.
Эспиносе снилась картина с изображением пустыни. Во сне он приподнимался и садился в кровати и оттуда, словно в телевизоре полтора на полтора метра, рассматривал застывшую и полную света пустыню, желтое сияние солнца, которое слепило глаза, фигуры всадников, чьи движения – что у людей, что у лошадей – едва угадывались, словно бы они находились в другом, не нашем мире, где скорость не такая – скорость, которая на вкус Эспиносы была медлительностью, хотя он понимал, что именно благодаря этой медлительности стоящий перед картиной человек не сходил с ума. А еще до него доносились голоса. Эспиноса их слушал. Но голоса трудно было расслышать, и поначалу это были отдельные звуки, короткие стоны, метеоритами падающие в пустыню и в защищенное пространство гостиничного номера и сна. Отдельные слова он, кстати, разобрал. Быстрота, спешка, скорость, легкость. Слова продирались сквозь разреженный воздух картины, словно вирусы через мертвую плоть. «Наша культура, – сказал кто-то. – Наша свобода». Слово это – «свобода» – прозвучало как щелчок хлыста в пустой аудитории. Проснулся Эспиноса весь в поту.
Во сне Нортон видела себя отраженной в обоих зеркалах. Одно перед ней, второе за спиной. Стояла она, немного наклонившись в сторону. Хотела идти вперед? Отступить? Трудно было понять. В комнате задержался скудный мягкий свет – прямо как вечером в Англии. Ни одна лампа не горела. В зеркалах Нортон отражалась принаряженной: сшитый на заказ серый костюм и, надо же (она очень редко надевала эту вещь), серая шляпка, какие можно было увидеть в модных журналах пятидесятых годов. Возможно, она также надела туфли на каблуке, черные, хотя в зеркале они не отражались. Неподвижность ее тела наводила на мысли о бесполезности и беззащитности, а еще Нортон спрашивала себя, чего, собственно, ждет и почему не уходит, какого сообщения ей не хватает, чтобы выйти из поля зрения обоих зеркал, открыть дверь и исчезнуть. Может, она услышала какой-то шум в коридоре? А может, кто-то пытался открыть ее дверь? Какой-нибудь заблудившийся гость…
Служащий, кто-то, кого прислал администратор, уборщица? Тем не менее вокруг стояла полная тишина, и чувствовалось в ней что-то от спокойствия, от долгого молчания, какое предшествует наступлению ночи. Вдруг Нортон поняла, что женщина в зеркале – это не она. Ею овладел страх, но и любопытство тоже – и она застыла, наблюдая с крайней внимательностью за фигурой в зеркале. «Объективно говоря, – сказала она себе, – та женщина – она же один в один со мной, и с чего бы это мне предполагать, что это не так. Это я». А потом она присмотрелась к шее: вот вена, набухшая, словно вот-вот лопнет, идет от уха и теряется за лопаткой. Странная такая вена, выглядит как нарисованная. И тут Нортон подумала: «Надо уходить отсюда». И обвела взглядом комнату, пытаясь отыскать, где стояла другая женщина, но тщетно. Чтобы отразиться в обоих зеркалах, та должна была стоять между входным коридорчиком и собственно комнатой. Но там ее не было. А вот в зеркалах она изменилась. У женщины совсем тихонько, но шевелилась шея. «А ведь я тоже отражаюсь в зеркалах, – сказала себе Нортон. – И если она продолжит движение, в конце концов мы окажемся друг против друга. Увидим наши лица». Нортон сжала руки в кулаки – надо подождать. Женщина в зеркале тоже сжала кулаки, накрепко, словно бы сверхчеловеческим усилием. Свет в комнате поменял цвет и окрасился пепельным. Нортон показалось, что там, на улице, где-то вспыхнул пожар. Ее бросило в пот. Она опустила голову и закрыла глаза. Потом снова посмотрелась в зеркала: та вспухшая вена на шее увеличилась и теперь уже угадывался профиль женщины. «Нужно бежать отсюда, – подумала Нортон. И еще: – А где же Жан-Клод и Мануэль?» Потом подумала о Морини, но увидела лишь пустую инвалидную коляску, а за ней – огромный непролазный зеленый в черноту лес, в котором через некоторое время узнала Гайд-парк. Когда она открыла глаза, взгляд женщины в зеркале и ее взгляд пересеклись в какой-то неопределенной точке комнаты. У другой были такие же, как у Нортон, глаза. Скулы, губы, лоб, нос. Нортон расплакалась или ей показалось, что расплакалась. От горя или от страха. Она абсолютно такая же, как я, только мертвая. Женщина улыбнулась уголком рта, а потом, практически без перехода, лицо ее исказил страх. Вздрогнув, Нортон обернулась, но за спиной никого и ничего не было – только стена номера. Женщина снова улыбнулась ей. В этот раз она выглядела не испуганной, а безмерно печальной. А потом снова улыбнулась, и в лице ее проглянула горькая тоска, а потом с него и вовсе изгладилось всякое выражение, а потом оно стало беспокойным, а затем смиренным, а потом на нем отразились по очереди все чувства человека безумного, и она так продолжала улыбаться, в то время как Нортон, к которой вернулось хладнокровие, вытащила блокнотик и быстро записывала все, что происходило, словно бы в этих заметках была зашифрована ее судьба и доля счастья, отпущенного на земле, и так она писала, пока не проснулась.
Когда Амальфитано сказал им, что в 1974 году перевел для одного аргентинского издательства «Неограниченную розу», литературоведы переменили к нему свое отношение. Им захотелось узнать, где он учил немецкий, как познакомился с творчеством Арчимбольди, какие еще книги его авторства читал и какое составил о них мнение. Амальфитано ответил, что немецкий выучил в Чили, в Колехьо-Алеман, куда ходил сызмальства; а в пятнадцать лет перешел, по причинам, не имеющим отношения к делу, в обычную школу. Первый раз познакомился с книгами Арчимбольди где-то лет в двадцать и тогда прочитал на немецком то, что выдавали на дом в библиотеке Сантьяго: «Неограниченную розу», «Кожаную маску» и «Реки Европы». В библиотеке нашел только три эти книги, а еще Bifurcaria bifurcata, но ее начал, но не смог прочитать. Фонды этой обычной библиотеки обогатились частной коллекцией одного немецкого сеньора, который собрал целую библиотеку на немецком и незадолго до смерти передал ее во владение товариществу жителей квартала Ньюньоа в Сантьяго.
Естественно, Амальфитано составил себе хорошее мнение об Арчимбольди, впрочем, это его мнение и близко не походило на обожание, с каким литературоведы относились к немецким авторам. Амальфитано, к примеру, считал одинаково талантливыми Гюнтера Грасса и Арно Шмидта. Когда литературоведы поинтересовались, кто первым, он или издатели, захотел перевести «Неограниченную розу», Амальфитано сказал, что, кажется, это издатели из того аргентинского издательства вышли на него. В то время он переводил все что придется, а еще и подрабатывал корректором оттисков. Издание, насколько он знал, было пиратское, хотя решил он так гораздо позже и не мог подтвердить свое предположение.
Когда литературоведы, уже значительно смягчившись в отношении своего гида, спросили, что он делал в 1974 году в Аргентине, Амальфитано посмотрел на них, посмотрел в свою маргариту и сообщил тоном, в котором читалось «сколько можно повторять одно и то же»: в 1974 году он уехал в Аргентину, так как был вынужден покинуть родную землю из-за государственного переворота в Чили. Потом попросил прощения за излишне пафосную фразу. «Все приклеивается», – сказал он, но литературоведы не придали ровно никакого значения этой последней фразе.
– Эмиграция – это, наверно, очень тяжело, – понимающе кивнув, сказала Нортон.
– На самом деле, – отозвался Амальфитано, – сейчас я на это смотрю как на вполне естественное явление: эмиграция на свой лад обнуляет судьбу. Или то, что обычно называют судьбой.
– Но ведь изгнание, – вмешался Пеллетье, – это же неустроенность, разрыв привычных связей и прыжок в неизвестность, и все это переживаешь не по разу. Как тут совершить что-нибудь важное? Трудно ведь…
– Вот в этом и заключается, – ответил Амальфитано, – обнуление судьбы. Еще раз прошу прощения.
Следующим утром они обнаружили Амальфитано в холле гостиницы. Если бы не чилийский преподаватель, они бы точно поделились подробностями своих ночных кошмаров, и кто знает, что еще там могло выплыть на поверхность. Но Амальфитано приехал, и все четверо пошли завтракать и планировать день. Они сидели и рассматривали одна за другой все возможности. Во-первых, было ясно: Арчимбольди не приходил в университет. По крайней мере, он точно не посетил филологический факультет. В Санта-Тереса не было немецкого консульства, так что любые движения в эту сторону можно с чистой совестью прекратить. Они спросили у Амальфитано, сколько в городе гостиниц. Тот ответил, что не знает, но может это уточнить сразу после завтрака.
– Каким образом? – удивился Эспиноса.
– Спрошу у администратора, – ответил Амальфитано. – У них должен быть полный список гостиниц и мотелей в городе и окрестностях.
– Точно, – кивнули Пеллетье и Нортон.
За завтраком они вернулись к главному вопросу: зачем, почему Арчимбольди приехал сюда? Тут Амальфитано наконец узнал, что никто и никогда не встречался с Арчимбольди лично. Это ему показалось – он и сам не понимал почему – смешным, и он спросил: зачем искать Арчимбольди, если совершенно ясно – тот не хочет, чтобы с ним встречались. «Ну мы же творчество его изучаем», – ответили литературоведы. Ведь он умирает, и несправедливо, чтобы лучший немецкий писатель XX века отошел в мир иной, так и не поговорив с теми, кто лучше всех понимал его творчество. «Потому что мы хотим уговорить его вернуться в Европу», – сказали они.
– Я думал, – ответил Амальфитано, – что лучший немецкий писатель этого века – Кафка.
Критики тут же уточнили: хорошо, пусть будет лучший немецкий писатель послевоенного периода или лучший немецкий писатель второй половины XX века.
– А вы читали Петера Хандке? – поинтересовался Амальфитано. – А Томаса Бернхарда?
– Ага-а-а! – вскричали критики.
И до самого конца завтрака беспощадно атаковали Амальфитано, пока тот не превратился в кого-то вроде Перикильо Сарньенто [7], паршивого попугая, вспоротого от горла до паха и без единого перышка.
У стойки администратора им выдали список городских гостиниц. Амальфитано предложил обзванивать их из университета, раз уж у них сложились отличные отношения с Герра, точнее, вот так: Герра испытывал к литературоведам глубокое, прямо до дрожи, благоговение, впрочем, несвободное от тщеславия и кокетства; правда, тут нужно было бы добавить: за кокетством и благоговением скрывалась хитрость – благорасположение Герры возникло не на пустом месте – такова была воля ректора Негрете, – и Амальфитано прекрасно понимал, что к чему: Герра хотел выжать все, что можно, из приезда сиятельных ученых из Европы, и его можно было понять: будущее сокрыто, и никто не знает наверняка, когда жизненный путь извернется и в каких дотоле незнакомых местах окажется идущий по нему. Но литературоведы отказались от приглашения позвонить из университета и воспользовались телефонами в номерах, записав расходы на свой счет в гостинице.
Чтобы выиграть время, Эспиноса и Нортон звонили из номера Эспиносы, а Амальфитано и Пеллетье – из номера француза. Спустя час результаты обзвона оказались более чем плачевны. Нигде, ни в какой гостинице не останавливался никакой Ханс Райтер. По прошествии двух часов они решили временно прекратить расспросы и спуститься в бар чего-нибудь выпить. Осталось прозвонить лишь несколько гостиниц в городе и некоторые мотели в пригородах. Просмотрев список внимательно, Амальфитано сказал им, что большая часть мотелей в нем – замаскированные бордели, и сложно вообразить, что немецкий турист отправится в такое место.
– Мы ищем не немецкого туриста, а Арчимбольди, – ответил Эспиноса.
– Согласен, – кивнул Амальфитано и действительно вообразил Арчимбольди в мотеле.
– Вопрос, – заметила Нортон, – в том, зачем в этот город приехал Арчимбольди.
Потом они заспорили и в конце концов пришли к выводу, и Амальфитано тоже с этим согласился, что Арчимбольди мог приехать в Санта-Тереса повидаться с другом или собрать материал для будущего романа. Или для того и другого вместе. Пеллетье склонялся к тому, что Арчимбольди все-таки приехал к другу.
– К старому другу, – предположил он. – Тоже немцу.
– Немцу, которого он давно не видел. С конца Второй мировой войны, – сказал Эспиноса.
– Армейский друг, Арчимбольди дорожил им, а тот исчез после войны или даже до ее конца, – заметила Нортон.
– И да, этот друг в курсе, что Арчимбольди – это Ханс Райтер, – сказал Эспиноса.
– Необязательно, может, этот друг понятия не имеет, что Арчимбольди и Ханс Райтер – один и тот же человек, он знает лишь Райтера и знает, как с ним связаться, – вот и все, – возразила Нортон.
– Но это не так уж и легко, – вздохнул Пеллетье.
– Нет, не легко, потому что подразумевается, что Райтер, с тех пор как виделся последний раз с другом, скажем в 1945 году, не поменял адреса, – заметил Амальфитано.
– Статистика говорит нам, что все немцы, родившиеся в 1920 году, меняли место жительства хотя бы раз в жизни, – сказал Пеллетье.
– Так что, может, этот друг не сам с ним связался, а наоборот – Арчимбольди связался со своим другом, – предположил Эспиноса.
– Другом или подругой, – сказала Нортон.
– Мне кажется, что это скорее друг, чем подруга, – сказал Пеллетье.
– А может, ни друг, ни подруга тут ни при чем, а мы тут на ощупь бредем и ничего толком не знаем, – пожал плечами Эспиноса.
– Но тогда… зачем-то ведь Арчимбольди сюда приехал? – задалась вопросом Нортон.
– Это точно друг, причем близкий, иначе Арчимбольди не отправился бы в такое долгое путешествие! – сказал Пеллетье.
– А если мы ошиблись? А если Альмендро наврал? Или что-то перепутал? Или ему наврали? – спросила Нортон.
– Какой Альмендро? Эктор Энрике Альмендро? – заинтересовался Амальфитано.
– Да, он, вы знакомы? – спросил Эспиноса.
– Лично нет, но я бы не слишком доверял его свидетельству, – сказал Амальфитано.
– Почему? – удивилась Нортон.
– Ну… это такой типичный мексиканский интеллектуал. Для него главное – выжить, – ответил Амальфитано.
– Разве не все латиноамериканские интеллектуалы озабочены тем же самым? – возразил Пеллетье.
– Я бы это сформулировал по-другому. Есть, к примеру, люди, которым интереснее писать…
– А можно поподробнее? – спросил Эспиноса.
– Да не знаю я, как это лучше объяснить, – отмахнулся Амальфитано. – Отношения наших интеллектуалов с властью – долгая история. Нет, конечно, не все они такие. Есть заметные исключения. Также не могу сказать, что те, кто сдаются, делают это с дурными намерениями. Даже более того: не думаю, что они сдаются, в смысле совсем сдаются, в полном смысле этого слова. Это, скажем, у них работа такая. Но работают-то они на государство. В Европе интеллектуалы трудятся в издательствах или газетах, или их содержат жены, или у них родители хорошо устроены в жизни и выплачивают им ежемесячное содержание, или они рабочие или преступники и честно живут на доход от своего труда. А вот в Мексике, и думаю, что это релевантно для всей Латинской Америки, кроме Аргентины, интеллектуалы работают на государство. Так было при Революционной институциональной партии у власти, так остается и с Партией национального действия. Интеллектуал, со своей стороны, может быть пламенным защитником государства, а может критиковать его. Государству все равно. Государство его питает и молча наблюдает за ним. Зачем же государству эта огромная когорта большей частью бесполезных писателей? А вот зачем. С их помощью оно изгоняет демонов, меняет или, по крайней мере, пытается повлиять на время. Забрасывает слой за слоем извести в яму, про которую никто не знает, есть она или нет. Естественно, это не всегда так. Интеллектуал может работать в университете или, что гораздо лучше, отправиться работать в американский университет (чьи литературные кафедры столь же плохи, как мексиканские), но это не гарантирует, что когда-нибудь ночью перед рассветом ему не позвонят и от имени государства не предложат работу получше, поденежнее, – нечто, что интеллектуал полагает причитающимся ему по праву, ибо интеллектуалы всегда полагают, что заслуживают большего. Таким образом государство, скажем так, купирует мексиканским писателям ушки. Они сразу сходят с ума. Некоторые бросаются переводить японскую поэзию, не зная японского, а другие, уже не стесняясь, пьют горькую. Альмендро, чтобы далеко не ходить, делает и то и другое. Литература в Мексике – это детский сад, ясли, вечно дошкольное учреждение – не знаю, поймете ли вы меня. Климат тут чудесный, дни солнечные, выходишь из дому и садишься в парке, открываешь книжку Валери (наверное, это самый популярный у мексиканских писателей автор), а потом идешь к друзьям поболтать. А вот тень твоя уже за тобой не идет. В какой-то момент она просто тихо покидает тебя. Ты делаешь вид, что ничего не заметил, но ты же заметил, правда? – твоя сраная тень уже не идет за тобой, но хорошо, это же можно объяснить самыми разными причинами: положением солнца на небосводе, потемнением, что солнечный удар вызывает в непокрытой голове, количеством потребленного алкоголя, движением подземных танков атакующей боли, страхом того, что может произойти, первыми признаками болезни, раненым самолюбием, желанием быть пунктуальным хоть раз в жизни. Но очевидно одно: тень исчезает и ты – моментально! – об этом забываешь. А на самом деле ты на сцене у самой рампы, а в глубине – зев огромной трубы или даже шахты или входа в шахту громадных размеров. Или, скажем, пещеры. Но можем и сказать, что шахты. Из зева шахты доносятся непонятные шумы. Звукоподражания, фонемы яростные, или соблазнительные, или соблазнительно-яростные, или, возможно, просто бормотания и шепотки и стоны. Вот только никто не видит, в полном смысле слова «видеть», вход в шахту. Осветительное оборудование, игра света и теней, манипуляции со временем скрывают от зрителя очертания этого громадного зева. На самом деле только зрители, которые сидят ближе всего к рампе, прямо у оркестровой ямы, могут рассмотреть сквозь густую камуфляжную сеть контуры чего-то, не те самые контуры, но, по крайней мере, контуры чего-то. Другие зрители не видят ничего дальше сцены у рампы и, можно честно сказать, не заинтересованы что-то там видеть. Со своей стороны, интеллектуалы без тени всегда развернуты к сцене спиной, и потому – если у них нет глаз на затылке – они и не могут ничего увидеть. Они слышат только шумы, что вырываются из глубин шахты. И переводят их или толкуют, или воссоздают. Получается у них, честно говоря, очень плохо. Они балуются риторикой там, где слышат ураган, пытаются быть красноречивыми там, где бушует безоглядная ярость, стараются попасть в размер там, где стоит бесполезная оглушающая тишина. Они издают беспомощное «пи-пи», «гав-гав», «мяу-мяу», потому что не способны вообразить животное колоссальных размеров – или отсутствие такого зверя. А вот декорации, в которых они работают, – о да, они очень красивые, очень продуманные, кокетливые, но с течением времени их размеры всё сокращаются. Хотя нет, они уменьшаются, но декорации остаются декорациями. Просто с каждым представлением они уменьшаются в размере, и партер уменьшается в площади, и зрителей, естественно, с каждым разом все меньше. Рядом с этими декорациями, что логично, стоят другие. Это новые сцены, которые возвели с течением времени. Есть, например, сцена для живописи, огромная, и зрителей там немного, но все они, как бы это сказать, весьма элегантны. А вот сцена кино и телевидения. У них огромная аудитория, там всегда полно зрителей, а сцена увеличивается каждый год в хорошем темпе. Время от времени актеры со сцены интеллектуалов переходят, как приглашенные гости, на сцену телевидения. Вход в шахту зияет так же, как и везде, просто тут немного поменяли перспективу, камуфляж сделали поплотнее и, как это ни парадоксально, пропитали его странноватым юмором, который тем не менее смердит. У этого юмористического камуфляжа, естественно, может быть много толкований, но все они в конце концов сводятся, для большего удобства публики или коллективного зрения публики, к двум. Время от времени интеллектуалы устраиваются у рампы телевизионной сцены и более ее уже не покидают. Из зева шахты по-прежнему доносятся рычания и ворчанья, и интеллектуалы продолжают неверно толковать их. На самом деле они – в теории, хозяева языка – даже не способны обогатить его. Их лучшие реплики – заимствования из речи зрителей, что сидят в первом ряду. Этих зрителей обычно называют флагеллантами. Они больны и время от времени изобретают жуткие слова, и их уровень смертности крайне высок. Когда заканчивается рабочая неделя, театры закрываются, а зевы шахт прихлопывают большими стальными плитами. Интеллектуалы расходятся. Луна полна, и ночной воздух свеж настолько, что его хочется есть ложкой. В некоторых заведениях слышатся песни, их обрывки долетают до улицы. Иногда интеллектуал сбивается с дороги и проникает в одно из таких заведений и пьет мескаль. Тогда он задумывается: а что, если однажды и он… Но нет. Ничего он не думает. Просто пьет и поет. Время от времени кто-то думает, что видит легендарного немецкого писателя. На самом деле он видит лишь тень, время от времени он видит собственную тень, которая возвращается домой каждую ночь, – иначе вдруг интеллектуал лопнет или повесится в подъезде. Но он клянется, что видел именно немецкого писателя, и в этом убеждении зашифрованы его собственное счастье, его порядок, его головокружение и смысл его попойки. Следующее утро встречает хорошей погодой. Солнце искрит, но не обжигает. Из дома можно спокойно выходить, волоча за собой тень, и присесть в парке и прочитать несколько страниц Валери. И так до самого конца.
– Я ничего не поняла, – заявила Нортон.
– На самом деле я наговорил глупостей, – отозвался Амальфитано.
Потом они обзвонили оставшиеся гостиницы и мотели и нигде не нашли Арчимбольди среди постояльцев. В течение нескольких часов они думали, что Амальфитано прав, что сообщение Альмендро – не более чем плод его подогретых алкоголем фантазий, и что поездка Арчимбольди в Мексику существовала единственно в извилистых закоулках головы Свиньи. Остаток дня они провели за чтением и выпивкой, и никто из троих не пожелал выбраться из гостиницы.
Тем вечером Нортон, просматривая свою электронную почту на гостиничном компьютере, увидела письмо от Морини. В нем Морини писал о погоде, словно ему больше нечего было сказать, о секущем дожде, который пошел в Турине около восьми вечера и не затихал до часу ночи, и он желал Нортон от всего сердца лучшей погоды на севере Мексики, где, как он думал, дождь не шел никогда и только ночью, только в пустыне, становилось холодно. Этой же ночью, ответив на несколько писем (но не на то, что прислал Морини), Нортон поднялась к себе в номер, причесалась, почистила зубы, нанесла на лицо увлажняющий крем, некоторое время посидела на кровати, уперев ноги в пол, – думала. А потом вышла в коридор и постучала в дверь Пеллетье, а потом в дверь Эспиносы и, не произнеся ни слова, отвела их в свой номер, где занималась с ними обоими любовью до пяти утра, в каковой час литературоведы по указанию Нортон разошлись по номерам, где мгновенно погрузились в глубокий сон, который сбежал от Нортон – та немного разгладила простыни, выключила весь свет в комнате, но так и не смогла сомкнуть глаз.
Она думала о Морини, точнее, увидела Морини, как он сидит в инвалидной коляске перед окном своей туринской квартиры, где Нортон ни разу не была, как он оглядывает улицу и фасады соседних домов и смотрит, смотрит, как идет дождь. Здания напротив были серого цвета. Внизу темнела широкая улица, проспект, по которому не ехала ни одна машина, с высаженными через каждые двадцать метров рахитичными деревцами – глупая шутка мэра или городского архитектора, не иначе. Небо донельзя походило на одеяло, укрытое другим одеялом, в свою очередь укрытым еще более толстым и влажным одеялом. Окно, из которого смотрел на улицу Морини, было большим, такие обычно ведут на балкон: более узкое, чем широкое, и, да, очень вытянутое в высоту. И чистое, настолько чистое, что казалось: стекло, по которому стекали капли дождя, прозрачно до хрустальности. Деревянная рама окна была выкрашена в белый цвет. В комнате горел свет. Паркет блестел, на стеллажах в безупречном порядке выстроились книги, на стенах висело несколько картин, отобранных с идеальным вкусом. Ковров не было, а мебель – диван черной кожи и два кресла белой кожи – не мешала коляске передвигаться в комнате. За полуоткрытой двойной дверью темнел коридор.
А что же сказать о самом Морини? Он сидел в коляске с несчастным видом, словно бы все его бросили, и созерцание ночного дождя и спящих домов было максимумом, на который он мог надеяться. Время от времени он клал обе руки на подлокотники коляски, иногда подпирал голову рукой. Джинсы казались слишком широкими для его неподвижных, тонких, как у агонизирующего подростка, ног. На нем была белая рубашка с расстегнутым воротом, а на запястье болтались на слишком свободном ремешке часы. На ногах были не туфли, а очень старые кроссовки из черной ткани – они блестели как дождливая ночь. Удобная домашняя одежда, и, судя по виду Морини, скорее всего, он не собирался на следующий день идти на работу – ну или планировал прийти туда попозже.
По ту сторону оконного стекла шел дождь – ровно так, как он описывал в письме, наискось, и его усталость, покой и одиночество казались чем-то смертельно сельским, словно бы телом и душой он без единой жалобы предался бессоннице.
На следующий день они пошли на ярмарку мастеров, изначально задуманную как место, где жители окрестностей Санта-Тереса могли бы продавать и обменивать свои товары, куда съезжались бы мастера и крестьяне из ближайших селений, нагрузив тачки и навьючив ослов, – да что там ближайших, на ярмарке ждали торговцев скотом из Ногалес и Висенте Герреро, перекупщиков лошадей из Агуа-Прьета и Кананеа, а сейчас она существовала исключительно ради американских туристов из Феникса, которые приезжали автобусом или вереницей из трех-четырех машин и уезжали из города вечером того же дня. Литературоведам, впрочем, рынок понравился, и хотя изначально они ничего не планировали покупать, в конце концов Пеллетье приобрел по смехотворной цене глиняную статуэтку человека, сидящего на камне с газетой в руках. У человека были светлые волосы, а на лбу намечались крохотные дьявольские рожки. Эспиноса же купил индейский ковер у девушки, что стояла за лотком с коврами и пончо. На самом деле ковер не то чтобы сильно ему нравился, но девушка оказалась очень милой и они с удовольствием поболтали. Он спросил, откуда она родом – почему-то ему показалось, что она приехала со своими коврами из дальней дали, – но нет, девчонка жила в самой Санта-Тереса, в квартале к западу от рынка. Также она сказала, что ходит на подготовительные курсы и, если все сложится, пойдет учиться на медсестру. Эспиносе девушка показалась не только красивой – пусть и слишком миниатюрной на его вкус, – но также и умной.


