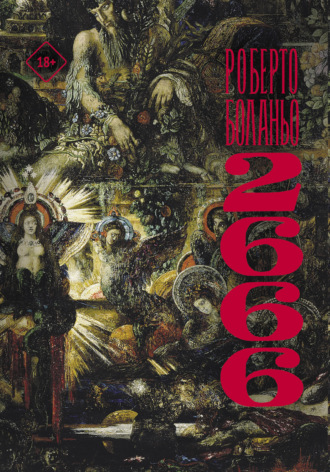
Роберто Боланьо
2666
Иногда перед тем, как отправиться на поиски друга по пустым залам гостиницы, Эспиноса садился проверять свою электронную почту: он надеялся получить письма из Европы, от Хеллфилда или Борчмайера, с какими-нибудь сведениями о том, где искать Арчимбольди. Потом отыскивал Пеллетье, а позже они оба молча поднимались в свои номера.
«На следующий день, – писала Нортон, – я занялась уборкой в квартире и приводила в порядок свои бумаги. Закончила я ранее, чем планировала. А вечером в одиночестве пошла в кино и, выйдя с сеанса, уже не могла припомнить ни сюжета фильма, ни актеров, в нем занятых. Тем вечером я поужинала с подругой и легла рано, хотя до двенадцати так и не смогла сомкнуть глаз. А проснувшись, очень рано и ничего не забронировав, поехала в аэропорт и купила первый попавшийся билет до Италии. Из Лондона прилетела в Милан, а оттуда доехала поездом до Турина. Когда Морини открыл дверь, я сказала, что приехала надолго и он волен выбрать – оставить меня у себя или отправить в гостиницу. Он не ответил на мой вопрос, только отъехал на коляске в сторону и велел заходить. Я пошла в ванную умыться. Когда вернулась, Морини уже заварил чай и выложил на голубую тарелку три пирожных, которые предложил мне, заверяя в том, что они невероятно вкусны. Я попробовала одно, и оно оказалась потрясающим. Что-то в нем было от греческих сластей с фисташками и финиками внутри. Я быстро управилась со всеми тремя пирожными и выпила две чашки чаю. Морини тем временем куда-то позвонил, а потом сел и начал слушать мой рассказ, время от времени задавая вопросы, на которые я охотно отвечала.
Мы проговорили несколько часов. Говорили об итальянских правых, о новом расцвете фашизма в Европе, об иммигрантах, о мусульманских террористах, о британской политике и политике Соединенных Штатов, и, по мере того как мы говорили, мне становилось все лучше и лучше – странно, потому что темы-то мы затрагивали скорее грустные; но тут я не выдержала и попросила у него еще волшебных пирожных, хотя бы одно, и тогда Морини посмотрел на часы и сказал, что я голодна и это логично, но у него есть идея получше, чем выдать мне пироженку с фисташками, – он забронировал столик в одном туринском ресторане и поведет меня ужинать туда.
Ресторан располагался посреди сада со скамеечками и каменными статуями. Помню, как я катила коляску Морини, а он показывал мне статуи. Некоторые изображали героев мифов, другие выглядели как потерявшиеся в ночи простые крестьяне. В парке гуляли и другие пары, иногда мы с ними пересекались, а иногда видели только их тени. За ужином Морини спросил меня о вас. Я сказала, информация о том, что Арчимбольди находится на севере Мексики, оказалась ложной и что, скорее всего, ноги его в этой Мексике не было. Я рассказала и о вашем мексиканском друге, великом интеллектуале по кличке Свинья – и тут мы оба захохотали. И с каждым словом мне становилось все легче».
Однажды вечером (когда они второй раз занимались с Ребеккой любовью на заднем сиденье машины) Эспиноса спросил, что ее семья думает по его поводу. Девушка ответила, что сестры считают его красавцем, а мать сказала, что у него лицо ответственного мужчины. Химией пахло так, что еще чуть-чуть и машина поднялась бы в воздух. На следующий день Эспиноса купил пять ковров. Девушка удивилась – на что ему столько ковров? Эспиноса объяснил, что это подарки. Вернувшись в гостиницу, он положил ковры на пустую кровать и сел на свою; на долю секунды тени отступили, и на миг его глазам предстала реальность как она есть. Его затошнило, и он закрыл глаза. И уснул, сам того не заметив.
Проснулся он с болью в желудке и желанием поскорее умереть. Вечером он пошел за покупками. Побывал в магазине нижнего белья, магазине женской одежды и в обувном магазине. Тем вечером он привел Ребекку в гостиницу и после душа надел на нее крохотные трусики и пояс для чулок, и черные чулки, и черное боди, и черные же туфли на шпильке, и трахал ее до тех пор, пока она не задрожала от изнеможения. Затем заказал ужин на две персоны в номер, а после еды вручил ей другие подарки, а потом они снова занимались любовью до самого рассвета. Когда оба оделись, она положила подарки в сумки, и он проводил ее до дома, а потом и до рынка, где помог ей разложить столик. Незадолго до прощания она спросила, увидит ли его снова. Эспиноса, сам не зная зачем, наверное, просто от усталости, пожал плечами и сказал: «Кто ж его знает».
– Знает-знает, – проговорила Ребекка необычайно грустным голосом – такой он никогда еще не слышал. – Ты уезжаешь из Мексики?
– Когда-нибудь да придется, – ответил он.
Вернувшись в гостиницу, он не застал Пеллетье ни на террасе, ни рядом с бассейном, ни в одном из залов гостиницы, где он обычно уединялся, читая. Он спросил у стойки администратора, давно ли его друг ушел, и ему ответили, что Пеллетье вообще не выходил из гостиницы. Он снова постучал, причем несколько раз, но с тем же результатом. Он сказал администратору, что боится, вдруг его другу стало плохо, может, случился сердечный приступ, и администратор, который знал их обоих, поднялся вместе с Эспиносой.
– Не думаю, что там что-то плохое случилось, – сказал он, пока они поднимались в лифте.
Открыв мастер-ключом номер, администратор отказался перешагивать порог. Комната тонула в темноте, и Эспиноса включил свет. На одной из кроватей увидел Пеллетье, до подбородка укрытого покрывалом. Тот лежал навзничь, лишь немного склонив голову на сторону, руки его были сложены на груди. И выражение лица у него было очень умиротворенное – Эспиноса ни разу такого не видел. Он позвал:
– Пеллетье! Пеллетье!
Администратор, не справившись с любопытством, сделал несколько шагов вперед и посоветовал не трогать его.
– Пеллетье! – заорал Эспиноса, упал на кровать и потряс его за плечи.
Тут Пеллетье открыл глаза и поинтересовался, что здесь происходит.
– Мы думали, ты умер, – признался Эспиноса.
– Нет, – ответил Пеллетье. – Мне снилось, что я отправился в отпуск на греческие острова и там снял лодку и познакомился с мальчиком, который целыми днями нырял.
– Приятный сон, – сказал он.
– Понятненько, – пробормотал администратор. – Очень расслабляющий такой… сон.
– Самое любопытное, – проговорил Пеллетье, – там вода – она была живая!
«Первые часы моей первой ночи в Турине, – писала Нортон, – я провела в гостевой комнате в квартире Морини. Я легко уснула, но вдруг меня разбудил гром – уж не знаю, наяву это было или во сне, – но мне показалось, что в коридоре я увидела силуэт Морини и его коляски. Поначалу я не придала этому значения и попыталась снова уснуть, но тут вдруг сообразила, что видела: с одной стороны – силуэт коляски в коридоре, а с другой – уже не в коридоре, а в гостиной – силуэт Морини. Я резко проснулась, схватила пепельницу и включила свет. В коридоре никого не было. Я дошла до гостиной – тоже никого. Несколько месяцев тому назад я бы спокойно выпила стакан воды и вернулась в постель, но все изменилось и ничего уже не будет по-прежнему. Тогда я взяла и пошла в комнату Морини. Открыв дверь, перво-наперво увидела коляску с одной стороны кровати, а с другой – похожий на сверток силуэт Морини. Тот спокойно дышал. Я прошептала его имя. Он не двинулся. Тогда окликнула его громче, и голос Морини поинтересовался, что происходит.
– Я тебя видела в коридоре, – сказала я.
– Когда? – спросил Морини.
– Только что, когда услышала гром.
– Дождь идет? – удивился Морини.
– Наверняка, – кивнула я.
– Я не выходил в коридор, Лиз, – сказал Морини.
– Но я тебя видела! Ты встал на ноги! Коляска тоже там была, развернутая ко мне, а ты стоял в конце коридора, в гостиной, ко мне спиной, – твердо сказала я.
– Тебе, наверное, все это приснилось, – сказал Морини.
– Коляска стояла повернутая ко мне, а ты – от меня, – упрямо повторила я.
– Лиз, успокойся, – пробормотал Морини.
– Вот только не надо просить меня успокоиться, не принимай меня за дурочку! Коляска смотрела на меня, а ты, ты стоял, спокойно так, и на меня не смотрел. Понятно?
Морини взял секундную паузу, чтобы подумать, и уперся локтями в колени.
– Думаю, да, – сказал наконец он, – моя коляска тебя сторожила, пока я отвернулся, так ведь? Словно бы я и моя коляска – одно существо, одна личность. И коляска эта – злая сущность именно потому, что смотрела на тебя, и я был тоже плохой, потому что соврал тебе и на тебя не смотрел.
Тут я рассмеялась и сказала, что для меня он никогда, никогда не будет плохим, и коляска тоже не будет – ведь она так помогает ему в жизни.
Остаток ночи мы провели вместе. Я попросила его подвинуться и освободить мне место рядом с ним. Морини повиновался молча.
– Как же так вышло, что я так поздно догадалась, что ты меня любишь? – сказала я ему позже. – Как так вышло, что я поздно поняла, что тебя люблю?
– Моя вина, – произнес Морини в темноте, – я такой неуклюжий».
Утром Эспиноса подарил администраторам и охранникам и официантам гостиницы часть ковров и пончо, которые хранил у себя. Также он подарил ковры двум женщинам, которые убирались у него в номере. Последнее пончо, очень красивое, с красными, зелеными и сиреневыми геометрическими фигурами, он сунул в сумку и попросил поднять в номер Пеллетье.
– Подарок от человека, оставшегося инкогнито, – сказал он.
Администратор подмигнул ему и сказал, что все сделает.
Когда Эспиноса подошел к рынку, она сидела на деревянной скамеечке и читала журнал о современной музыке – сплошные цветные фотографии и рядом – новости из жизни мексиканских певцов и певиц, их свадьбы, разводы, гастроли, платиновые и золотые диски, сроки в тюрьме и смерти под забором. Он сел рядом на бордюр и засомневался – поцеловать ее или просто поздороваться. Напротив стоял новый прилавок – там продавали глиняные статуэтки. Со своего места Эспиноса разглядел крохотные виселицы и грустно улыбнулся. Он спросил девушку, где ее братик, и та ответила – в школе, он туда каждое утро ходит.
Очень морщинистая женщина, одетая в белое как невеста, остановилась поговорить с Ребеккой, и тогда он подобрал журнал, который девушка оставила под столом на холодильной сумочке, и листал его все время, пока подруга Ребекки не ушла. Он хотел несколько раз что-то сказать, но так и не смог. Она молчала, но в ее молчании не было ничего неприятного, не чувствовалось ни укора, ни грусти. Оно было не густым, а прозрачным. И практически не занимало места. Эспиноса вдруг подумал, что он мог бы привыкнуть к этому молчанию и быть счастливым. Но нет, он никогда не привыкнет – и он это знал лучше, чем кто-либо.
Когда ему надоело сидеть, он пошел в бар и взял себе пиво у стойки. Вокруг толпились сплошь мужчины, каждый в паре с кем-то другим. Эспиноса обвел бар злющим взглядом и тут же сообразил: мужчины пили, но также и ели. Он выругался и плюнул на пол, всего в нескольких сантиметрах от своих туфель. Затем взял еще пива и вернулся к лотку с ополовиненной бутылкой. Ребекка посмотрела на него и улыбнулась. Эспиноса сел рядом с ней на тротуар и сказал, что вернется. Девушка ничего не ответила.
– Я вернусь в Санта-Тереса, – повторил он, – самое большее через год, клянусь.
– Не клянись, – ответила девушка, впрочем, с довольной улыбкой.
– И вернусь за тобой. – И Эспиноса выпил до капли свое пиво. – И, возможно, мы поженимся, и ты приедешь вместе со мной в Мадрид.
Ему показалось, что девушка сказала: «Было бы здорово» – вот только Эспиноса не расслышал.
– Что? Что? – переспросил он.
Ребекка молчала.
Ночью он вернулся и застал Пеллетье за обычными занятиями – тот читал и пил виски рядом с бассейном. Эспиноса устроился на соседнем шезлонге и спросил, какие у него планы. Пеллетье улыбнулся и положил книгу на стол:
– Я нашел в номере твой подарок, он своевременный и по-своему очаровательный.
– А, пончо, – сказал Эспиноса и откинулся в шезлонге.
На небе проступали многочисленные звезды. Лазоревая вода бассейна бросала отсветы на столы и массивные кадки с цветами и кактусами, цепочка бликов тянулась к стене из бежевого кирпича, за которой находились теннисная площадка и сауна, – удобства, которые Пеллетье и Эспиноса с успехом проигнорировали. Время от времени до них доносились удары по мячу и приглушенные голоса комментирующих игру зрителей.
Пеллетье встал и предложил пройтись. Он пошел к теннисному корту, Эспиноса двинулся следом. Над площадкой уже горели фонари, и два пузатых мужика без особого успеха размахивали ракетками, а на деревянной скамье под зонтиком (такие же стояли вокруг бассейна) сидели и смеялись женщины. В глубине, за сетчатой оградой, стояла сауна – цементная коробка с двумя крошечными окнами, похожими на иллюминаторы затонувшего корабля. Присев на кирпичную ограду, Пеллетье сказал:
– Мы не найдем Арчимбольди.
– Мне это уже несколько дней как ясно, – ответил Эспиноса.
Затем он подпрыгнул раз, другой, пока не устроился на краю стены, спустив ноги к теннисному корту.
– Тем не менее, – проговорил Пеллетье, – я уверен: Арчимбольди здесь, в Санта-Тереса.
Эспиноса посмотрел на свои руки, словно боялся, что поранит себя. Одна из женщин поднялась со своего места и ступила на площадку. Подойдя к одному из мужчин, она прошептала ему что-то на ухо и отошла. Мужчина вскинул руки к небу, открыл рот и откинул голову – но не издал ни звука. Второй мужчина, одетый, как и первый, в белоснежную форму, подождал, пока закончится немая сцена радости его соперника и, когда тот перестал строить гримасы, послал ему мяч. Партия возобновилась, и женщины снова захихикали.
– Поверь мне, – сказал Пеллетье голосом мягким, как ветерок, который в тот момент дул, наполняя воздух ароматом цветов, – я знаю, что Арчимбольди – здесь.
– Но где? – спросил Эспиноса.
– Где-то тут, в Санта-Тереса или окрестностях.
– А почему мы его не нашли? – спросил Эспиноса.
Один из теннисистов упал на землю, и Пеллетье улыбнулся:
– А это неважно. Может, мы дураки, а может, у Арчимбольди талант прятаться. Все это ерунда. Важно другое.
– Что? – спросил Эспиноса.
– Что он тут, – ответил Пеллетье и обвел рукой сауну, гостиницу, корт, металлические решетки, палую листву, которую глаз различал там, где гостиница не освещалась.
Эспиноса почувствовал, как у него встали дыбом волосы на спине. Цементная коробка с сауной вдруг показалась ему бункером с мертвецом внутри.
– Я тебе верю, – сказал он – и это было правдой.
– Арчимбольди здесь, – сказал Пеллетье, – и мы здесь, и ближе нам уже не подобраться.
«Не знаю, сколько мы пробудем вместе, – писала Нортон. – Ни Морини (я так думаю), ни мне это неважно. Мы любим друг друга – и мы счастливы. Уверена, вы меня поймете».
Часть об Амальфитано
«Не понимаю, зачем я приехал в Санта-Тереса» – сказал себе Амальфитано, проведя неделю в этом городе. «Не знаешь? Так-таки не знаешь?» – спросил он себя. «На самом деле не знаю», – сказал он себе и красноречивее выразиться не мог.
Жил он в одноэтажном домике из трех комнат, с ванной и туалетом, с крошечной кухонькой, соединенной с гостиной, окна гостиной-столовой выходили на закат, а на кирпичном крылечке стояла старая деревянная скамья, вся исхлестанная ветром, который слетал с гор и налетал с моря, исхлестанная ветром с севера, ветром открытых пространств, и ветром южным, приносившим запах дыма. Некоторые книги Амальфитано хранил более двадцати пяти лет. Не так уж много их было. И все старые. У него были книги, купленные менее десяти лет назад, и их он мог безболезненно отдать почитать, потерять или даже утратить в результате ограбления. У него жили книги, которые он получил в совершенно жутком состоянии, непонятно от кого. Он их даже не открывал. Еще у него был патио, превосходно подходящий, чтобы разбить газончик и посадить цветы – правда, он так и не узнал, какие лучше подходят, не кактусы же и кактусообразные ему там высаживать. Еще у него было время (или так он думал), чтобы заняться садом. Там стояла деревянная решетка, которую давно следовало бы подкрасить. Еще ему раз в месяц выплачивали зарплату.
У него была дочь по имени Роса, и она все время жила с ним. Надо же, нарочно не придумаешь, однако так оно все и было.
А иногда ночами он вспоминал мать Росы и временами смеялся, а временами плакал. Вспоминал ее, сидя в кабинете, а Роса спала у него в комнате. В гостиной было пусто, тихо и не горел свет. На крыльце, если прислушаться повнимательнее, раздавался писк немногих москитов. Но никто не прислушивался. Соседние дома стояли молчаливые и темные.
Росе было шестнадцать, и она была испанка. Амальфитано было пятьдесят, и он был чилиец. Роса получила паспорт, когда ей только исполнилось десять лет. Во время их путешествий, вспоминал Амальфитано, они попадали в дурацкие ситуации: Роса проходила контроль и таможню как гражданка ЕС, а Амальфитано – через дверь для лиц, не имеющих гражданства ЕС. В первый раз с Росой случилась истерика – она расплакалась, потому что не хотела разлучаться с отцом. В другой раз, поскольку очереди двигались с разной скоростью – а очередь для неграждан ЕС двигалась медленно, их проверяли с особой тщательностью, – Роса потерялась, и Амальфитано целых полчаса искал ее. Иногда полицейские на контроле видели крохотную Росу и спрашивали, одна ли она путешествует и встречает ли ее кто-нибудь. Роса отвечала, что путешествует с отцом, который латиноамериканец, и что она должна подождать его прямо здесь. В какой-то из случаев вскрыли и досмотрели чемодан Росы: опасались, что отец может контрабандой провозить наркотики или оружие, пользуясь невинным видом и гражданством дочери. Но Амальфитано никогда не торговал наркотиками и уж тем более оружием.
Вот кто все время носил с собой оружие, вспоминал Амальфитано, куря мексиканскую сигарету, сидя в кабинете или стоя на крыльце в темноте, это Лола, мать Росы: она никогда не расставалась с ножом из нержавеющей стали, который открывался кнопкой, автоматически. Однажды их задержали в аэропорту (это было до того, как родилась Роса) и спросили, что здесь делает нож. Я им фрукты чищу, ответила Лола. Апельсины, яблоки, груши, киви – всякие такие фрукты. Полицейский посмотрел-посмотрел на нее и разрешил идти. Через год и пару месяцев после этого случая родилась Роса. А еще два года спустя Лола ушла из дому и до сих пор носила с собой этот нож.
Предлог она выбрала вот какой: мол, хочется ей навестить своего любимого поэта, который живет в сумасшедшем доме в Мондрагоне, что рядом с Сан-Себастьяном. Амальфитано слушал ее аргументы целую ночь, пока Лола собирала рюкзак и уверяла его: мол, она вернется к нему и дочери прямо очень скоро. Лола, особенно в последнее время, утверждала, что знает этого поэта, и познакомились они на вечеринке в Барселоне, еще до того, как Амальфитано появился в ее жизни. Во время этой вечеринки (Лола называла ее дикой), вечеринки запоздавшей, которая вдруг вылезает среди летней жары посреди длинной пробки, где машины стоят с включенными красными фарами, – так вот, она отдалась ему, и они занимались любовью всю ночь напролет; однако Амальфитано знал, что это неправда: не только потому, что поэт был гомосексуалистом, но потому, что Лола о его существовании узнала от самого Амальфитано, и он подарил ей одну из его, поэта, книг. Потом Лола скупила все остальные книги поэта и даже друзей себе выбирала из тех, кто считали поэта просветленным, инопланетянином, посланником Божиим, друзей, что, в свою очередь, только что вышли из дурдома Сан-Бой или рехнулись после нескольких программ детоксикации. На самом деле Амальфитано знал, что рано или поздно его жена поедет в Сан-Себастьян – поэтому предпочел не спорить, а предложить ей часть сэкономленных денег, попросить, чтобы она вернулась через несколько месяцев, и заверить ее, что сумеет прекрасно ухаживать за дочкой. Лола, похоже, ничего из этого не услышала.
Собрав рюкзак, она пошла на кухню, сделала два кофе и сидела тихо-тихо в ожидании рассвета, хотя Амальфитано пытался поговорить на темы, ее интересовавшие или, по крайней мере, помогающие убить время. В половине седьмого утра прозвенел звонок, и Лола подпрыгнула на месте. Это за мной, сказала она, но не двинулась с места, так что Амальфитано пришлось встать и по интеркому спросить, кто это. Он услышал тихий хрупкий голосок: «Это я». «Кто вы?» – спросил Амальфитано. «Открой, это я», – сказал голосок. «Кто?» – уперся Амальфитано. Тот голосок, все такой же нежный и хрупкий, зазвучал сердито – видно, не понравился учиненный допрос. «Я, я, я!» – повторял он. Амальфитано закрыл глаза и открыл дверь подъезда. Он услышал грохот тросов в лифтовой шахте и вернулся на кухню. Лола все так же сидела, допивая последние капли кофе. «Это тебя», – сказал Амальфитано. Она даже ухом не повела. «Ты попрощаешься с ребенком?» – спросил Амальфитано. Лола подняла взгляд и ответила, что лучше дочку не будить. Под ее голубыми глазами залегали глубокие тени. Потом дважды позвонили в дверь, и Амальфитано пошел открывать. Очень маленькая женщина, не более полутора метров росту, быстро оглядела его, пробормотала что-то непонятное – наверное, приветствие, – а потом пошла прямо на кухню, словно бы знала о привычках Лолы больше, чем Амальфитано. Он вернулся на кухню, и в глаза ему тут же бросился рюкзак этой женщины – та положила его на пол около холодильника, – и рюкзак этот был гораздо меньше, чем у Лолы, ни дать ни взять рюкзачок в миниатюре. Звали женщину Инмакулада, но Лола звала ее Иммой. Пару раз по возвращении с работы Амальфитано заставал ее у себя дома, и тогда же она представилась и сказала, как ее надо звать. Имма – это уменьшительное от Инмакулада на каталонском, но подруга Лолы была не каталонка, и звали ее не Иммакулада, с двойным «м», а Инмакулада, но Амальфитано, по причине этой фонетической путаницы, предпочитал звать ее Инма – и каждый раз жена осыпала его упреками, так что в конце концов он решил никак не называть эту женщину. Он стоял на пороге кухни и наблюдал за ними. Думал, нервы сдадут, однако чувствовал себя на редкость спокойным. Лола с подругой уперлись взглядом в меламиновую поверхность рабочего стола, но от взгляда Амальфитано не ускользнуло, как они время от времени поднимали глаза и тогда их взгляды едва ли не искрили. Такой Лолу он еще не видел. Она спросила, сварить ли кому-нибудь еще кофе. «А ведь она ко мне обращается», – подумал Амальфитано. Инмакулада покачала головой и сказала, что все, времени нет и пора двигать, иначе через некоторое время на выезде из Барселоны соберутся пробки и проехать будет невозможно. «Она говорит так, словно Барселона – средневековый город», – подумал Амальфитано. Лола с подругой встали. Амальфитано сделал два шага и открыл холодильник – его вдруг одолела жажда, и он взял себе бутылку пива. Чтобы открыть дверь, он подвинул рюкзак Иммы. Тот почти ничего не весил – словно бы там лежали две блузки и еще одни черные брюки. На эмбриона она похожа, решил Амальфитано и переставил рюкзак. Лола поцеловала его в обе щеки, и они с подругой ушли.
Через неделю Амальфитано получил от Лолы письмо со штампом Памплоны. В письме она рассказывала, что во время путешествия у нее накопился как приятный, так и неприятный опыт. Больше, правда, было приятных впечатлений. А вот опыт неприятный – ну, его можно было квалифицировать как неприятный – это без сомнения, но не опыт. Все неприятное, что может с нами случиться, писала Лола, мы встретим во всеоружии, потому что Имме уже приходилось переживать такое. Два дня, писала Лола, мы работали в Лериде, в придорожном ресторанчике, хозяину которого также принадлежал яблоневый сад. Сад был большой, и с ветвей свешивались уже зеленые яблоки. Скоро начинался сбор урожая, и хозяин просил их остаться. Имма разговаривала с хозяином, а Лола читала книгу поэта из Мондрагона (в рюкзаке у нее лежали все книги, что тот успел опубликовать) рядом с канадской палаткой, в которой обе спали (стояла она в тени тополя, единственного тополя во всех здешних садах, рядом с гаражом, тот уже давно никто не использовал. Потом появилась Имма и отказалась объяснять, о чем с ними хотел условиться хозяин ресторана. На следующий день они, ни с кем не попрощавшись, снова вышли на шоссе – пришлось ехать автостопом. В Сарагосе переночевали у старинной, еще с университета, подруги Иммы. Лола очень устала и легла рано, и во сне ей слышались смех, а потом какие-то реплики на повышенных тонах и упреки – практически все были высказаны Иммой, но и подружкой тоже. Говорили о прошлом, о борьбе с франкизмом, о женской тюрьме Сарагосы. Говорили о яме, очень глубокой дыре в земле, откуда можно добывать нефть или уголь, о подземной сельве, о взводе спецназа из женщин-самоубийц. И тут Лола в письме резко меняла тему. Я не лесбиянка, писала она, не знаю даже, зачем я тебе все это говорю, не знаю, почему обращаюсь с тобой как с ребенком, рассказывая такие простые вещи. Гомосексуальность – это чистой воды мошенничество, последствия насилия, учиненного над нами в детстве. Имма это знает. Знает, знает, она слишком умна, чтобы это попросту игнорировать, но не может ничего сделать – только помочь. Имма – лесбиянка, каждый день сотни тысяч коров приносятся в жертву, каждый день стадо травоядных или несколько стад травоядных обходят долину, с севера на юг, медленно и одновременно быстро, да так быстро, что у меня голова кружится и тошнит, прямо сейчас, сейчас, сейчас, понимаешь ли ты меня, Оскар? Нет, не понимаю, думал Амальфитано, держа в руках письмо так, словно это был спасательный круг из тростника и травы, и покачивая ногой креслице своей дочери.
Затем Лола снова вспоминала ту ночь, когда они занимались любовью с поэтом, ныне покоящимся, величественно и сокрыто, в сумасшедшем доме Мондрагона. Тогда он был свободен, его еще не упрятали в психиатрическую клинику. Поэт жил в Барселоне, в доме одного философа-гомосексуала, и вместе они устраивали вечеринки – раз в неделю или раз в две недели. Я еще тогда ничего о тебе не знала. Не знаю, приехал ли ты уже в Испанию или жил в Италии, Франции или в какой-нибудь мерзкой латиноамериканской дыре. Вечеринки, что устраивал этот философ-гомосексуал, были популярны в Барселоне. Поговаривали, что поэт и философ – любовники, но на самом деле они на любовников не походили. У одного были дом, идеи и деньги, а у другого – легенда, стихи и пламенный энтузиазм фанатика, собачий такой энтузиазм, как у побитых псов, что бредут всю ночь или всю юность под дождем, нескончаемым испанским дождем из перхоти, и в конце концов находят место, где преклонить голову, пусть это место – ведро с тухлой водой, главное, воздух пахнет чем-то знакомым. Однажды фортуна мне улыбнулась, и я попала на одну из таких вечеринок. Было бы преувеличением сказать, что я познакомилась с философом. Я его увидела. Стоял он в углу гостиной, болтая с другим поэтом и другим философом. Мне показалось, он их поучал. И вдруг все стало казаться фальшивым. Гости ждали появления поэта. Ждали, что он на кого-нибудь накинется с кулаками. Или испражнится в середине гостиной прямо на турецкий ковер, напоминающий замученный ковер-самолет из «Тысячи и одной ночи», старый битый ковер, который время от времени обнаруживал свойство отражать нас как зеркало, только снизу. Я хочу сказать: в зеркале он превращался в судью наших сотрясений. Сотрясений нейрохимического характера. Когда поэт вышел, ничего особенного не произошло. Поначалу все взгляды обратились к нему – все раздумывали, чем бы им поживиться. А потом каждый продолжил делать то, что делал, а поэт поприветствовал некоторых приятелей-писателей и присоединился к свите философа-гомосексуала. Я танцевала одна и продолжила танцевать одна. В пять утра вошла в одну из комнат. Поэт вел меня за руку. Я занялась с ним любовью, даже не раздевшись. Три раза кончила, пока чувствовала на шее его дыхание. У него это заняло больше времени. В полутьме я различила в углу комнаты три тени. Один курил. Другой все время бормотал. А третьим был сам философ, и я поняла: кровать, на который мы лежим, – это его кровать, а эта комната – та самая комната, в которой он, как говорили некоторые злые языки, занимался любовью с поэтом. Но тогда любовью занималась я, и поэт был очень нежен со мной, и не понимала я одного: что тут высматривают эти трое, впрочем, мне это было не так уж важно, в то время, не знаю, помнишь ли ты, тебе на все плевать. Поэт наконец кончил и заорал, повернув голову к трем своим друзьям, а мне стало жалко, что сегодня не овуляция – очень мне бы хотелось завести от него сыночка. Один из них положил ему руку на плечо. Другой что-то дал. Я поднялась и пошла в туалет, не обращая на них никакого внимания. В гостиной оставались лишь похожие на жертв кораблекрушения последние гости. В ванной комнате я обнаружила девочку – та спала в ванне. Я умылась и вымыла руки, причесалась, а когда вышла, философ уже выкидывал из квартиры тех гостей, что еще оставались на ногах. И выглядел он совсем не пьяным, и под кайфом тоже не был. Свежий он был, как будто только что поднялся и позавтракал большим стаканом апельсинового сока. Я ушла с парой друзей, с которыми познакомилась на вечеринке. В это время был открыт только «Драгстор» на Рамблас – туда мы и пошли, практически не сговариваясь. Там я встретилась с давней знакомой, которая работала журналисткой в «Ахобланко» – причем работа ей до ужаса не нравилась. Она начала говорить о переезде в Мадрид. И спросила, не хочу ли я поменять место жительства. Я лишь пожала плечами. Сказала, все города одинаковы. А на самом деле сидела и думала о поэте и о том, что мы с ним недавно сделали. Гомосексуалы так не поступают. Все говорили, что он гомосексуал, а я-то теперь знала: это не так. Потом задумалась, почему я в таком раздрае, и все поняла. Я поняла, что поэт – он заблудился, что он потерявшийся ребенок, а я могу его спасти. Дать толику того, чем он так щедро со мной поделился. Почти месяц я подстерегала его перед домом философа – все надеялась, что однажды увижу и попрошу снова заняться со мной любовью. Однажды вечером увидела – но не поэта, а философа. Что-то у него было не то с лицом. Он подошел поближе (меня он, кстати, не узнал), и я увидела, что глаз у него подбит и синяки по всему лицу. А поэт исчез с концами. Временами, глядя на свет в окнах, я пыталась угадать, на каком этаже его квартира. Иногда замечала тени за занавесками, а иногда кто-то – женщина в возрасте, мужчина в галстуке, подросток с вытянувшимся лицом – открывал окно и погружался в созерцание вечерней Барселоны. А однажды вечером я обнаружила, что не одна шпионю или поджидаю поэта. Юноша лет восемнадцати, а может и моложе, молча нес свою стражу на противоположной стороне улицы. Меня этот беспечный мечтатель не заметил. Он садился на террасе бара, заказывал кока-колу в банке и очень медленно пил ее, пока писал что-то в школьной тетрадке или читал очень знакомые мне книги. Однажды вечером, как раз перед тем, как он покинул бы террасу и удалился скорым шагом, я подошла и подсела к нему за столик. И сказала, что знаю, чем он занимается. «А ты кто?» – в ужасе спросил он. Я ему улыбнулась и сказала – я такая же, как ты. Он посмотрел на меня как на сумасшедшую. Ты не думай, сказала я ему, я не сумасшедшая и рассудка не лишилась. Он засмеялся. Может, ты и не сумасшедшая, но здорово похожа на психическую, сказал он. И поднял руку, прося счет, и был уже готов подняться, когда я призналась, что высматриваю поэта. Он тут же упал обратно на стул, словно бы я ему пистолет к виску приставила. Я заказала ромашковый чай и рассказала свою историю. Он мне ответил: да, я тоже пишу стихи и хотел бы, чтобы поэт хоть что-нибудь из моего прочитал. Сразу было видно – и даже незачем задавать вопросы, – что он гомосексуал и ему очень одиноко. Дай посмотрю, сказала я и выдернула у него тетрадь из рук. Стихи оказались неплохие, но была с ними одна проблема: он писал точь-в-точь как поэт. С тобой такого не случалось, сказала я, ты слишком молод, чтобы столько выстрадать. Он махнул рукой – мол, мне все равно, что ты думаешь. Главное, чтобы оно было написано прилично. Нет, не согласилась я, ты сам знаешь, это не главное. Нет, нет, нет, сказала я, и в конце концов он со мной согласился. Звали его Жорди, и сейчас, наверное, он преподает в университете или пишет рецензии для «Вангуардия» или «Эль-Периодико».


