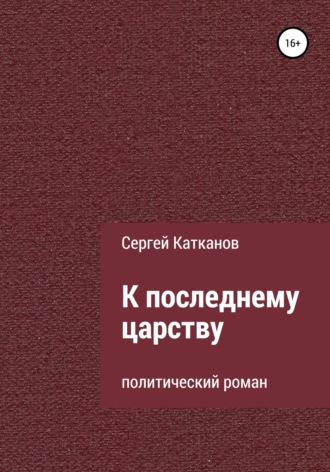
Сергей Юрьевич Катканов
К последнему царству
– Удивляюсь я на вас, князь. Вы думаете, можно вот так просто приехать из Франции и положить в карман всю Россию?
– Полагаю, не существует такого кармана, в который можно положить всю Россию.
– Но ведь вы претендент на русский трон.
– Я ни на что не претендую. Если некоторым господам угодно видеть во мне претендента, то по этому поводу вопросы лучше задавать им, а не мне.
– Вы ни кого не обманете своей фальшивой скромностью. Я таких скромников, рвущихся к власти тихой сапой, видел более, чем достаточно.
– Вы , очевидно, судите по себе. Вам и в голову не приходит, что кто-то может не рваться к власти, имея хотя бы самые незначительные шансы до неё дорваться.
– Как раз я не претендую на трон. У меня титул не той империи. А вы… – граф всё больше распалялся. – Французский офицерик, какой-то ни кому не нужный и не интересный доктор филологии, куда вы лезете? Вы хоть представляете, какие силы сейчас пришли в движение? Вы понимаете, что вы по сравнению с этими силами ничтожное насекомое? Мальчик, который обрадовался, что тут играют в войну, а тут настоящая война.
– Кажется, я имел несчастье чем-то вызвать ваше неудовольствие, но не могу понять чем.
– Уже хотя бы тем, что вы разгуливаете по русскому дворянскому собранию с таким видом, словно вы у себя дома. Но это наша, а не ваша страна. Вы ни чего не знаете о России, ни чего не понимаете в наших делах. Лучше проваливайте обратно во Францию, потому что вы…
– Остановитесь, граф, – спокойно сказал Константинов.– Ещё одно слово, и я вызову вас на дуэль. Я, кстати, очень хорошо стреляю, надеюсь, что и вы тоже.
Рядом с князем словно из-под земли вырос фон Риц:
– В случае необходимости, Олег Владимирович, готов предложить вам свои услуги в качестве секунданта, – сказал он немного легкомысленным тоном.
Князь отвесил барону вежливый полупоклон. Граф, похоже, обрадовался, что у него появилась возможность соскользнуть с неприятной темы:
– А.… господин фон Риц… Ну тогда всё понятно… Всё более, чем понятно.
Граф отошёл с выражением оскорбленной добродетели. Князь за всё время этого неприятного разговора не изменился в лице, но заметно побледнел. Барон по-прежнему являл собой образец легкомысленной безмятежности. Он кликнул разносчика шампанского, взял бокал, второй протянул князю, они сделали по несколько глотков.
– Вы не могли бы мне объяснить, любезный господин барон, что стало понятно нашему столь эмоциональному собеседнику?
– Его трехцветное сиятельство считает меня законченным интриганом. Хотя какой я интриган? Встречаюсь с людьми, разговариваю, пытаюсь донести до них свою точку зрения. Но граф всё переводит на язык своих понятий. Он уверен, что я представитель неких сил, которые противостоят тем силам, которые представляет он.
– А что за силы он представляет?
– Антиставровские силы, точнее – антирусские. Диктатуру им не сковырнуть, вот они и хотят использовать реставрацию монархии для того, чтобы вернуть Россию в лоно мирового сообщества. Если им удастся «протащить» своего царя, он уже на завтра восстановит все демократические институты и поедет лобызаться с английской королевой.
– А вы уверены, что я этого не сделаю?
– Уверен. Знаете, в чем разница между ими и нами? Они хотят править Россией, а мы хотим, чтобы Россией правил Бог.
– Вы действительно одинокий странствующий рыцарь и за вами ни кто не стоит?
– У меня есть друзья, есть единомышленники. Их гораздо больше, чем вы видели. С властью мы не связаны, хотя власть про нас знает, но мы друг другу не докучаем, не имеем необходимости. Ни с какими финансово-промышленными группами мы тоже не связаны, хотя среди нас есть богатые люди, но не они нами управляют. Мы так же не связаны ни с какими церковными структурами, из патриархии указаний не получаем. Хотя мы все-таки – люди Церкви, но к митро-политике отношения не имеем. Мы не партия, не тайный союз, мы ни от кого не прячемся, но в качестве некой сплоченной силы себя не позиционируем. Мы просто русские православные монархисты, порою имеющие, что обсудить, порою предпринимающие согласованные действия. Всё это я и раньше вам рассказал бы, но вы не спрашивали.
– Удивляюсь, что и сейчас спросил. Задавать такие вопросы – не в моём стиле.
– Я именно так это и понимал. Мы делаем то, что считаем правильным, а от вас сейчас не требуется ни чего, кроме как быть самим собой. Зачем бы мы полезли к вам с изъявлениями верноподданнических чувств? Мы, так же как и вы, не претендуем на власть. Если победят наши оппоненты, нас всех передавят по одному, а если победят сторонники нашего направления, нам ни кто и «спасибо» не скажет. Но и на «спасибо» мы не претендуем. Мы просто будем жить в той стране, в которой мы хотим жить.
***
Список соборян был наконец составлен, и тогда произошло то, чего ни кто не ожидал. Ставров повычеркивал из этого списка половину фамилий, вместо них вписал свои, не известно чем руководствуясь. Воистину, это была игра без правил, точнее правила изменялись по ходу игры по личному произволу одного человека. Многих это шокировало, тогда Ставров дал необходимые объяснения:
«Я хотел, чтобы состав Собора был максимально случайным, потому что случайности – это язык, на котором Бог говорит с людьми, а мнение людское определяется «страстьми и похотьми». Но, посмотрев избранный состав Собора, я убедился, что здесь очень много людей далеко не случайных. Внимательно посмотрите список вычеркнутых мною церковных иерархов, и вы убедитесь, что все они принадлежат к обновленческому направлению. Это церковные либералы, разрушающие Церковь изнутри. В Церкви этой братии меньше одного процента, а среди избранных иерархов их оказалось чуть ли не половина. Их проникновение в состав Собора – явный результат целенаправленных действий врагов Церкви и врагов России. Кто-то до сих пор жалеет, что я не позволяю губить Россию? Вычеркнул так же явных представителей финансово-промышленных групп. Богачи хотят иметь своего царя. Они его не получат. Убрал так же установленных гомосексуалистов. Кто-то жалеет об извращенцах? Оставил всех, кто не нравится лично мне, но ни какой губительной тенденции не олицетворяет. Говорят, что теперь половина Собора – это личные представители Ставрова. Это в каком смысле? Ни с одним из тех людей, кого я вписал, я лично не знаком, и вы без труда можете убедиться, что ни один из них ни как не связан с властью. Всем известны мои ближайшие соратники и друзья. Ни одного из них я не вписал. Если кому-то не нравится, что Собор избран не демократично, то я должен сказать, что именно в этом его главное достоинство».
***
Собор открыл Ставров, хотя сам он к числу соборян не принадлежал. Его выдвигали, но он отказался. Диктатор был краток:
«Хочу напомнить о том, что безусловно известно всем соборянам: Избиратель на Соборе только один – Бог. Вы собрались не для того, чтобы заявить свою волю, а для того, чтобы найти Божью волю, найти того претендента, который угоден Богу, а не вам. Для этого надо скорее молиться, чем спорить, хотя спорить вам тоже не возбраняется. Искренне надеюсь, что Собор не превратится в процедуру демократическую, а станет органом боговластия. Выдвигайте своих претендентов, обсуждайте их, а дальше я скажу, что будет».
Сначала всё шло более-менее пристойно, соборяне поднимались на трибуну, называли своих претендентов, говорили, чем именно они хороши. Потом всё чаще начали слышаться выкрики с мест, потом эти выкрики становились всё эмоциональнее, потом на выступающих перестали обращать внимание, соборяне чуть ли не все разом повскакивали с мест и начали что-то кричать друг другу, уже ни кто ни кого не слышал. Чтобы призвать их к порядку, надо было кричать громче, чем они, а это вряд ли было возможно. Тогда с места встал председательствующий на Соборе патриарх и тихо-тихо запел «Царю небесный». Едва послышался молитвенный шёпот патриарха, как тут же в зале что-то произошло, криков стало меньше, они стали тише. Когда патриарх вновь запел «Царю небесный», его дослушали уже в гробовой тишине. На третий раз уже все соборяне вместе с патриархом тихо пропели молитву Святому Духу. Тогда святейший воскликнул: «Господь посреди нас!» Весь зал хором ответил: «И есть, и будет!» Патриарх спокойно, как будто ни чего не произошло, сказал: «Продолжим нашу работу».
Выступления возобновились, теперь уже ни кто ни кого не перебивал, все говорили подчеркнуто спокойно. Это было самое настоящее чудо, и под воздействием этого чуда соборяне словно преобразились. Все теперь лучились взаимной доброжелательностью и даже спорили исключительно любезно. До Собора ни кто и представить себе не мог, что все они дружно сойдут с ума, а потом так же дружно станут обществом смиренных молитвенников.
Ставров, когда началось непотребство, уже собирался кликнуть марковцев, чтобы они своим угрожающим видом поостудили горячие головы, и теперь горячо благодарил Бога за то, что не успел это сделать. Собор был бы сорван. О чем можно было рассуждать под дулами винтовок? Результаты такого собора ни кем не были бы приняты, и в первую очередь самими соборянами. Ставров понимал, что они были в пяти минутах от катастрофы.
После обеда на второй день работы Собора начали опускать в урну бумажки с именами претендентов. Можно было продолжить дебаты, но почему-то ни кому не хотелось. Несколько довольно вялых выступлений завершили второй день.
Утром на третий день патриарх огласил результаты выдвижения. Всего было названо 73 претендента. Имели значения только трое лидировавших по количеству голосов. Все были очень удивлены, что на первом месте оказался князь Олег Владимирович Константинов. Во время обсуждения его имя звучало реже других, выступления в его пользу были далеко не самыми яркими и убедительными, по прогнозам он едва ли мог попасть даже в первую десятку. Сторонникам лидеров «предвыборной гонки» это казалось просто невозможным, они сразу зашептались про фальсификацию. Они не дали себе труда задуматься о том, что в активном обсуждении участвовало не более трети соборян, остальные молчали и слушали, а теперь всего лишь стало понятно, о чем они молчали.
Но окончательно вопрос должен был решиться во время второго голосования, когда в списке будет уже только три претендента. Противники Константинова договорились о том, что не позволят вынести урну из зала и потребуют подсчет голосов у них на глазах. И тут разразился гром среди ясного неба.
На трибуну вышел Ставров и сказал: «Среди вас есть те, кто уверен, будто всё подстроено и сфальсифицировано, что Ставров всеми правдами и неправдами протаскивает своего претендента. Но я ни кого не протаскивал и не собираюсь. Понимаю, что эти слова звучат пустым звуком. Я могу долго рассказывать вам о том, что Божья воля для меня дороже собственной, и это будет звучать, как дешевая политическая демагогия. Так вот, чтобы всем было понятно, что я и сам не буду протаскивать свою волю, и другим не позволю, царя из трех претендентов мы выберем по жребию (По залу прокатился гул). Я мог бы пригласить на роль того, кто будет тянуть жребий, ребенка, но кто-то всё равно скажет, что ребенок специально обучен, и Ставров пообещал ему бочку варенья и корзину печенья. Я мог бы пригласить святого старца, но его святость тут же поставят под сомнение. Поэтому жребий будет тянуть представитель тех сил, которым моя диктатура показалась хуже горькой редьки. Вы думаете, я случайно не вычеркнул из списка явных противников своей политики? Тут-то вы мне и пригодитесь. Бояться вам теперь не чего, уже идёт последний час моей диктатуры. Вторым и третьим номером в списке из трех имен идут ваши претенденты, господа оппозиционеры, так что арифметически у вас хорошие шансы. Можете посовещаться и выбрать «барабанщика»».
Идея избирать царя жребием принадлежала не Ставрову, а Константинову, диктатору она первоначально показалась неприемлемой, потому что не бывает таких диктаторов, которым нравились бы подобные штучки. Человек привыкает к тому, что всё определяет его воля, такому человеку не может быть близка мысль о том, чтобы выпустить вожжи из рук и закрыть глаза. Но Константинов поставил избрание по жребию обязательным условием своего участия в выборах. Ставрова буквально корчило от этой мысли, ведь речь шла о том, чтобы поставить под угрозу результаты огромных трудов. Тогда Константинов горько ему посетовал: «Мы с вами действительно хотим торжества Божией воли, или только прикрываем этой декларацией стремление к тому, чтобы всё было по-нашему?» Ставров думал так же, как и Константинов, но диктатура настолько испортила его характер, что чувствовал он теперь уже по-другому. Ему удалось переломить свой характер, и он сказал: «Я сделал для России всё, что мог. Дальше – дело Божие. Я согласен».
На сцену с величайшим достоинством поднялся вальяжный господин, с нескрываемой неприязнью глянул на Ставрова, своей рукой написал три записки с именами, поместил их в капсулы от киндер-сюрпризов и бросил их в барабан. Потом трижды с силой крутанул барабан, подождал, пока он сам остановится, не глядя, достал одну из капсул, открыл её и убитым голосом прочитал: «Князь Олег Владимирович Константинов».
Все собравшиеся встали, кто-то запел «Боже, царя храни», и весь зал подхватил старый царский гимн. Тогда патриарх сказал: «Извольте к нам, ваше величество». Царь Олег поднялся на сцену. Он не выглядел ни растерянным, ни слишком радостным, он был таким же, как всегда: спокойным, доброжелательным, исполненным достоинства. Но только сейчас те, кто его знал, увидели, что его лицо лучится силой, мудростью и добротой. Это был царь. Воистину царь.
Ставров обратился к залу с самой короткой за всё своё правление речью: «Диктатура завершена. Я больше не диктатор. Надеюсь, на русской земле ни когда больше не будет диктаторов». Эти простые слова произвели на соборян очень сильное впечатление.
Ставров был в парадной форме марковцев с саблей на боку. Он встал перед царем на одно колено и двумя руками протянул ему саблю. Царь взял в руки оружие и задумчиво, как бы ни к кому не обращаясь, но так, чтобы всем было слышно, сказал: «Эта сабля спасла Россию». А потом сказал уже Ставрову: «Встаньте, Александр Иеронович, и возьмите своё оружие. Вам ещё не скоро придётся его сложить».
Соборян охватило удивительное воодушевление. Они кричали: «Да здравствует царь Олег!», «Слава Ставрову!» Они были совершенно по-детски счастливы, и ни кто в тот момент не стыдился выглядеть счастливым ребёнком.
***
Царь с семьей перебрался в Кремль, где для них уже были приготовлены покои. Через неделю в Успенском соборе Кремля состоялась коронация. Государь наотрез отказался венчаться короной Российской империи, сказав: «Я не император, и страна наша не империя. Мы – русское царство». Его венчали шапкой Мономаха. Он был в простом белом костюме и накинутой поверх него горностаевой мантии.
А как неотразимы были в тот день царица София и царевна Людмила – в простых, длинных, элегантных платьях, без каких бы то ни было драгоценностей, лишь с небольшими серебряными диадемами, украшенными русским жемчугом, на головах.
Царевич Дмитрий только что закончил юнкерское училище, получил производство в офицерский чин и поступил в Марковский полк. Он был в парадной форме марковского подпоручика, единственный из всей семьи ни чем, согласно своему положению, не украшенный, просто молодой русский офицер и всё. Но в нём было видно царевича за версту, и казалось невозможным обратиться к нему иначе как «ваше высочество».
Массы народа с восторгом приветствовали царя не просто, как отца родного, а как осуществление своей самой горячей мечты. А ведь ещё 6 лет назад те же самые люди воспринимали любые разговоры о реставрации монархии с иронической усмешкой. Ставров надеялся именно на такую перемену в людях, он 6 лет, не покладая рук, трудился над тем, чтобы эта перемена произошла, а вот теперь смотрел на счастливые лица людей и как будто не верил тому, что видит.
Конечно, он верил тому, что люди приветствуют царя искренне. Но что за этим стоит? Ну, во-первых, он не плохо потрудился, и нет ни чего удивительного в том, что результат так же получился неплохим. Во-вторых, в русских душах, искалеченных коммунистами, живое монархическое чувство не умирало ни когда. Люди и сами об этом не догадывались, но стоило им только помочь, как русское царелюбие хлынуло из подсознания в сознание. Если бы Ставров не опирался на живые свойства русской души, ни какие его титанические усилия не дали бы ни какого результата. Людей невозможно заставить любить то, что им не свойственно любить, но старая любовь, казалось бы уже совсем заглохшая, может вспыхнуть ярче прежнего. А в-третьих, и Ставров вполне это понимал, половина радости на лицах людей связана с прекращением его диктатуры.
От царя ждут послаблений, ждут смягчения некоторых жестокостей диктатуры, ждут, что он всех приголубит и обласкает. О царе, как о человеке, ещё ни чего не знали, и даже не задумывались о том, насколько он будет грозным, а насколько милостивым, знали только, что он – царь, а значит – отец родной, и он обязательно должен осушить слезы, которыми заставлял их рыдать диктатор. Иеронович считал, что это естественно, и даже очень хорошо, но это было чрезвычайно обидно.
Да, он 6 лет запугивал людей, потому что эти люди ни хрена, кроме страха, не понимали. И как будто ему нравилось смотреть, как кто-то корчится под его железной пятой. И ведь корчились только те, кому весь народ желал именно такой участи. Разве его диктатура хоть в чем-то и хоть раз была жестока к массам простых людей? А бедные школьные училки разве не корчились? А что, надо было позволить им и дальше развращать детей коммунистическими и либеральными мифами? А несчастные мелкие чиновники, которых он пачками выбрасывал на улицу, не сильно беспокоясь об их дальнейшей судьбе? Но неужели надо было позволить раковой опухоли бюрократии окончательно погубить Россию?
Каждое из своих действий он мог оправдать и объяснить, и хрен бы кто с ним поспорил, но факт оставался фактом: от его диктатуры устала вся страна, и сейчас радовались не только тому, что у них будет царь, но и тому, что у них не будет Ставрова.
На соборе ещё кричали «Слава Ставрову», но это, похоже, с тем и было связано, что он честно выполнил своё обещание и отказался от власти. А то ведь ни кто до конца не верил, что можно отказаться от такой огромной абсолютной власти. Он не дрогнул, отказался, он не юлил и не вилял, изобретая способы сохранить власть. И ему выразили по этому поводу восхищение. И он тут же стал не интересен. На коронации он был рядом с царем, но его как будто в упор не видели. Он больше не имел значения.
Ставров не раз представлял себе, как будет счастлив, когда сбудется главная мечта его жизни, и Россия вновь станет царством. И он действительно был счастлив в тот момент, когда отдал свою саблю царю. Но вскоре он почувствовал в своей душе такую страшную и мрачную пустоту, на фоне которой чувствовать себя счастливым было уже невозможно.
Ещё до коронации, на следующий день после избрания, царь назначил его исполняющим обязанности канцлера, сказав, что окончательно решит, кто будет канцлером через 3 месяца. Теперь он день и ночь вводил царя в курс дел, в деталях рассказывая, как тут у них всё устроено, какие реформы и с какими результатами завершены, какие находятся в стадии реализации, и какие результаты от них ждут. Царь всё схватывал на лету, задавал много уточняющих вопросов, но ни разу не высказал ни одного оценочного суждения. Наконец, Ставров не выдержал и спросил:
– Как вы относитесь к тому, что нами сделано, ваше величество?
– Общую идеологию ваших реформ я одобряю. Базовые принципы безусловно будут сохранены. Необходимость самоизоляции России в современном мире не вызывает сомнения. От Запада надо отгородиться так, как если бы его и вовсе не существовало. Я вырос во Франции и по-своему люблю эту страну, а потому мне особенно горько об этом говорить, но я понимаю, что это необходимо. Однако, вы полностью прекратили диалог с Западом, а я намерен его немножко возобновить, потому что Запад на самом деле существует. Надежда на то, что они забудут о России, иллюзорна. Если они будут долго биться головой о стену без малейшего результата, то как бы с ними истерика не приключилась, и тогда они не известно, каких дров могут наломать, а нам это совсем не надо.
Радикальное сокращение бюрократического аппарата я поддерживаю, хотя некоторые ликвидированные структуры мы возобновим, точнее, создадим их миниатюрные копии. А некоторые, уцелевшие при вас, напротив, ликвидируем. Только если человека вышвыривать не за то, что он плохой, а потому что он не нужен, так хорошо бы и соломки подстелить туда, где он упадёт.
Коррупция по-прежнему будет приравниваться к государственной измене и караться с не меньшей жестокостью, чем при вас. Расстреливать я, конечно, ни кого не буду. Расстреливать будет канцлер.
То, что вы отжали богачей от власти и нещадно эксплуатировали их капиталы в интересах страны – лучшее из того, что вы сделали, но приласкать бы надо наших горемычных миллиардеров, а то что-то они совсем загрустили. Тут просто психологические моменты.
Сейчас самое время заняться экономикой, а то изоляция слегка опустошила полки магазинов.
– Если покупатели теперь выбирают не из 30-и, а из 3-х сортов колбасы, так я не думаю, что это страшно.
– Во-первых, тут опять психология. Во-вторых, некоторые товары, пусть и не самые необходимые, всё-таки полностью исчезли. А, в-третьих, вы всё правильно делали, просто мы должны двигаться дальше. Экономический потенциал России ещё далеко не реализован, разумеется, вы не могли сделать это за 6 лет. Вы положили прекрасное начало импортозамещению, я эту работу продолжу.
Надо решать судьбу иностранного капитала в России, деталей я пока не вижу, но это надо делать с максимальной деликатностью по отношению к нашим заклятым врагам. Нельзя без необходимости наносить урон их самолюбию, нельзя наносить им большой экономический ущерб. Их нельзя загонять в угол, они могут стать неадекватны и начнут причинять ущерб себе, лишь бы навредить нам.
– Государь, вам легко будет выглядеть вменяемым на моем фоне. Мы с вами сыграли в злого и доброго полицейского.
– В известном смысле. Вы так закрутили гайки, что теперь даже некоторое их ослабление у многих вызовет вздох облегчения. Но вы можете не сомневаться, что ваш курс будет продолжен.
***
Прошло 3 месяца, пришло время назначения канцлера. Ставров не хотел этой должности, но считал, что канцлером может быть только он. Бывший диктатор ещё не вполне понимал, как будет играть вторую роль, но переходный период заканчивался, надо было или становиться вторым, или уходить, а Ставров так и не решил, соглашаться ли ему на должность канцлера.
Наконец царь позвал его, усадил за стол напротив себя и сказал:
– Александр Иеронович, я назначил канцлера. И это не вы.
Ставрову показалось, что его ударили палкой по душе. В первые мгновения он не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. Потом еле выдавил из себя:
– Налейте мне водки, ваше величество. Всего стакан водки бывшему диктатору России.
Государь достал бутылку водки, простой граненый стакан и пачку галет. Ставров налил стакан, выпил залпом, не прикоснувшись к галетам. Он молчал бесконечно долгую минуту. За это время дикая боль из души ушла, её сменила пронзительная тоска, но способность соображать вернулась. Вот, значит, как. Он-то думал, соглашаться ли ему на должность канцлера, а, оказывается, такого вопроса и не было. Царь его просто вышвырнул, несколькими словами обратив в пустое место. Конечно, он и сам подумывал отказаться от этой должности, но одно дело с достоинством уйти, а другое дело, когда тебя вышвырнули. Хотя, в этом ли дело? Конечно, не в этом. Дело в том, что ему лишь показалось, что он может легко уйти от власти, но он был совершенно к этому не готов. А царь хорош. Что же делать? Царь он и есть царь. Ставров посмотрел в глаза государя долгим пронзительным взглядом. Лицо монарха сохраняло полную невозмутимость. Была в нем и едва уловимая, но очень глубокая печаль. И сострадание. И понимание.
– У вас есть все резоны обвинить меня в неблагодарности, – наконец прервал молчание царь. – Вы извлекли меня из парижского небытия и сделали возможным моё венчание на царство. Вы заложили фундамент того здания, которое мне предстоит строить…
– И даже приобрел землю под строительство.
– Да. Именно так. А я удалил вас от власти… Но так надо, дорогой Александр Иеронович. Пока вы рядом со мной, русское самодержавие не может состояться. Даже если вы останетесь рядом с царской особой в качестве курьера, ни кто не усомнится в том, что страной правите именно вы. Рядом с вами царь ни когда не сможет стать царем. Это ни как не будет зависеть от вашей линии поведения. Люди, глядя на вас, видят живую субстанцию власти. Ни вы, ни я не сможем это изменить.
– Вы правы, ваше величество.
– Знаю, как много теряю в вашем лице. Думаю, что через некоторое время смогу вернуть вас к власти. Мы ещё поработаем вместе, Александр Иеронович. Да и сейчас я вас со службы не гоню. Какую должность вы хотели бы занять?
– Мы тут в одной губернии ни как не могли нормального губернатора подыскать. Назначьте меня губернатором, государь. Только сначала позвольте месяц в деревне отдохнуть.
– Хорошо. Ещё я намерен наградить вас орденом святого Андрея Первозванного.
– Отказываться не стану. Я заслужил.
***
Ставров не думал, что будет так тяжело переживать уход от власти. Ему казалось, что в душе у него поселилось жуткое черное облако, которое причиняло ему постоянную боль, высасывало из него всю энергию, мешало нормально воспринимать реальность. Всё вокруг казалось ненавистным, ни что не отвлекало и не развлекало. Он пытался молиться, но длиннее трех слов не получалось, к тому же молитва теперь причиняла ему дополнительную боль, и он решил, что боли в его душе и так достаточно.
На царя он не обиделся, во всяком случае, не нянчился со своей обидой, он понимал, что царь поступил правильно. И на Бога он не обижался, ему вовсе не казалось, что он переживает какую-то очень большую несправедливость. Он понимал, что Бог всегда прав. И царь был прав. И он, диктатор, всё делал правильно. Но его, Сашки Ставрова, как бы и не было в этих отношениях из всеобщей правоты, его живая душа была как бы и не при чем во всех этих глобальных мировых процессах. Она была мимоходом принесена в жертву. И ни кто-нибудь, а именно он сам принёс свою душу в жертву. Причем, именно мимоходом. И вот сейчас он остался один на один со своей живой, тяжело страдающей душой.
В деревне он первым делом начал приводить в порядок дом, так же мимоходом купленный им когда-то и тут же забытый. Здесь было много столярной работы, которую он теперь делал, впрочем, совершенно без увлечения. Стакан водки после обеда стал ежедневным, водка приносила облегчение. Однажды утром он встал, и всё вокруг показалось ему таким невыносимо безрадостным, что он сразу же огрел стакан водки, только бы уйти от реальности.
Дальнейшее он помнил очень смутно. Он вставал, пил, падал, просыпался, снова пил и снова падал. Впрочем, сказать, что просыпался, было бы большой натяжкой, он не приходил в себя, да он и не спал, а просто терял сознание. Потом он думал, что это длилось пару-тройку дней, оказалось, что 2 недели.
Однажды утром он проснулся и увидел перед собой доброе лицо пожилой женщины.
– Мама? – по-детски спросил Ставров.
– Тебе, наверное, мама приснилась? А я твоя соседка, Ангелина Ивановна.
– Но вы не похожи на деревенскую бабушку.
– Ты помнишь деревенских бабушек из своего детства, а я бабушка времен ставровской диктатуры. На, выпей.
– Что это?
– Пей, не разговаривай. Я не первого мужика из запоя вывожу.
Ставров выпил какой-то жуткий травяной отвар. Стало ещё хуже, и водки хотелось ужасающе, но он знал, что нельзя.
– Вы знаете, кто я? – спросил Ставров.
– Кто ж тебя, голубчик, не знает.
– И что вы думали про меня год назад?
– То, что ты хороший мужик, много полезного для людей сделал.
– Мне казалось, что меня боятся, но не любят.
– Тебя боялись. Но и любили тоже. Не все, конечно, но очень многие. По поводу твоей отставки ни кто не злорадствовал.
Ставров вдруг почувствовал неудержимую тошноту и едва успел добежать до туалета. Возвращаясь, он понял, что ноги его не держат и без сил рухнул на кровать.
– Хорошо, что вырвало, – сказала Ангелина Ивановна. – Теперь поспать бы тебе надо. Выпей вот это.
Ставров опять что-то выпил. Сон не шёл, но говорить не было сил. Наконец, он уснул, и это был настоящий сон, а не пьяная отключка.
Когда он проснулся, Ангелина Ивановна была по-прежнему рядом. И по-прежнему зверски хотелось выпить, но он уже знал, что не возьмёт ни капли в рот, включились психологические механизмы самоконтроля. Теперь у него, кроме отставки, была ещё одна проблема – запой, и он сконцентрировался на устранении этой проблемы.
Едва только почувствовав, что кое-как может держаться на ногах, он вышел на улицу, увидел чурки, колун, и принялся колоть дрова. Его шатало, он не попадал по чурке, колун валился из рук, он обливался токсичным потом, но продолжал работу, вечером рухнув в полном изнеможении. На следующий день он уже почувствовал в себе некоторую силу и работал сноровисто, с огоньком. Ангелина Ивановна сидела на крыльце и тихо улыбалась, глядя на него.
– В прошлый раз мне наколол дров на зиму будущий царь, а в этот раз – бывший диктатор. Чудны дела Твои, Господи.
– А до этого как вы сами кололи дрова?
– Примерно, как вы в первый день.
– Я пошлю к вам человека, он все ваши хозяйственные проблемы порешает, – сказал Ставров и вдруг понял, что ни кого и ни куда он уже не пошлет, что у него во всей России больше нет ни одного подчиненного, и губернатором он если и будет, то очень далеко от этих мест. – Что-нибудь придумаем. У меня ещё есть друзья. Если есть, конечно.
Оказалось, что есть. На следующий день в деревню на джипе прикатили Мозгов и Бабкин.
– Ты как? – спросил Мозгов.
– Хреново, – ответил Ставров.
– Я думал, будет хуже. Мы с Бабкиным собирались тебя скрутить и отвезти в наркологию.
– Уже вся Россия знает, что Ставров в запое?
– Не вся, конечно. Но у старушек есть мобилки.
– Мужики, надо бы их на попечение взять.
– Он всё забыл, – рассмеялся Мозгов. – Саша, это теперь не заброшенная деревня, а царская дача. Тут дрова и без тебя бы покололи.
– Значит, и за этим я не нужен. Ну что ж, пора вступать в управление отдаленной губернией.






