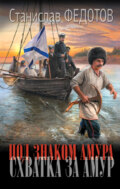Станислав Федотов
Под знаком Амура. Благовест с Амура
– Байярд говорил, что ее отравило письмо из России, – услышала она за спиной напряженный голос Коринны и так резко обернулась, что та растерялась и торопливо пояснила: – Подробностей я не знаю, об этом лучше расскажет комиссар Коленкур – он в полиции занимался этим делом, – но Анри мне сказал, что не успокоится, пока не отомстит человеку, приславшему это письмо. С тем и уехал.
– Куда? В Россию?
– Ну раз письмо оттуда…
– А где я могу найти Коленкура?
– Наверное, в окружном комиссариате, в Бержераке, – сказал Байярд, тоже стоявший за спиной Коринны.
– Я хочу его немедленно увидеть. Роже, вы можете меня отвезти в Бержерак?
– Разумеется, мадам. Уже иду запрягать.
3
Комиссар Жозеф Коленкур сидел в своем кабинете в старом здании полицейского комиссариата на улице Сен-Эспри и читал газету. Нельзя сказать, что у него не было никаких дел – у полиции они есть всегда, но комиссару уже ничем не хотелось заниматься, поскольку время близилось к ежевечернему бокалу красного бержеракского Petit-Champagne Montbazillac[9] в кафе «Сирано» на набережной Сальвет. Там так приятно посидеть часок под скульптурой поэта с задранным носом, покуривая сигариллу, прихлебывая прохладное вино, мелкими иголочками покалывающее кончик языка, и совсем не думать, допустим, про украденное на Плас Бельгард столовое серебро.
В дверь постучали, и не успел комиссар недовольно сказать «Войдите!», как ее резко дернули, открывая, и в проеме показалась женская фигура в элегантном дорожном платье. Черная вуалетка, спадающая с небольшой шляпки, наполовину прикрывала лицо, но опытные глаза комиссара мгновенно ухватили главное: посетительнице не больше двадцати семи лет, неместная и необычайно взволнована, принадлежит к высшим слоям общества. Последний вывод не радовал – чисто из личных соображений. Жозефу Коленкуру изрядно надоело подтрунивание полицейской братии над его аристократической фамилией[10], из-за которой сослуживцы за глаза называли его дивизионным генералом.
Комиссар встал и поклонился. Положение обязывало.
– Комиссар Коленкур? – Приятный голос слегка дрожал, подтверждая волнение хозяйки.
Он снова поклонился:
– С кем имею честь?
– Екатерина Муравьева, жена генерал-губернатора из России.
У комиссара отпала нижняя челюсть. Он не поверил своим ушам. Дело об отравлении мадам Дюбуа письмом генерала Муравьева было, пожалуй, самым значительным и интересным за всю его двадцатипятилетнюю службу в полиции, он страстно желал докопаться до его корней и схватить преступника за руку, однако два обстоятельства свели к нулю весь его энтузиазм. Во-первых, муж погибшей категорически воспротивился вмешательству полиции, заявив, что знает, где найти преступника, и сделает это сам. Во-вторых, префект Сюртэ[11] Аллар отказал Коленкуру в командировке в Россию, сославшись на отсутствие средств. С этим не поспоришь, c’est la vie[12]. Комиссар и не огорчился, что занимательное путешествие не состоялось, потому что обнаружил одну деталь, которая заставила его сначала глубоко задуматься, а чуть позже порадоваться, что по указанию Аллара дело вовсе закрыли, хотя о нем нельзя было сказать «L’affaire est dans le sac»[13]. О детали этой комиссар предпочел никому не рассказывать. Потому что quand la sante va, tout va[14], а деталь эта пахла большими неприятностями. Именно для здоровья.
А сейчас жена автора того злополучного письма (хотя точнее следовало бы говорить «предполагаемого автора») стояла перед ним, и глаза ее сверкали решимостью.
– Мне известно, что вы, месье, вели дело об отравлении мадам Дюбуа. Мне хотелось бы увидеть письмо, которое убило мадам. Оно действительно из России?
Коленкур смутился. Конечно, письмо написано по-русски и подпись там генерала Муравьева, но…
– Вы садитесь, пожалуйста. Видите ли, мадам, я не могу это утверждать с полной достоверностью…
– Почему? – спросила Муравьева, садясь на стул у рабочего стола комиссара. Сам Коленкур остался стоять, ссутулившись и опираясь на стол костяшками пальцев. Он был худощав и высок; все его знакомые были ростом ниже, и ему почему-то всегда хотелось быть как все, поэтому он привык сутулиться.
– Позвольте мне сказать об этом чуть позже. А пока я могу вас познакомить с фотографической копией. Само письмо, тщательно запечатанное, находится в архиве Сюртэ. Яд, которым оно пропитано, остается опасным для жизни. Муж погибшей хотел оставить письмо себе, но префект Аллар категорически воспротивился. Ему также отдали фотографическую копию.
– Давайте вашу копию.
Коленкур открыл железный шкаф, достал из папки белый лист и подал Муравьевой. Сам опустился на стул, взялся было за газету, но тут же отложил ее в сторону.
На плотной бумаге отпечатался сероватый прямоугольник с более темными буквами текста. Катрин заглянула в конец, туда, где в правом нижнем углу были слова «Генерал-губернатор Восточной Сибири» и подпись – «Николай Муравьев».
– Это писано не рукой моего мужа, и подпись не его. – Ее губы скривились в презрительной усмешке. – Кто-то сработал очень грубо.
– Нечто подобное я и предполагал, – заметил Коленкур и, протянув руку, поспешно добавил: – Давайте сюда. Остальное можно не читать.
– Нет уж, позвольте, я прочту. Все-таки интересно, что могут написать от имени генерала Муравьева женщине, о которой он, скорее всего, никогда и не слышал.
Комиссар заерзал:
– Мадам, содержание может вас… гм… покоробить и даже оскорбить…
– Вот как? Тем более любопытно.
Однако чем дальше она читала, тем бледнее становилось ее красивое лицо. Это было заметно даже под вуалеткой. (Наверное, дошла до слов о попытке изнасилования, подумал Коленкур, и о том, что об этом сказала Христиани.) А потом кровь бросилась на щеки, рука, держащая бумагу, бессильно упала на колени, и Коленкур услышал искаженный болью шепот:
– Боже мой! Элиза! Этого не может быть!
Минуты две она сидела, устремив глаза на герб Бержерака, висевший на стене. Комиссар тоже посмотрел – что там остановило ее взгляд? Лилии на левой, голубой половине щита? Вряд ли. Золотой дракон на правой, красной половине? Красивый и коварный зверь… Элиза?! Та самая, на которую ссылается автор письма!
– Кто такая Элиза? – осторожно спросил Коленкур. Муравьева не ответила. – Близкий вам человек?
Мадам! – Он повысил голос, чтобы встряхнуть впавшую в сомнамбулическое состояние женщину.
– Что? Вы что-то сказали? – очнулась она.
– Простите, что приходится напоминать, скорее всего, о крайне неприятных для вас вещах, но необходимо разобраться до конца. Думаю, что это – в ваших интересах.
– Да, да, – кивнула Катрин.
– То, что написано в письме, правда?
– Конечно же нет! – возмущенно воскликнула Катрин, однако сразу поправилась: – Да, Анри… то есть господин Дюбуа был сильно огорчен… расстроен моим замужеством и… сделал попытку меня вернуть… Но я отказалась! Все было в рамках пристойности!
Последние фразы она произнесла громко и резко, почти выкрикнула. Коленкур сочувственно покивал:
– И вы рассказали все вашей наперснице Элизе, а она, выходит, кому-то еще, и эти сведения докатились до Парижа.
Муравьева удивленно воззрилась на комиссара:
– До Парижа?
– Да, мадам. Кому-то очень хотелось, чтобы Анри Дюбуа очертя голову помчался в Россию мстить за жену… и за вас. – Коленкур помолчал, обдумывая, стоит ли быть до конца откровенным с этой милой женщиной, ведь его истина может стать для нее, а возможно, и для него, просто опасной. Но тут ему пришло в голову, что опасность для нее реальна в любом случае и лучше предупредить. Как известно, предупрежден – значит, вооружен. И – решился. Но сначала встал, прошел до двери, выглянул в коридор и, плотно прикрыв створку, вернулся на место. И говорил уже не так громко.
– Я предполагаю, мадам, может быть, даже знаю, кому хотелось подтолкнуть Дюбуа, но называть не буду. Не могу и не имею права. Скажу лишь, что конвертами, в одном из которых было прислано отравленное письмо, пользуется некое секретное учреждение.
– Судя по тому, к чему склонял меня Анри Дюбуа, я догадываюсь, какое это может быть учреждение, – холодно произнесла Муравьева.
– Мадам! – Комиссар, остерегая, поднес указательный палец к губам.
Муравьева понимающе кивнула и, понизив голос почти до шепота, спросила:
– Если дело закрыто, я могу взять копию письма? Она мне может понадобиться в России.
– Возьмите. И будьте крайне осторожны. – Коленкур также говорил вполголоса. – Вы когда намерены быть в Париже?
– Еще не знаю. Муж вернется из Испании – наверное, после этого… – Катрин замялась. Комиссар был ей симпатичен, располагал к себе откровенностью, которая, как она считала, несвойственна служащим в криминальной полиции, но ей не хотелось раскрываться перед ним больше того, что он уже знал из письма. Потому и заключила: – Нет, пока сказать не могу.
Он, кажется, понял ее настрой, неоднозначность этого «сказать не могу» и не обиделся, а четко произнес, назидательно подняв указательный палец:
– Пожалуйста, не забудьте про осторожность. Что-то мне подсказывает, что у вас могут быть сложности.
– В Париже? – уточнила Катрин.
– Они могут быть в любом городе, в любой коммуне, но в Париже вероятнее всего.
4
Мысль о предательстве Элизы горячей иглой колола сердце Катрин, и ей стоило большого труда не показывать Николя своих расстроенных чувств. Еще ее тревожило то, что Анри уехал в Россию и снова будет угрожать Николя, но ни о письме, ни о своей поездке в шато Дю-Буа и Бержерак она ему ничего не сказала. Подумала, еще успею, до возвращения в Россию времени много; может быть, что-то изменится. Впрочем, муж ничего и не замечал: он был весело возбужден после возвращения из Испании, где встретил бывшего члена ревизионной комиссии сенатора Толстого Ивана Демьяновича Булычева, который буквально затащил его на корриду, и, к немалому удивлению Николая Николаевича, бой быков ему не показался столь уж отталкивающим.
– Представляете, – рассказывал он за обедом внимательно слушавшим родителям Катрин, – я-то думал, что это просто испанская резня, утоление жажды крови после запрещения дуэлей на шпагах, а оказалось – настоящее искусство, балет на грани жизни и смерти. Волнует необычайно!
– А вас, Николай, не волнует напряженность отношений России с Османской империей? – вежливо поинтересовался Жерар де Ришмон, ловко разделывая вилкой и ножом жареного кролика, традиционное обеденное блюдо в семье де Ришмон. (Этих кроликов в поместье и окрестностях была тьма-тьмущая.) – Как пишут наши газеты, русская армия под командованием князя Михаила Горчакова третьего июля вступила на территорию Молдавии и Валахии, которые находятся под турецким суверенитетом. Насколько я понимаю, до войны остается только шаг.
– Ну воевать с Россией у турок кишка тонка, – нахмурясь, сказал Муравьев. – Мы их бивали не раз, и надо будет – еще побьем.
– Тем не менее, когда чрезвычайный посланник вашего императора князь Меншиков потребовал от турецкого султана в пятидневный срок заключить с Россией договор, передающий православное население Османской империи под покровительство российского императора, османы отклонили этот ультиматум. Их не остановил даже разрыв дипломатических отношений.
– Я читал об этом в немецких и французских газетах. – Голос генерала стал сух и холоден. – И помню слова князя перед отъездом из Константинополя: «Отказ Турции дать гарантии православной вере создает для императорского правительства необходимость отныне искать ее в собственной силе».
– У вас хорошая память, Николай, – заметил Жерар де Ришмон.
– Благодарю. Но хорошую память не мешало бы иметь и тем, на чью помощь в войне с Россией рассчитывает Турция. Позиция России благородна, она хочет помочь единоверцам, стонущим под игом магометан.
– Да-да, – поддакнул Жерар и добавил нейтральным тоном: – А в качестве бонуса получить проливы из Черного моря в Средиземное.
Лицо Муравьева пошло красными пятнами, и Катрин поспешила вмешаться:
– Николя, папа, давайте оставим политику тем, кто ей занимается. Мы же говорили про корриду. Николя, ты так вдохновенно о ней декламировал. «Балет на грани жизни и смерти» – это же настоящая поэзия!
Ей самой было противно от своей фальши, но ничего другого в этот момент она придумать не смогла. А отец тем временем невозмутимо поглощал жареного кролика, запивая легкое мясо превосходным рубиновым «Сен-Эмильон».
Катрин продолжила отвлекающий маневр:
– Ты знаешь, я корриду видела еще девочкой, и она мне ужасно не понравилась. А вот сейчас, после твоих слов, мне снова захотелось ее посмотреть.
– О да! – поддержала дочь Жозефина де Ришмон. – Вы, Николя, тайком от жены стихи не сочиняете? Попробуйте, у вас должно получиться, не все же время заниматься государственными делами.
Слушая простодушную женскую болтовню, Муравьев постепенно остывал. Он залпом осушил бокал бордосского и принялся за остывшего кролика.
– Ты обязательно напиши об этом брату Валериану, а то он у себя в Олонецкой губернии ни о чем подобном и не слыхивал, – окончательно выдыхаясь, закончила Катрин.
Николай Николаевич оторвался от еды:
– Конечно, напишу, давно ему не писал. А ты – Элизе.
– А ей-то о чем писать? О Франции? Приеду – расскажу.
– Пожалуй, – согласился муж, наливая себе вина и, как ей показалось, не особенно вникая в ее слова. И тут она подумала, что после всего, что узнала от Коринны и Коленкура, вряд ли ей захочется встречаться и разговаривать с Элизой.
– Впрочем, – вдруг усмехнулась Катрин, – я все-таки ей напишу Есть чем поделиться, не дожидаясь встречи. И ты Александра что-то совсем забыл.
– Да-да, и ему черкану.
Про Александра Катрин помянула совершенно напрасно: Николай Николаевич братьев не забывал, переписка с ними не прерывалась, где бы он ни находился. Муравьев умел и любил писать письма – обстоятельные, рассудительные, часто философические. Это особенно чувствовалось в письмах к Валериану, с которым у старшего брата были все-таки более теплые отношения. Катрин как-то сказала шутливым тоном:
– Николя, у тебя будет чем заняться на старости лет: ты напишешь замечательные мемуары, которыми будут зачитываться и через столетие.
На что муж ответил очень даже серьезно:
– Я их напишу лишь в том случае, если исполню все задуманное. Только тогда я буду иметь право на мемуары.
Николай Николаевич не любил откладывать что-то намеченное в долгий ящик, поэтому уселся за письма сразу после обеда. Настроение его оставалось прекрасным, и это не могло не найти отражения в тексте.
«Вообще я очень доволен настоящим моим путешествием, – писал он Валериану, который был в то время Олонецким гражданским губернатором. – Оно рассеяло меня от вечных трудов и забот, рассеяло многие неприятные впечатления по службе и оставило во мне лишь необходимое для службы, то есть твердое намерение употребить все мои силы и способы в пользу Государя и Отечества, и укрепило убеждение, что в России лучше, чем во всех других частях Европы».
Екатерина Николаевна, которой частенько доводилось перебеливать бумаги мужа или работать под его диктовку, когда у него болела покалеченная правая рука, а левой писать ему не хотелось, всегда поражалась его умению (а может, потребности) соотносить свои действия и замыслы с интересами императора и всей России. У Муравьева это было так естественно, без малейшей фальши, натянутости и выспренности, что она невольно проникалась его гражданскими чувствами и нередко всей душой становилась на его сторону, порою даже в сомнительных, на ее взгляд, прожектах. Правда, она старалась свои сомнения не таить, а высказывать мужу в глаза, что заставляло его иногда «бегать по потолку», но она считала, что это для него полезно. Заставляло взглянуть на себя несколько иными глазами. Так случилось, когда после путешествия в Камчатку и знакомства с Завойко, построившим Аян, он загорелся обустроить Аянский тракт, заселив его крестьянскими, главным образом старообрядческими, семьями. Все равно, мол, их везде притесняют, а там никто не тронет и даже, наоборот, при усердном надзоре за трактом они получат многие льготы.
Об этом прожекте весьма неодобрительно отозвался Дмитрий Иринархович Завалишин, резонно посчитав, что на диких, в основном болотистых, землях вдоль Аянского тракта крестьянское хозяйство развить невозможно, а значит, переселенцы либо сбегут, либо погибнут, и потраченные средства будут выброшены на ветер. Екатерина Николаевна сама вслух прочитала его письмо и тут же высказала свое одобрение старому декабристу.
Описать гнев мужа, который в мечтах уже представлял тракт чуть ли не европейского вида, она не смогла бы даже теперь, спустя три года. Буря, шторм, ураган – близкие, но все равно недостаточные сравнения. Досадуя на всех противников прожекта, Николай Николаевич так-таки добился в Петербурге его одобрения; крестьян переселили, но Завалишин оказался прав: затея провалилась. На распаханных землях ничто не хотело расти, переселенцы голодали, построенные мосты сносило паводками… Тем не менее крайне расстроенный Муравьев не захотел признавать ошибку – он объяснил неудачу неблагоприятным стечением природных обстоятельств и недостаточным в борьбе с ними упорством крестьян. На Екатерину Николаевну он не обиделся, по крайней мере никогда об этом не заговаривал, а вот Завалишину, похоже, критику не простил, и недовольство комментариями Дмитрия Иринарховича по поводу новаций генерал-губернатора нет-нет да прорывалось то в одном месте, то в другом. Дело неторопливо, но верно шло к разрыву их отношений.
…А Катрин в своем письме Элизе была жестка и непреклонна, что совсем на нее не походило. Она легко поняла, кому понадобилось снова отправить Анри в Россию, чтобы охотиться за генералом Муравьевым, – господам из разведки, которые через Анри пытались дотянуться до нее. Да, приходится признать – они сумели дотянуться через Элизу (подлая предательница!), да вот только лапы свои обожжете, merde canine[15]!
«…Не трудитесь оправдываться, – написала Катрин в письме, – я вас вычислила и поняла, что вы и в Иркутске-то появились с определенным заданием – подобраться как можно ближе к моему мужу, чтобы выведывать государственные секреты. Уезжайте немедленно! Придумайте что-нибудь, чтобы объясниться с бедным Иваном Васильевичем, и уезжайте. Это нужно для вашего же блага, потому что я буду вынуждена все рассказать Николаю Николаевичу, а он церемониться со шпионкой не станет. Мне же вас жаль – я к вам привыкла и чрезвычайно привязалась. И порываю с вами не из-за того, что боюсь вас – хуже того, что вы сделали для меня, уже не будет, – но ваши сведения обо мне были использованы для убийства чудесной невинной женщины. Поэтому я с великой болью, и навсегда, вырываю вас из своего сердца…»
Стоит ли говорить, что каждая строчка этого письма сопровождалась слезами презрения – главным образом к самой себе, – слезами горечи и сожаления. Катрин оплакивала свою наивную молодость, которая так быстро и так неожиданно закончилась.
5
Предсказанные Коленкуром сложности проявились сразу после отъезда генерала Муравьева из Парижа в Лондон. Вернее, даже немного раньше – на следующий день по приезде в Париж.
Остановились Муравьевы у тетушки Катрин Женевьевы де Савиньи, которая недавно овдовела. Узнав о приезде племянницы, она пригласила супругов погостить у нее в собственном доме на Рю Мазарен. Бог мой, обрадовалась Катрин, там же все рядом! Латинский квартал, Люксембургский дворец и сад, Сорбонна, Пантеон… Пять кварталов до Нотр-Дам – чудесная пешая прогулка! А через Сену, по Новому мосту, рукой подать до Лувра, Публичного сада, театра Комеди Франсэз. И, разумеется, до модных магазинов и кофеен Риволи!
– Николя, дорогой, ты помнишь, как мы с тобой обошли весь Иль-де-ла-Сите? – спросила она, любуясь в окно: слева – островерхими башнями Консьер-жери, справа – монументальными Нотр-Дама, выглядывающими из-за крыш домов на Рю Дофин и Рю де Савуа.
– Да, – откликнулся отдыхающий в кресле Николай Николаевич. Он только что выдержал обстрел дотошными вопросами тетушки Женевьевы, стремившейся вызнать все досконально о муже своей любимицы, и чувствовал себя до крайности измотанным. – Где-то там мы с тобой обнаружили оружейную лавку и вдоволь постреляли. Кстати, надо будет ее найти и запастись патронами к нашим лефоше. Ты свой нигде не забыла?
– Разумеется, нет. – Екатерина Николаевна опечалилась, вспомнив о том, что один револьвер был подарен мужем Элизе Христиани, и вдруг оказалось, что она даже неплохо стреляет. Как странно, что тогда это никого не насторожило. Наоборот, все порадовались такому умению. – Дороги полны неожиданностей даже в благовоспитанной Европе.
– Это верно, – заключил муж. Он-то имел в виду недавний случай на Лазурном берегу, о котором не рассказывал впечатлительной жене.
Там во время вечерней прогулки в курортном парке с князем Гагариным их вздумали ограбить трое то ли бандитов, то ли клошаров. Князь посоветовал не сопротивляться и отдать портмоне, но Николай Николаевич вынул револьвер, который носил в специальной петле под полой сюртука, и одним выстрелом в воздух заставил нападавших бежать без оглядки. Князь был безмерно удивлен предусмотрительностью генерала, но горячо одобрил ее, когда Муравьев рассказал про покушение на него в Петербурге зимой 1848 года; именно после этого он и придумал иногда скрытно носить револьвер. Это все-таки удобней, чем ходить с саблей.
Екатерина Николаевна после поездки на Камчатку также брала лефоше с собою в любое, даже кратковременное, путешествие. Но не прятала его в одежде, а держала в своей ручной сумке. Тяжеловато, конечно, однако – надежно. Хоть и хороша русская поговорка «Береженого Бог бережет», но куда лучше «На Бога надейся, а сам не плошай». Тоже русская, между прочим.
Утро следующего дня было превосходным. После общего с тетушкой завтрака, за которым Женевьева де Савиньи, изящная сорокалетняя блондинка, блистала парижским остроумием, Муравьевы в наилучшем расположении духа отправились на прогулку по Рю Дофин к острову Сите. Оружейная лавка нашлась на набережной Гран Огюстен между Новым мостом и площадью Сен-Мишель. Удивительно, но ее хозяин вспомнил их посещение, с удовольствием выслушал россыпь похвал револьверам лефоше и продал несколько коробок патронов со значительной скидкой.
Но когда, уставшие и довольные они вернулись домой, в Женевьеве обнаружилась резкая перемена: она стала мрачной и желчной и заявила Катрин, что у нее внезапно обострилась болезнь печени, и племяннице придется пробыть какое-то время сиделкой.
– Вы говорили о поездке в Лондон, – лежа в постели, тяжело дыша и кривясь от боли, сказала она Муравьевым, обращаясь главным образом к зятю. – Боюсь, мон шер, вам придется съездить туда одному. В моем недомогании бывает ряд интимных моментов, которые лучше доверить близкой женщине, и приезд Катрин оказался очень кстати. А в Лондон я возила ее еще девочкой, так что она много не потеряет. Вы уж простите…
– Жаль, очень жаль, – скрывая недовольство, отозвался Николай Николаевич. – У нас были планы и по Парижу.
– Дорогой, мы сделаем так, – вмешалась Екатерина Николаевна, – ты сейчас поедешь в Лондон и выполнишь все задуманное, а когда вернешься – думаю, тетя уже выздоровеет.
– Обязательно выздоровею! Не будь я покровительница Парижа![16] – воскликнула больная со страдальческой улыбкой.
Катрин ободряюще улыбнулась ей в ответ, а Муравьев вздохнул:
– Хорошо. Тогда я не буду терять время и ближайшим поездом выеду в Кале, а там и в Англию.
– Катрин, девочка моя, пошли мажордома заказать для Николая место в вагоне первого класса, – слабым голосом произнесла Женевьева и утомленно откинулась на подушки, всем своим видом показывая, что чрезвычайно устала.
Муравьев поспешил выйти из спальни.
Наутро он с женой прибыл на вокзал Гар-дю-Нор. Маленький, тесный, битком набитый пассажирами и провожающими, он произвел на Катрин угнетающее впечатление. Ей вообще было как-то не по себе, томило нехорошее предчувствие, но она отнесла это на счет болезни тетушки и разлуки с мужем. А может быть, просто отвыкла в глухой провинции от шумной столичной жизни. Катрин проводила Николя до вагона, помахала ему на прощанье и, торопливо пробравшись сквозь суетливо-бестолковую толпу пассажиров и провожающих, вышла на Рю Сен-Кентен, чтобы остановить свободный фиакр – до Рю Мазарен путь был неблизок.
На подъехавшую к тротуару крытую повозку она не обратила внимания, ей хотелось ехать в открытом экипаже, чтобы любоваться парижскими улицами и до возвращения к постели больной вдоволь подышать свежим воздухом. Однако дверца фиакра распахнулась, из его темного нутра высунулись две руки в черных кожаных перчатках, ухватили Катрин за рукава платья, и не успела она опомниться, как оказалась на ковровом сиденье между двумя мужчинами в одинаковых черных сюртуках и цилиндрах.
Катрин открыла рот, чтобы позвать на помощь, но губы и нос зажал пахнущий чем-то неприятным платок, перед глазами проплыло усатое лицо с холодными глазами, и сознание покинуло ее.
Очнулась Катрин от легких пошлепываний по щекам. Видимо, обморок ее длился недолго, потому что она все еще находилась внутри экипажа – только он теперь стоял, и дверца была открыта. Шлепал ее по щекам тот самый усатый. Второго в фиакре не было.
– Я закричу, – сказала Катрин и вцепилась в руку усатого.
– Кричите. – Усатый равнодушно пожал плечами и вдруг ловким движением вывернул свою руку из пальцев Катрин, схватил ее за локоть, дернул и вытолкнул из экипажа.
Тело Катрин молнией пронзил острый испуг – ей на мгновение показалось, что она сейчас упадет навзничь на булыжники мостовой и разобьется, но в тот же миг сильные мужские руки подхватили ее и поставили на ноги.
– Благодарю, – машинально сказала она. Подняла голову и увидела немного ошалелые бледно-голубые глаза под черными полями цилиндра.
– Скажи-ка мне, Франсуа, – обратился нечаянный кавалер Катрин к усатому, выпрыгнувшему из экипажа, – тебя когда-нибудь благодарили задержанные дамы?
– Что-то не припомню такого, – хмыкнул Франсуа. – Брань площадную слышать доводилось – и от мужчин, и от женщин, а благодарности, пардон, никогда.
– Так я задержана? – вспомнив предупреждение Коленкура, спросила Катрин и огляделась по сторонам. Они находились в небольшом, почти квадратном внутреннем дворе, с трех сторон его окружали стены трехэтажного здания – все окна первого этажа перехвачены решетками, – с четвертой были глухие высокие ворота, через которые, видимо, фиакр и въехал. – Хотелось бы узнать – за что?
– Да, собственно, чего нас благодарить? – продолжал разглагольствовать усатый Франсуа, не обратив на вопрос Катрин никакого внимания. – Работа у нас с тобой, Жанно, так и называется – неблагодарная.
– Пройдемте, мадам, – указал Жанно на невысокое крыльцо, подпирающее массивную дверь, возле которой на цепочке висел деревянный молоток. – Там все узнаете.
К двери вели три каменные ступени. Жанно поднялся первым и постучал молотком в дверь – не простым стуком, а замысловатым. Катрин внутренне усмехнулась: надо же, целая, можно сказать, крепость, а все же чего-то опасаются. Она почему-то не чувствовала страха – ни от произошедшего, ни от предстоящего, которое пока что было покрыто мраком неизвестности.