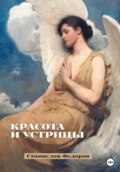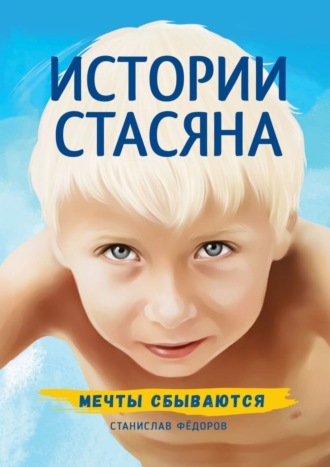
Станислав Федоров
Истории Стасяна. Мечты сбываются
Дружба вместо Олимпиады
Олимпиада в Москве 1980 года прошла мимо нас, ведь мы в это время были в Каире. Вернувшись в Москву в 1981-м, я увидел отголоски прошедшей Олимпиады. Символика повсюду, Олимпийская Деревня с первым в Союзе универсамом самообслуживания за Очаковским прудом, киоски «Пепси» и прочее.
И вот в 1984 году следующая Олимпиада, уже в США. Социалистические страны решили не ехать на Олимпиаду, а провести свои Игры Дружбы в отместку за бойкот западными странами московской Олимпиады. Папа повел меня смотреть Игры Дружбы на стадион в Лужники. Там проходили соревнования по легкой атлетике.
Мне думалось, интересно посмотреть, но оказалось – скучновато. Спортсмены долго готовятся, потом недолго бегут или прыгают, ничего не происходит, солнце светит в глаза. Я сделал вывод, что смотреть соревнования по телевизору интереснее. Там и комментаторы, и повторы, и как-то все поживее, чем в реальности.
Русская дорога*
Летом 1984 года я и мой двоюродный брат Костя ехали в поезде вдвоем. Мне было полных восемь, а Косте пятнадцать лет. В пять часов утра поезд делал остановку на полустанке в Калининской (Тверской) области. На одну минуту. Мы боялись проспать. Все прошло хорошо, и мы под руководством проводницы успешно вышли из вагона. Нас должен был встречать наш московский дед Вася, но его не было на полустанке. Поезд ушел, а мы остались одни. Густой непроглядный лес, куда ни глянь. На полустанке никого и ничего не было. Тишина и легкий туман.
Костя сказал мне: «Прислушайся, слышишь?» Где-то далеко в лесу еле слышно тарахтело. Костя предположил: «Это дед едет на тракторе». Следующие полчаса тарахтение усиливалось и приближалось. Наконец появился оранжевый корпус гусеничного трактора с большим прицепом. Тракторист лихо управлял рычагами, а рядом с ним в кабине сидел дед. Они приехали за нами.

Деревенский дом деда находился всего в десяти километрах от полустанка, но дорога на тракторе занимала около двух часов. Проехать на машине было нельзя, так как не было пригодных дорог. Болотистая местность. Дорога через лес представляла собой очень глубокую колею, во многих местах затопленную водой. Дорога была непрямой – обходила топкие места. Ехать по ней по силам только гусеничному трактору.
В кабине было тесно даже двоим, поэтому Костя и я поехали в прицепе с высокими бортами. Трактор шел с трудом, вода полностью скрывала гусеницы и доходила до кабины, прицеп на больших колесах вяз в грязи, и трактор огромным усилием сдергивал его с места за собой, черный дым вырывался вверх ракетой. Грохот от двигателя трактора стоял оглушающий. Прицеп постоянно дергало. Поэтому нужно было следить, чтобы не выпал металлический «палец», сцепляющий трактор и прицеп.
Костя рассказывал, как в прошлый его приезд «палец» выпал и трактор уехал вперед без прицепа. Кричать было бесполезно – грохот двигателя заглушал крик. Только через 15 минут дед заметил отсутствие прицепа за собой и они вернулись за прицепом. Костя придумал в этот раз использовать длинную удочку вместо крика. Поэтому когда мы увидели, что «палец» наполовину вылез, Костя стал бить удочкой по крыше впередиидущего трактора. Тракторист остановился и кувалдой загнал «палец» обратно на место. Тракторист за поездку на совхозном тракторе за нами получил от деда плату – полбутылки водки. Такие были расценки и «валюта».
Русская деревня
Места здесь глухие, вокруг один лес и болота, поэтому тут могут скрываться беглые. Сбежавшие из тюрьмы. Так объяснял обстановку дед. Деревня Волосово всего в 250 километрах на север от Москвы, но была заметно отрезана от цивилизации. Электричества не хватало. Лампы еле светились. Когда в совхозе доили коров (три раза в день) доильными аппаратами «Елочка», то электричество в деревне пропадало совсем, а гул аппаратов слышно было хорошо. Местные произносили название деревни, ставя ударение на второй слог: Волосово.
Дед купил дом по случаю за 100 рублей (почти даром) у незнакомой женщины из этой деревни. Небольшой старый бревенчатый дом с одной комнатой внутри. Дом постепенно заваливался на бок из-за тяжелой кирпичной печи. Пол уже имел очень сильный наклон к печи, поэтому пользовались табуретками с тремя ножками. Одну ножку обязательно ставили в сторону печки. На четырех ножках сидеть было опасно и неудобно из-за наклона. У дома был подпол, пристроенный крытый двор для скотины, огород и палисадник, резные наличники на окнах.
В деревне стояло много домов по обеим сторонам очень широкой проселочной дороги. Выносили помои из домов и выливали из ведра прямо на дорогу. Ближе к вечеру гнали скотину по этой дороге сквозь деревню, и местные приманивали и забирали своих овец и коров по дворам из общего стада. Деревенское стадо пасли по очереди. Кто-то даже держал бычка. У него между ноздрями было продето кольцо. Дети пугали им друг друга.
Вместе со скотиной прилетали и полчища насекомых. Вечером деревню захватывали миллионы, если не миллиарды, комаров. На улицу было нельзя выйти без перчаток. Кутаться приходилось полностью. Оставленный неприкрытым нос тут же атаковали злые кровопийцы. Комариный писк в деревне можно было сравнить по мощи с гулом доильных аппаратов.
Рыбалка «телевизором»
В местной речушке было полно рыбы. Щука, окунь, карась. Сначала мы ловили карасей на удочку и «телевизор». «Телевизором» называлась небольшая самодельная сеть примерно метр на метр. Костя сплел её из лески. «Телевизор» опускался в реку поперек течения, и рыба сама застревала в ячейках. Ловить сетью запрещалось, поэтому «телевизором» пользовались скрытно.
Потом пойманных карасей использовали для ловли щуки на живца. Костя расставлял на речке свои самодельные донки (донная удочка) с резинкой. На каждой по несколько крючков, на них вешали карасиков и опускали в воду. Я помогал Косте в этом деле. Самих донок было пять или шесть. Через несколько часов шли по берегу и собирали улов. Улов всегда был солидным: три-четыре щуки – и так каждый день. Попадались и очень крупные рыбины. Столько рыбы было некуда девать. Холодильника не имелось. Часть готовили себе, а остальное раздавали соседям и местным кошкам.
Донки были произведением искусства – автоматически ловили рыбу и поднимали флажок в случае успеха. Это было сделано руками 15-летнего мальчика Кости. Моего двоюродного брата. Никто его не учил, он сам находил решения и воплощал в жизнь. Для него не существовало технических проблем. Он мог сам выточить нужный ему инструмент, например челнок для плетения сети или специальный острый нож для рыбы, и потом для него сделать красивые деревянные лакированные ножны. Это только малая часть технических чудес Кости. Я восхищался братом, его талантом.
Убить брата
С Костей было интересно, но иногда я буквально мечтал о его смерти. Костя дразнил, хитрил, издевался, оставлял меня в дураках на словах и в поступках. Например, мог незаметно подсыпать соль мне в чашку чая. Или шантажировать печатью моих детских фотографий в неглиже. Мог подстроить мне ловушку: я запирался от него в комнате на шпингалет, и тут оказывалось, что он системой хитрых ниток мгновенно открывает его снаружи. Я был уязвим для его издевательств. Он доводил меня до бешенства. Я лез с ним в драку, и у меня ничего не получалось – он был больше и старше на шесть с половиной лет.
В деревне у меня не было заступников от Кости в лице взрослых. Дед был всегда на стороне Кости или не слышал происходящего. В Москве я обычно искал помощи мамы. В её отсутствие дома звонил ей на работу и просил отругать Костю.
Тогда в деревне, доведенный до истерики, я клялся убить этого ненавистного Пингвина (это его прозвище за балетную походку). Убить, как только появится возможность. Я ворочался во сне, вынашивая планы мести, один план коварное другого. Приходило утро, и я потихоньку опять забывал про месть и «временно» прощал Костю.
Свои цыплята
Подготовка к летнему сезону начиналась еще в марте-апреле. Закупали сахар, крышки для консервирования огурцов и помидоров в трехлитровые банки, выращивали рассаду и даже покупали цыплят. В апреле в Очаково приезжала машина с птицефермы, и прямо с колес на улице можно было купить вылупившихся накануне цыплят. По пять копеек за одного.
Несколько цыплят жили месяц или полтора в картонной коробке прямо у нас в квартире, у батареи. Кормили их пшеном. Цыплята быстро росли. Вонь от коробки шла страшная. Коробку чистили и меняли, но это не помогало. В мае дед уезжал с цыплятами в деревню. Наступало облегчение.
В деревне цыплята вырастали еще больше и к концу лета уже годились к употреблению. Тут начинались моральные муки. За это время к цыплятам привязывались как домашним животным, тем более что не все выживали – некоторые заболевали и умирали. Их не ели, конечно. По осени цыплят насчитывалось всего два-три. Вообще, к середине 80-х необходимости в своих курах не было, но дед по традиции прошлых лет занимался этим. Судя по старым фотографиям, у деда бывали десятки кур.
В конце августа мы уезжали из деревни, а дед нанимал деревенского соседа. Тот отрубал курам головы за стакан водки (или самогона). Я этого не видел. Зато я видел, как разделывают тушу овцы в деревне. Все так буднично – никаких трагедий. Мужчина работает ножом, мальчишки стоят смотрят, на земле приготовлены тазы для мяса, собаки рядом ждут, когда им дадут поживиться ненужными органами подвешенной на веревке во дворе освежеванной туши.
Друзья на плоту
Костя подвел меня к соседскому мальчику и сказал: «Знакомьтесь, это Андрей! Вы с ним раньше очень дружили». Звучало странно, будто у меня была прошлая жизнь, в которой я дружил с этим мальчиком, а теперь новая жизнь и знакомимся вновь. Так и было. Последний раз в деревне деда я был пять лет назад, когда мне было три года. Я не помнил Андрея. Но мы быстро сдружились вновь.
Мы вместе играли и даже сами сделали плот для сплава по речке. Деревянный плот был небольшой – еле помещались вдвоем стоя. Проплыв по течению всего метров 150, плот остановился на середине речки. Дальше произошла комичная несогласованность.
Я и Андрей решили начать грести и для этого нагнуться ближе к воде. Стоя спиной друг к другу – один отвечал за левую сторону, а другой за правую по ходу движения, – мы одновременно наклонились и тем самым толкнули друг друга попами и оба упали в воду, потеряв равновесие на маленьком плоту. Речка оказалась совсем не глубокая, я оттолкнулся от дна. Мы выбрались на берег, а плот уплыл без нас. Было весело.
Попал под машину*
Подражая поведению взрослых, я решил перебежать через дорогу. Я раньше видел, как это круто выглядит: успеть на автобус. Я тоже хотел успеть на автобус. Всего две полосы движения. По одной в каждую сторону. Это было на Озерной улице, прямо за моим домом. Убедившись, что машин слева нет, я дождался, когда проедет машина справа, и рванул через дорогу. Пришел в сознание, вокруг меня взрослые. Водитель машины «москвич-каблук» постоянно повторяет: «Он выскочил прямо под машину, сам прямо под машину!»
Скорость у него была невысокая, пострадал я не сильно. Ссадина на голове и сотрясение мозга. Сбил меня слева, с той стороны, куда я посмотрел ранее, и там действительно машин не было, далеко просматривалось. Но пока я пропускал машину справа, «каблук» выехал слева из ближайшего двора, его-то я не видел. Он не успел разогнаться, а я, не посмотрев повторно налево, уверенный, что машин там нет, шагнул вперед прямо под колеса.
Мама настояла, чтобы я в школе объяснил травму головы неудачным падением с велосипеда на бордюр. Через несколько месяцев после происшествия мне стало казаться, что мои неуспехи с учебой в школе связаны с сотрясением мозга. «Вот до этого я был умнее, а сейчас поглупел», – думал я. Хотя, возможно, это из-за новой учительницы?!
Дни рождения
В третьем классе у нас появилась новая классная руководительница Людмила Леонидовна. Молодая учительница запомнилась нововведением. Раньше именинник угощал всех конфетами в честь своего дня рождения, и все на этом заканчивалось. Учительница предложила нам поздравлять именинника, выступая перед ним с какими-либо стихами, пожеланиями или анекдотами после уроков. Поначалу энтузиазма это не вызвало. Но постепенно превратилось в одну из любимейших забав всего класса.
Чествуемый сидел за первой центральной партой и наслаждался самодеятельными выступлениями прямо перед ним. Когда оказалось, что выступать можно группами, в ход пошли анекдоты, разыгранные по ролям, как на сцене. Даже самые стеснительные были вовлечены, ведь выступали иногда по пять-семь человек одновременно и были роли без слов. Группы выступающих в каждой сценке образовывались спонтанно, главное, чтобы нашелся материал (анекдот, история, загадка) для выступления.
Было забавно и азартно. Иногда и не смешно, и непонятно, ведь готовились наспех, просто выйдя из класса за дверь, а потом через пять минут возвращались с театральным «шедевром» для именинника. Многие забывали свои слова или действия. Часто было смешно из-за нелепостей и несыгранности выступающих. На поздравления учительницей отводилось минут 15, но каждый раз это затягивалось на 40 минут и более. Учительница могла лишь с трудом остановить этот «конвейер», перестав выпускать детей для репетиции новых сценок из класса.
Стеклом по горлу
В школе, конечно, случались всякие инциденты. Типа пропажи «сменки» (сменная обувь) или варежек из школьной раздевалки на первом этаже. Чужими варежками часто играли в «сифу». Однажды мой красный шарф нашелся с прожженной дыркой. Но это были мелочи жизни.
Вокруг школы складировались и просто валялись стройматериалы. Уже который год к школе пристраивали большую столовую и крытый переход между зданиями младшей и старшей школы. Строительные материалы во дворе школы никак не огораживались. Мы лазали по стопкам бетонных плит и ходили по трубам, пытаясь удержать равновесие. Горы сухого цемента, просто высыпанного на асфальт, под действием дождей превращались в каменные холмики.
Приехала машина скорой медицинской помощи за мальчиком. Он держался за горло. Грудь, руки и лицо его были в крови. Ребята из другого класса сильно повздорили между собой во время прогулки на продленке. И один из них, обезумев, стал кидаться кусками битого стекла в обидчиков и просто во всех в зоне досягаемости. Он стоял около кучи с крупными фрагментами битого стекла – «подарком» строителей, – выбирал большие куски с кривыми колотыми краями и кидал в детей как «летающую тарелку».
Я не пострадал, так как был далеко от безумца. Но потом еще долго представлял летящий в меня кривой формы и острый как нож кусок стекла и как я пытаюсь увернуться или защититься голыми руками, а стекло режет мне руки в кровь. Жуть!
Пионер второй очереди
Почему пионеру запрещено держать руки в карманах? Я задал этот вопрос во время нашей подготовки к принятию в пионеры. Еще за месяц-два до самого события мы должны были выучить клятву, узнать историю пионерии, её традиции и правила. Оказалось, пионеров могут побить за то, что они пионеры. Держа руки в карманах, пионер окажется не готов защититься, а должен быть готов. Правила писались еще во времена, когда пионеров было мало, в 1920-х годах. Сейчас пионерами были все.
Принимали в пионеры в три этапа: сначала самых лучших в день рождения Ленина, через неделю средних и уже потом оставшихся. Нам заранее зачитали списки – я оказался во втором. «Это ошибка, – возмутился я, – в первом должен быть!» Учительница сказала, что в первом списке может быть совсем мало учеников, «а у тебя вон четверка по русскому и поведению, поэтому записали во вторую». Объяснение меня не удовлетворило.
Немного остыв, стал припоминать, как я дошел до жизни такой. За пару месяцев до этого меня удивила формулировка учительницы: «Фёдоров, ты совсем разболтался!» За поведение в четверти вместо традиционного «отлично» я получил «хорошо». Что я, гайка какая-то, чтобы разболтаться?! Поведение, значит, плохое… И тут я вспомнил конфликт с несколькими учительницами месячной давности.
Школьники, как обычно, гуляли на продленке около школы. Мальчики из другого класса делали что-то неправильное, кажется, кидались чем-то, и мои замечания игнорировали. Я подошел к трем учительницам, стоящим кружком в 50 метрах от места действия, и попросил их принять меры по отношению к хулиганам. Но учительницы, выслушав меня, продолжили увлеченно болтать о своем. Я повторил требования. Кончилось тем, что я прилично нагрубил им, обвинив в лени, и привел в пример якобы известных мне более отзывчивых, которым не все равно, учителей в других школах. И даже зачем-то пригрозил уйти от них в другую школу, а то и другую страну. Среди этих учителей не было моей классной руководительницы, но, уверен, ей рассказали про меня.

Принимали меня в пионеры в Бородинской панораме на Кутузовском проспекте. Было торжественно и, главное, не сложно произнести клятву, так как не пришлось произносить весь текст самому, только часть. Погода была в тот день солнечная и теплая, в отличие от дня приема в пионеры первой очереди. Они промокли под дождем где-то на улице, кажется, у Большого театра, во время церемонии. После осмотра панорамы я приехал в школу гордый, с развевающимся красным галстуком на шее. Шел к школе, положив руки в карманы, и никто бить меня не собирался. Всем было абсолютно все равно, что появился новый пионер. Стало даже немного обидно.
Глава 3. Средняя школа
Меня зовут Станислав
Неожиданно новый классный руководитель стал называть меня Станислав и никак иначе. Никто раньше не звал меня полным именем. Ни дома, ни во дворе, ни в школе. Я замечал, что и взрослые, и дети стараются избегать называть меня по имени вообще. «Неудобное имя, – думал я. – Стасик – звучит совсем по-детски, а Стас – грубо». Учителя предпочитали фамилии.
В 1985 году в школу пришла группа новых учителей, среди них даже несколько мужчин. Самым заметным стал наш новый энергичный учитель Юрий Михайлович Шаров. Учитель русского языка и литературы. Меня он подкупил своей любовью к футболу. Странное сочетание: скучнейший русский и эмоциональный футбол. Шаров организовал занятия футболом несколько раз в неделю вечером в физкультурном зале школы. Тренировались и играли ребята из нашего и других классов. Шаров сам проводил занятия. Мы разминались, наигрывали комбинации и просто играли в свое удовольствие.

«У меня любимчиков нет»
Юрий Михайлович занялся обустройством классной комнаты. Класс ему (и нам, соответственно) выделили на удобном втором этаже (подниматься по лестнице меньше). Обновили краску на стенах. Поставили стеклянные стенды. Закупили портреты писателей-классиков: не бумажные безжизненные, как у других, а стильные, выполненные на лакированной фанере.
Шаров призывал учеников поучаствовать в оформлении класса. Желающих прийти после уроков и помочь не было. Тогда Шаров спрашивал меня при всех: «Станислав, ты придешь?» Мне не хотелось, и я медлил с ответом, а он добавлял: «А потом как раз в футбол поиграем». И я соглашался. Через какое-то время в классе многие ребята стали меня считать любимчиком Шарова.
Шаров был требователен к ученикам и иногда бывал несдержан и резок. Например, он мог бросить авторучку Вани Волкоедова в стену, когда Ваня продолжал ею что-то рисовать уже после предупреждения. Или, например, сказать обидное Коле Бабкину: «Коля, подними руку и спроси: можно ляпнуть?» Класс смеялся, а Коля нет, хотя он и вправду обычно говорил какую-то ерунду на обсуждениях литературы.
Некоторые ребята не любили Юрия Михайловича, в основном недисциплинированные. После родительских собраний на следующий день Шаров мог заявить классу: «У меня любимчиков нет!» Ко мне он почему-то относился как-то уважительно. Хотя по его русскому языку у меня не было никогда выше четверки, и, бывало, ругал он меня за ошибки, особенно за то, как я густо замалевывал неправильно написанные слова в тетради. Он говорил: «Просто зачеркни», – а я продолжал делать как раньше.
Кем я хочу стать
Я хочу вести переговоры с иностранными компаниями, заключать торговые сделки, ездить в другие страны. Короче, хочу быть как папа. Примерно так написал в сочинении на тему «Кем я хочу стать». Вскоре прошло родительское собрание, на котором, как оказалось, касались и результатов этого сочинения. Мама, вернувшись с собрания, разъяснила мне, что в моем классе четверо хотят быть космонавтами, двое врачами, трое учителями и так далее. «И только ты написал что-то непонятное. Упоминая заграницу, ты вообще настраиваешь людей против себя. Родители и дети будут завидовать, и ничего хорошего из этого не получится». Я обещал учесть её пожелания.
Через два года мы вновь писали сочинение на тему будущей профессии. Я написал, что очень хочу стать строителем, чтобы помочь выполнить обещание Горбачева дать каждой семье по отдельной квартире или дому к 2000 году.