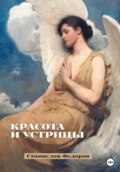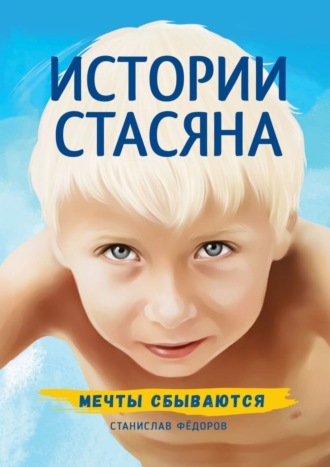
Станислав Федоров
Истории Стасяна. Мечты сбываются
Украли все
Нас обокрали. Нестерпимая обида, бессильная злоба и растерянность одолевали меня. Все, что мы привезли в мае в первый приезд на дачу в Ольховце, все украли. Вскрыли двери и все вынесли подчистую. И телевизор, и трансформатор, инструменты, стулья, гвозди. Все! Будто и не было ничего.
Милиция в районном центре – 30 километров от деревни. Им заниматься таким делом неохота, даже свободной служебной машины нет, чтобы приехать в деревню, а на нашей им «не положено». Заявление приняли – и до свидания. Знающие люди потом нам сказали, что если бы украли ружье, например, то милиция бы тогда поднялась и побежала, а так никто заниматься этим не будет.
Понятно, что воры из местных или из соседней деревни. Вещи куда-то спрятали – у них дома их нет – не дураки. Сами не сознаются. Найти и доказать что-то сложно. В какой день украли, даже не понятно, нас не было две недели. Потом еще много раз обворовывали нас в этой деревне, но то чувство первого шока от осознания, что такое вообще возможно, осталось рубцом в душе.
За зиму успевали из дома вынести и диван, и велосипеды, и ведра, и лампочки, электрические приборы, чуть ли не обои содрать со стен. Мы укрепляли двери и ставили крепкие замки. Тогда воры залезали через окна, через потолок с чердака. У них полно времени – девять месяцев, мы там бывали только летом.
В первую зиму нам сообщили, что дом стоит открытый. Воры вскрыли и оставили двери нараспашку. Папа и я сначала семь часов на поезде, а потом героически в студеный ветер через поля на лыжах по снегу и насту прошли от железнодорожной станции до дома десять километров. Добрались под вечер. Ночью было ужасно холодно в доме. Папа всю ночь топил печь. Она большая, кирпичная, прогрелась только ближе к утру. Хорошо, что еще летом папа её починил – перебрал всю кирпичную кладку печного колена на чердаке, прочистил трубу, и появилась тяга, необходимая для горения и выхода дыма наружу.
Хитрость с дверцей
Без холодильника летом на даче плохо, но ведь его украдут, если оставить на зиму. А возить холодильник туда-обратно в Москву тяжело, и в Москве хранить его негде. Чтобы ворам было неинтересно украсть холодильник, мы решили на зиму снять его дверцу. Какой смысл в холодильнике без двери? Саму дверь спрятали на чердаке в соломе. О чудо, в мае следующего года, когда мы приехали, холодильник без дверцы стоял нетронутым. Вот это была радость!
Приехав после зимы еще через год, увидели, что холодильник опять стоит на своем месте. Но мы рано обрадовались. Оказалось, что в эту зиму с задней части холодильника воры вырвали и забрали компрессор. И холодильник теперь стал бесполезен и нам.
Междугородний звонок
Местные мужики покупали мороженое в стаканчиках коробками, а пиво ящиками. Несут, довольные, добычу домой в руках. Им навстречу бегут менее везучие мужики и спрашивают: «Там еще что-нибудь осталось?»
Развитой социализм советского образца 1986 года. В магазин села Грязное Михайловского района Рязанской области сегодня только что был завоз продуктов. Проезжаем с папой на машине мимо него. Хвост очереди уже на улице, а новые люди все подбегают и подбегают. Вообще-то мы тоже хотели купить что-нибудь из продуктов в этом магазине, но из-за очереди решаем заехать сначала в хозяйственный магазин и позвонить маме в Москву. В хозяйственном купили колун, замазку для окон, что-то еще и два рулона рубероида. Рубероид некачественный, но другого не было.
В пункте связи заказываем междугородний звонок в Москву маме на работу. Телефонистка записала номер: «Сейчас линия на Москву занята. Ждите». Сидим ждем в деревянной несвежей комнате. Прошел час. Телефонистка: «Что я могу сделать?! Линия занята. Ждите!»
Начинаем волноваться, что останемся без еды, так как на даче продуктов нет совсем, а магазины закрываются через 30 минут. Решаем рискнуть. Поехали в другой магазин поближе. Там тихо, очереди нет, но и товаров немного. Купили хлеб черный, белого нет, колбасный сыр и какие-то рыбные консервы.
Вернулись к связистке. Она нас ругает:
– Где вы были? Связь с Москвой пропустили. Будете заказывать по новой?
– Будем.
– Оплатите тот звонок. И ждите.
Минут через 20 телефонистка кричит:
– Москва, Москва, вас вызывает Грязное!
Папа и я поговорили с мамой минуту. Маму было неплохо слышно, но мешали голоса нескольких человек, пробивавшиеся в нашу линию.
На обратном пути на дачу я восхитился чуду: «Можно по телефону разговаривать с человеком, который в 250 километрах отсюда. Вот это технический прогресс!» Папа посмотрел на меня: «Технический прогресс?! Вон в Финляндии переносные телефоны, как чемоданчик. Можно позвонить из любого места на любой телефон в мире. И никаких проводов». Я, честно говоря, не очень-то поверил в такие чудеса.
Хлеб – всему голова
По дороге от пункта связи обгоняем гужевую телегу, везущую огромный запас буханок черного хлеба. Повозкой правит женщина-продавец магазинчика в соседней деревне. Хлеб в деревне – самый ходовой товар. На магазинчике надпись: «КООП», то есть «Кооперативный». На практике это значит, что цена буханки хлеба на две копейки выше, чем в обычном государственном. Цены фиксированные.

Местные покупают хлеб в больших количествах. При мне берут не по две-три-четыре буханки, а мешками, по 15—20 штук. Оказывается, они кормят им скотину. Хлеб дешевле кормов. Коровы и овцы потребляли хлеба больше, чем люди. На стенах магазинчика плакаты с призывами бережно относиться к хлебу, «брать в меру к обеду».
На дорожной развилке берем «языка». Папа решил подвезти бабулю, с которой нам по пути, и заодно узнать у нее о местных особенностях. Мы-то здесь новенькие. «Какой хитрый ход придумал папа», – восхитился я. Но бабуля оказалась партизанкой со стажем. Выведать у нее удалось только её имя. Объяснила, что рассчитывала добраться до дома как раз на этой хлебной повозке (мы-то её опередили). Почему-то вспомнилось из школы, как Ломоносов шел с рыбным обозом.
Радость труда
Дача приносила радость, ей была увлечена вся наша семья. Бесконечные работы по приведению дома в порядок. Я многому научился за несколько лет на даче: как косить траву, как класть кирпичную кладку, резать стекло, замешивать цементный раствор, доставать, носить и возить воду из колодца, копать грядки, колоть дрова, топить печь, прививать и ухаживать за деревьями, крыть крышу шифером и рубероидом, устанавливать изгородь, строить крыльцо, красить стены и пол, клеить обои, копать выгребную яму и её обустраивать, крепить телеантенну на конек крыши, собирать урожай ягод и яблок с высоких веток, сажать и окучивать картошку и еще много чего.
Я помогал папе и маме и учился у них всему. Боялся только одного – точить косу бруском в руке. Потом дед меня научил, как надо правильно, и я почти перестал бояться порезаться. В косах дед знал толк. В детстве он жил в деревне и там чуть не потерял пятку из-за косы.
С дачниками в деревне, точнее с детьми, тоже приезжающими из Москвы, я познакомился только к концу первого лета. Детей было немного, и все разного возраста. Мы сдружились, подтянулись в компанию несколько деревенских ребят из соседнего Щеголева. В нашей компании были и дошкольники. Помню, я что-то попросил Дениса посмотреть или прочитать, а он меня огорошил: «Я еще не умею читать». Как это так?! Смешно, но это было открытием для меня: я-то был уверен, что читать одновременно со мной научился весь мир.
Бизнес на картошке
Немногочисленные местные жители деревни неплохо к нам отнеслись. Баба Маша и тетя Зина предложили покупать у них парное молоко, творог и куриные яйца. А хромой дядя Витя-тракторист обрисовал радужные перспективы заработка на картофеле. Узнав, что за дом мы заплатили 1000 рублей, выразил уверенность, что за два-три сезона мы эту сумму точно отобьем.
Все жители деревни выращивали картофель и осенью продавали его совхозу. Речь шла о десятках мешков картофеля. Предполагалось засевать картофелем нашу пашню за садом. Огромный участок возделывал еще прежний хозяин дома. Расценки дядя Витя тоже озвучил: вспахать трактором с бороной – бутылка водки 0,5 литра, окучить картошку с лошадью и плугом – еще бутылка, два раза за сезон, за что-то там еще – стакан водки. Дядя Витя продолжал: «Несколько мешков картошки сохраните для посева в подвале в специальной яме. Тут важно, чтобы картошка не подмерзла зимой, а весной её не залило водой».
Мы попросили его вспахать половину участка, а засеяли совсем немного. У нас не было посевного материала и возиться с картошкой на продажу желания не имелось. В черноземе картофель рос неплохо, но основной проблемой был колорадский жук. Видимо, добрался из Одессы до средней полосы. Колорад сжирал кусты картофеля со страшной скоростью. Его собирали вручную, опрыскивали химией, но успехи были скромные.

В конце августа и осенью собирали средненький урожай, хотя некоторые картофелины вырастали очень большими. Чернозем плотно облеплял клубни. Отделить клубни от земли было сложно. Если земля мокрая, то каждую картофелину выцарапываешь будто из пластилина, если земля сухая, то буквально выбиваешь картофелину словно из камня. Тяжелый ручной труд.
Мой сельскохозяйственный эксперимент потерпел неудачу. Я картофелину при посеве положил в грунт в пластиковой сетке, добавив немного земли внутрь. Идея была в том, чтобы при сборе урожая просто вытащить эту сетку с новыми клубнями и потрясти, а грунт отвалился бы от клубней. Куда там?! Сетка еще больше осложнила работу. Пришлось сетку разрезать, чтобы очистить картофель от чернозема.
Помучавшись два сезона с картофелем, мы перестали этим заниматься в дальнейшем. Возделывали небольшой огород на территории сада с огурцами, помидорами, капустой и прочей петрушкой.
Моя собака
На даче неожиданно сбылось мое желание иметь собаку. К нам приходил похожий на немецкую овчарку Тузик. Жил у нас под террасой все лето. Собака была немолодая, но еще бодрая и крепкая. Мы его подкармливали. Сначала удивлялись, что он не уходит от нас. А потом привыкли. Зимой он жил у местного пастуха, а каждое лето у нас. Но пастух не ревновал – у него было еще несколько собак.

Тузик ходил со мной, куда бы я ни пошел: к колодцу за водой, к пруду, в «барский» сад, запускать воздушного змея в поле, в гости к детям, за молоком к местным. Даже пытался угнаться за мной, когда я катался на велосипеде. Я ему говорил: «Подожди меня здесь, я сейчас прокачусь и приеду назад, не бегай за мной». Тузик садился или ложился на тропинке и ждал меня. Умный пес. Тузик был моим охранником и пару раз отгонял от меня лаявших на меня собак в другой деревне.
Охота на уток
Тузик любил охоту. При словах «Охота, Тузик! Охота!» он буквально прыгал от предвкушения и крутил хвостом, будто пропеллером вертолет. Наши знакомые, родители того самого одноклассника Кости, – заядлые охотники. Я однажды ходил с ними.
Они шли вдоль реки и стреляли уток. Задача собак – найти и принести охотнику подстреленную утку. Точнее несколько уток, так как обычно стреляют сразу в несколько. А утка, как правило, падает в воду или в заросли. Человек не может зайти в холодную воду глубоко (возможности ограничены болотными сапогами). Собака может доплыть и найти утку в камышах за счет нюха. Умная собака еще и поймет, что нужно искать не одну утку, а несколько. Тузик работал даже лучше породистой дорогой собаки охотников.
Приготовленная дикая утка на вкус жестковата, и когда жуешь, попадается дробь, застрявшая в тушке. Уток бьют дробью. В одном выстреле десятки дробинок. Поэтому в одной утке может быть их достаточно много. Кушать такую утку – удовольствие ниже среднего.
Фотоуменьшитель
Вообще-то аппарат для печати фотографий назывался фотоувеличитель, а не фотоуменьшитель. Но мой двоюродный брат Костя использовал его по-своему. Он изготавливал миниатюрные шпаргалки для школы.
До 1990-х годов сделать фотографию было непросто. Сначала покупалась пленка. Нужно было выбрать пленку с определенной чувствительностью в зависимости от места предстоящей съемки: на солнце, в пасмурную погоду, в помещении. Отсняв пленку в фотоаппарате, её следовало проявить. Для этого намотать пленку на специальный барабан внутри проявочного бачка. Это было сложно, так как действовать приходилось в полной темноте исключительно на ощупь. Затем, используя химические растворы, проявить пленку в этом бачке.
Проявленная пленка подвешивалась для просушки. Однажды мой одноклассник по фамилии Туркин удивил меня, показав ноу-хау – он использовал обратный выдув воздуха пылесоса для ускорения сушки.

Для печати фотографий требовались фотоувеличитель, фотобумага и химреактивы. Процесс проходил обычно в ванной, в темноте, при свете только слабой красной лампы. С помощью фотоувеличителя выбранный кадр с пленки можно было вывести на фотобумагу, отрегулировав нужный размер и фокус. После секундного воздействия «проектора» на фотобумагу будущую фотку помещали в ванночку с раствором проявителя, а затем и закрепителя. Все это регламентировалось по времени.
По сути, фотоувеличитель работал как вертикальный проектор. Чем выше «голова» фотоувеличителя, тем больше фото внизу, чем ниже – тем меньше. Костя для печати шпаргалок использовал возможность миниатюризации фотографий.
В частности, Костя фотографировал тетрадки с сочинениями по литературе, написанными еще его и моей мамой в их школьные годы, а затем печатал их маленькие копии, используя «фотоуменьшитель». Каждой тетрадной странице соответствовала копия примерно 5x3 сантиметра. Их Костя собирал в длинные гармошки, скрепляя бумажки прозрачным скотчем. Качество было хорошее – все легко читалось. Вообще, это походило на шпионские штучки. Такие шпаргалки он делал и для своих друзей.
Когда Костя ушел в армию, я с его разрешения пользовался фотоувеличителем для печати обычных фотографий. Я отважился на создание цветных фотографий. Это было значительно сложнее, поскольку количество нужных химикатов выросло в разы. Например, вместо двух ванночек при печати фотографий мне понадобилось около десяти штук. И с проявкой пленки тоже было больше возни. Но зато цветные отпечатки в итоге.
На первом этаже
У каждой квартиры первого этажа пятиэтажек в Москве имелся небольшой палисадник под окнами. Там росли сирень и вишня, цветы и крыжовник. Владельцы палисадников страдали от вандалов и рвущих без спроса сирень. Некоторые ставили солидные заборчики по периметру, а некоторые палисадники были заброшены, и там были протоптаны тропинки.
В моем подъезде в одной из квартир на первом этаже с так себе палисадником жил жирный дядя, обладатель неимоверно толстых линз в очках. Странный неуклюжий тип. Выяснилось, что он программист и работает на ЭВМ. Образ профессии программиста в моих глазах был дискредитирован тотально.
Еще на первом этаже с шикарным палисадником жил злой старикан. Его палисадник был под нашим балконом. Не дай бог что-нибудь уронить с балкона вниз. Выпросить у старикашки возможность получить предмет обратно было скандальным делом.
Жили также на первом этаже Куприяновы. Как и Архаровы, на две квартиры. Но в разных подъездах. С ними я почему-то не всегда мирно уживался. Например, ссорились по поводу способа и времени залива ледяной горки. Отец семейства Куприяновых работал шофером такси. Их синие «жигули» были единственной постоянно припаркованной машиной во дворе. Все жители наглядно видели, что в такси можно хорошо заработать.
Андрей-Таксист
Еще одна машина, иногда заезжавшая ненадолго во двор, принадлежала Кузьминым. Удивительным было то, что машину водила женщина, мать моего ровесника Андрея по прозвищу Таксист. Прозвище было дано из-за фасона кепки Андрея. Его отчим-моряк очень редко бывал дома.
Сам Андрей, обладатель неимоверно жесткой черной шевелюры, был мастером вранья и производил на меня гипнотическое воздействие. Врал он удивительно смело и по-крупному, в деталях и красочно. Например, он один побил пятерых, поступил в суворовское с испуга. Странно, но я каждый раз верил, хотя не считал себя доверчивым. Лишь спустя пару часов после очередного рассказа я начинал сомневаться в его правдивости. И при следующей встрече говорил Андрею о сомнениях. Он как ни в чем не бывало соглашался, что этого на самом деле не было, и рассказывал новую, еще более интересную и «точно правдивую» историю.
Андрей обладал вспыльчивым характером и в состоянии помешательства кидался камнями, дико кричал, кусался, норовил расцарапать лицо. Это было страшно. Бешеный человек. Страшнее были только агрессивные глухонемые из другого дома. Им вообще нельзя было что-либо объяснить, и они не сообщали суть претензий, ведь они не могли слышать и говорить.
Дима-Шпага
Вообще, у нас во дворе было много детей. В подъезде Андрея-Таксиста жил мальчик Дима, младше меня на год. Он отставал в умственном развитии. Ребята над ним потешались, но иногда он вписывался в игры, особенно подвижные, и все было более-менее. В физическом плане он был выше среднего. Запомнился один эпизод, когда ему было лет 11—12.
Его мама несколько раз звала Диму домой. Дима хотел еще поиграть с другими детьми и не шел. Тогда мама, крепкая женщина, спустилась с пятого этажа, подошла к Диме, взяла за рукав, а он стал вырываться. Она вдруг сильно и резко кулаком врезала ему в челюсть справа. Дима тут же обмяк, а она спокойно понесла его домой. Все были в шоке: и дети, и взрослые.
Собачник-пьяница
Каждый вечер можно было наблюдать, как через наш двор на прогулку к пруду идет пожилой невысокий мужчина с немецкой овчаркой на поводке. Мужчина жил в соседнем доме. Собака породистая и красивая. Хозяин, видно, выпивал где-то на прогулке, и иногда силы у него кончались на обратной дороге прямо в нашем дворе. Вот так лежит дядька, встать не может.
Однажды зимой мужчина прилег в сугроб, а собака вокруг него крутится, лает, подбегает к прохожим, жалобно воет. Прохожие пугаются, шарахаются от нее.
А пьяный лежит, не шевелится уж минут 15—20. Мы, дети, не знаем, что с этим делать. Собака так достала всех своим громким лаем, что из дома вышли двое мужчин и подняли пьяницу. Собака тут же перестала лаять и пошла впереди показывать путь домой. Мы подивились уму и преданности собаки. Считали, что она спасла своего глупого хозяина от смерти. Потом ситуация примерно такая же повторялась еще пару раз.
Молчание – золото*
«Слово – серебро, а молчание – золото!» – мама мне часто напоминала эту поговорку после моего очередного спора на повышенных тонах с кем-нибудь из взрослых во дворе или школе. Проблема была в том, что пустяковый спор часто превращался в чудовищную перебранку и не мог никак закончиться. Особенно когда я был голодный.
«Ты слишком прямолинеен». Мама приводила мне в пример дипломатов, которые часто сталкиваются с противоположным мнением дипломатических работников других стран. «При этом они ведут себя сдержанно и культурно. Старайся вести себя как дипломат!»
«У тебя по каждому вопросу свое мнение, но ты просто промолчи. А если сказал уже, то потом стой и молчи. Вот увидишь: результат будет лучше для тебя». Я думал: «Какой смысл молчать, раз человек не понимает и упорствует? Мне надо его переубедить, доказать свою правоту».
Сначала я решил самой маме доказать бессмысленность молчания. Однажды мы заспорили и поругались с ней, а я вспомнил про её наставления и неожиданно для нее включил режим молчания. Она говорила-говорила и даже спрашивала меня раздраженно что-то, чтобы я ответил, а я держался и молчал. Просто смотрел на нее, думая: «Вот-вот, еще немного, и я ей скажу: „Ну вот видишь, твой метод не работает“». Но не получилось. К моему удивлению, она быстро успокоилась, глядя на мое молчание, и даже согласилась частично с моим мнением, а ситуация непривычно быстро почти полностью разрядилась. Я не чувствовал себя проигравшим, а даже, наоборот, моя спокойная уверенность и молчание придали дополнительный вес моему мнению.
Я стал пользоваться этим приемом, конечно, когда не забывал о нем. Он часто срабатывал, к моему удивлению и радости.
Перьевые ручки
Тетрадки продавались с промокашками. Зачем нужны промокашки? Все школьники писали шариковыми ручками. Перьевые ручки мне были известны из книг и сберкассы.
В сберкассе требовали подписывать документы только перьевой ручкой, шариковой было нельзя. Шариковая ручка не считалась законной. В сберкассе часто не было чернил, чтобы обмакнуть перо, привязанное веревочкой к стойке, и расписаться. Чернильницу с собой, понятное дело, никто не носил. Это была проблема. При мне пару раз ломали перьевые ручки в попытке выдавить из них хоть чуть-чуть чернил для своей закорючки на квитанции. Сухие и сломанные, они оставались безнадежно висеть на своих веревочках.
Тетя Люба приезжала в отпуск из Венгрии и привозила с собой заграничные излишества: ковры, одежду, обувь и много китайских мелких товаров, включая перьевые ручки. Эти ручки были разноцветными и привлекательными, в виде зверушек, и их можно было заправлять чернилами специальной встроенной пипеткой, а не обмакивать перо в чернила для написания каждого слова.
Я полюбил эти перьевые ручки и ради выпендрежа стал писать в тетрадке не синими, а зелеными чернилами. Правда, контрольные работы писал синими, иначе бы не приняли.