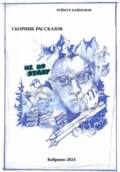Теймур Байрамов
Визит
ВИЗИТ
Было это летом, дай Бог памяти, году этак в одна тысяча девятьсот шестьдесят седьмом.
Баку. Апартаменты спартаковского альпиниста Юры Карумидзе, Ежа, набиты до отказа. Друзья собрались на проводы. Сегодня в роли героя дня выступаю я собственной персоной.
Решительно развернув штурвал судьбы, прерываю плавное течение жизни, уезжаю, оставляя в тёплом городе дорогих мне людей и ломая удачно складывающуюся карьеру. Уезжаю…
Ленинград стал городом моей мечты после первого же знакомства. Вздыбленные кони Клодта на Аничковом, чеканный ряд архитектурного каравана вдоль Невского… А Летний Сад? А Нева с впечатанным в сизое небо профилем Петропавловки? А маслянно-бронзовый Исаакий?
Уезжаю…
…………………………………
Комнаты ежовой квартиры в сигаретном дыму, голоса слагаются в невнятный гул, из плена которого вырываются отдельные фразы. На пока ещё свободном столе разлеглась крок-схема Центрального Кавказа. Район альплагеря «Безенги». Нашего привычного места сборов. Над ней склонились мои друзья. Добрые пожелания. Вензели росписей…
А где-то под ногами собравшихся носился сынишка-ежонок, отыскивая среди мельтешащих брюк знакомые:
– Ёзик, Ёзик…
Боже, как я был и счастлив и несчастен одновременно.
………………………
В Ленинграде я обрёл кров в петродворцовом районе. Черта города, однако же отделённая от Питера целой чередой прогонов пригородной электрички. На улице Коминтерна, ныне ей вернули старое имя – Разводная, красуется особняк. Сталинка.
На втором этаже в квартире тридцать угнездилась не самая скверная коммуналка.
Три семьи. Капитан первого ранга в отставке Фёдор Ефремович Сайданов, в военную пору командовавший соединением подлодок северного флота. Его жена – маленькая, неслышная и шустрая как мышка Виктория Павловна. На правах старожилов они пользовались прилепившейся к кухне бывшей кладовкой.
Странная пара – грымза Маша и её моложавый приживальщик Ваня, слесарь с танкоремонтного завода в Красных Зорях…
Эта парочка вечно провоцировала соседей на скандалы, чувствуя себя в грязном потоке перебранки свободно и комфортно.
Всё жизненное пространство общего пользования разделено с миллиметровой точностью:
в общей кухне – три стола, в ванной – три лампочки и три выключателя.
Жлоб Ваня в свободное от работы время где-то втихую выпивал, и Маша громогласно пилила супруга:
– Ни денег, ни х…
Они не стеснялись никого и ничего, легко выставляли напоказ личное, и обеденный машиванин стол притулился в проходе к плите, и супруги, чавкая, трапезничали, попутно привычно переругиваясь, и тяжёлый, как солдатский сапог, мат слетал с привычных уст смачными плевками, и тщетно было призывать дремучих маргиналов к приличиям:
– Она мне говорит колкисти, и я ей говорю колкисти…
………………………………
Петергоф. Улица Коминтерна. Дом десять. Квартира тридцать. Мне – два звонка.
Иду к дверям. Открываю.
– Ба-а, Шурка! Каким ветром? Заходи…
Надобно заметить, что Шурка, он же – Александр Алексеевич Воскресенский, был общепризнанным гуру бакинских спартаковских альпинистов. И личным другом многим из незаурядного окружения своего.
Обнимаемся. Из соседней комнаты высовывается любопытная морда.
– Кыш!
Морда проваливается в дверную щель.
– Однако, брат…
В просторной комнате с огромным квадратом окна, выходящего на Татьянин пруд, Шурик, стоя у колченогого стола, раскрывает аэрофлотскую синюю сумку, извлекает из неё пышные связки кинзы, и тотчас по комнате густой волной растекается терпкий аромат, а потом, – с самого дна, – бутылку знаменитого красного азербайджанского вина. О, – "Кямширин"!..
Я срочно намыливаюсь в магазин, оставляя гостя осваиваться.
Возвращаюсь с полной авоськой. Вытаскиваю кильку в томате, батон минской колбасы. И – кирпичик карельского хлеба с тмином. И, ну там – солёные огурчики, квашеная капустка…
Пока я магазинничал, Шурик разложил снедь на газете, развёрнутой поверх потрёпанного ковролина. Он уже успел переодеться с дороги, и теперь щеголяет в футболке и шортах.
Разваливаемся на полу. Бокалы налиты.
– За горы!
Вослед сладкому току теплеет пищевод. Густой аромат кинзы мешается с лёгким духом молодого вина.
Стоп-кадр. Петергоф. апрель одна тысяча девятьсот шестьдесят восьмого. Шурик в гостях у Тимура…
Время за разговорами быстротечно, а назавтра утром у моего гостя поезд, и ещё надо заглянуть по паре адресов в Питере. Одеваемся.
– Момент, Шурик…
Достаю фотографию: ледоруб на фоне далёких заснеженных вершин.
– Подпиши, брат…
И – размашистое:
"Хочу, чтобы мой дорогой друг Тёмка был прекрасным альпинистом. По-настоящему знал и любил горы, это замечательное творение природы". И – подпись…
А потом была электричка, и на балтийском вокзале – распивочная. Запаслись парой жетонов.
– Смотри, сейчас пойдем к автоматам с "Гамзой", и нас будут останавливать, – пророчествует мой друг.
Однако, идём… И правда, только что за локти не хватают:
– Мужики, вы чё, там же "сухарь"!…
О, доброе братство выпивох…
Полчаса пути, и вот мы у цели. Типичный доходный дом. По псевдо-мраморной пологой лестнице в яминах от тысяч и тысяч ног поднимаемся на второй этаж.
Дверь пестрит кнопками звонков: два длинных и три коротких – Ивановы…
Звоним. На пороге миловидная женщина. За спиной – длиннющий коридор васильевостровской коммуналки.
– Привет, Света, – тихо говорит Шурик, – сын дома?
Они проходят внутрь, а я, сославшись на дела, сбегаю по лестничному полотну в уличную ни к чему не причастность.
.................
Утром на Московском вокзале Шурик непривычно молчалив. Подошло время расставания. Мы обнялись…
ПАВИЛЬОН У ПЛАТФОРМЫ
Когда открывается заведение толком не знает никто, но уже ранним утром широкий прилавок обильно залит пивными росплесками и отсверкивает от сомнительных щедрот подслеповатого фонаря, а беспокойная очередь густеет невнятно, но плотно.
Осенний рассвет едва брезжит, и смутные лучи раскачивающейся на косоватом столбе одинокой лампочки едва раздвигают густую тень.
Внизу платформы – рукой подать от свай, вознёсших её над рельсами железной дороги – неказистый павильон. У густо отдающих мочой стен шумит толпа. Она кажется монолитной, разве только время от времени от изголовья отваливаются и отползают тени, чтобы, застыв неподалёку, разложить на смятой газете добычу.
На свет божий извлекается заветная бутылка. Крышка сноровисто свинчена, и – буль-буль-буль – водка изливается в пивную пену.
Не теряя времени, ибо поезд уже скоро, – тень приникает к стеклянной кромке, и…
И литр адской смеси поглощается несколькими отработанными годами практики глотками…
Вдали прогудело, и у павильона – паника. Торопливо, иногда не успев подбодрить кружку спиртом, неудачники заглатывают вспененное содержимое.
Ещё гудок. Уже – ближе, и кто-то в спешке бросает у ног порожнюю кружку. Толпа, устремляясь по лестнице на платформу, покидает пивной рай. Вагон набивается потной публикой. Шум. Гам.
Состав дёрнулся. Проход между скамьями качнуло. Кто-то выматерился:
– Поехали, ёпть, с орехами…
А у затихшей на время платформы одинокая буфетчица, собирая брошенное, грозит кулаком во след увозящему хохот составу.
КУЗЯ, ОДУМАЙСЯ…
В квадраты окон полупустого зала районного суда врывается буйный весенний поток солнечного света, и видно, как в неподвижном воздухе плавают блёстки пылинок. Сегодня – разводный день. На сцене – обыкновенный конторский стол. Самый обыкновенный, разве что застелен чем-то до тошноты красным, и это накладывает на всё округ особенно несимпатичный – бюрократический – флёр. Три стула по ту сторону пока пустуют, и немногочисленная публика чувствует себя вполне привольно.
Перед сценой, у первого рядя кресел с откидывающимися сиденьями, собралась в кучку и вполголоса бубнит компания из трёх перекормленных матрон бальзаковского возраста и одной молодой заплаканной. Наотлёт, я бы сказал – демонстративно наотлёт – малый в помятом пиджаке и пузырями на коленях неглаженных брюк. Под буйным чубом прячется глаз, временами остро простреливающий сквозь неплотный занавес волос.
Мужичок мается ожиданием начала процедуры высвобождения из ненавистного ига. Скорее бы развели, и в киоск, что через дорогу – наискосок.
Откуда-то из-за кулис выходит троица – мужчина в пиджачной паре и две тётки, народные заседательницы, активистки с местной трикотажки. В зале – движение, входящих встречают перестуком откидных сидений скамеек.
Судья взмахивает молотком, и воцаряется тишина.
– Заседание объявляется открытым, – проговаривает пиджачная пара, – слушается дело о разводе… Истец, встаньте…
Чубатый вскакивает.
Выясняется, что, пусть не совсем примерный, муж весь изнемог под ненавистным бабским игом, что жена обманула его ожидания, наобещавши до свадьбы всего, и что тёща – форменная ведьма, а молодость на излёте…
Судья переводит взгляд на заплаканную:
– Ответчица, вам есть, что сказать?
Нелюбимая жена неожиданно твёрдым голосом жалуется, что этот, который тут врал, в последнее время пристрастился, дома почти не бывает, и у него где-то на стороне. Кто-то…
На этом месте бедолага с места в карьер припускается рыдать…
– Совсем плохо ведёт себя? Муж-то? – судья строго поглядывает на чубатого.
А тот увлёкся, что-то притягивает сполохи взглядов. На кумаче явно сэкономили, и из зала видно, как у одной из заседательниц задралась юбка и светят розовым панталоны.
– Ответчица, вы согласны на развод?
– Нет! Новые рыдания…
Судья переглядывается с заседательницами. Та, что в розовых панталонах, почесала ногу. И улыбнулась… Вторая как-то заинтересованно посмотрела на кандидата в холостяки…
Объявляется перерыв, главная троица покидает оживляющийся за спинами зал.
И снова: – Встать, суд идёт.
Зачитывается приговор, и чубатый хватается за голову.
– Приходите через месяц. Если не передумаете…
И честная компания заторопилась из зала. Впереди – само упорное намерение добиться таки заветного – раздосадованный, но непоколебимый истец. За ним – рановато приободрившиеся дамы бальзаковского возрасти и одна молодая:
– Кузя, одумайся… Кузя, вернись в семью… Кузя… Кузя…