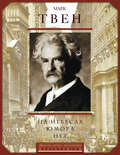Марк Твен
Школьная горка
Потом прибыл Шекспир и сочинил нечто крайне убогое, за ним последовала толпа римских сановников и генералов, и единственно примечательным во внесенной ими лепте было прекрасное знание английского языка; наконец около одиннадцати раздалось несколько громовых ударов, от которых подскочил не только стол, но и вся компания
– Кто это, назовитесь, пожалуйста.
– Сорок четвертый!
– О, как печально! Мы глубоко скорбим, но, конечно, мы опасались и ждали такого исхода. Ты счастлив?
– Счастлив? Разумеется!
– Мы так рады! Это огромное утешение для нас. Где ты?
– В аду.
– О, боже правый, сделайте милость, масса Оливер, отпустите меня, умоляю, отпустите! О, масса Оливер, мы с Рейчел не выдержим!
– Сиди спокойно, дурак!
– Ради бога, масса Оливер, сделайте милость!
– Да замолчишь ли ты, болван! О, если б мы только смогли убедить его материализоваться! Я еще не видел ни одного духа. Сорок четвертый, дорогой пропавший мальчик, прошу тебя, явись!
– Не надо, масса Оливер, рад» бога, не надо!
– Заткнись! Пожалуйста, материализуйся! Явись нам хоть на мгновение!
Гопля![11] В центре круга сидел мальчик! Негры взвизгнули, повалились спиной на пол и продолжали визжать. Безумный Медоуз тоже упал, но сам поднялся и, тяжело дыша, глядя на мальчика горящими глазами, встал чуть поодаль. Хотчкис потер руки в порыве радости и благодарности, и преображенное лицо его засветилось торжеством.
– Пусть теперь сомневаются неверующие и насмешничают зубоскалы, если им это нравится, но их песенка спета. Ах, Сорок четвертый, дорогой Сорок четвертый, ты сослужил нашему делу огромную службу.
– Какому делу?
– Спиритизму. Да перестаньте же верещать!
Мальчик наклонился, тронул негров рукой.
– Вот так – засыпайте. А теперь – в кровать! Утром вам покажется, что это был сон.
Негры поднялись и побрели прочь, как лунатики. Сорок четвертый обернулся и глянул на Безумного Медоуза – его веки мгновенно опустились и прикрыли безумные глаза.
– Иди, выспись в моей постели. Утром и тебе все происшедшее покажется сном.
Медоуз поплыл, словно в трансе, вслед за исчезнувшими неграми.
– Что такое спиритизм, сэр?
Хотчкис с готовностью объяснил. Мальчик улыбнулся, ничего не сказал в ответ и сменил тему разговора.
– В бурю в деревне погибло двадцать восемь человек.
– О боже, неужели это правда?
– Я их видел, они под снегом – рассеяны по всей деревне.
– Ты видел их?
Сорок четвертый пропустил мимо ушей вопрос, прозвучавший в слове, на котором было сделано особое ударение.
– Да, двадцать восемь.
– Какое несчастье!
– Несчастье?
– Конечно, что за вопрос?
– Я не имею представления об этом. Я мог бы их спасти, если бы знал, что это желательно Когда вы захотели, чтоб я спас того человека под навесом, я понял, что это желательно, обыскал всю деревню и спас остальных заблудившихся – тринадцать человек.
– Как благородно! И как прекрасно – умереть, выполняя такую работу! О, дух священный, я склоняюсь перед твоей памятью.
– Чьей памятью?
– Твоей, и я…
– Так вы принимаете меня за усопшего?
– Усопшего? Ну, разумеется. Разве это не так?
– Конечно, нет.
Радость Хотчкиса не знала границ Он красноречиво изливал ее, пока не перехватило дыхание, потом помедлил и взволнованно произнес:
– Пускай для спиритизма это неудача, да, да, – неудача, но, как говорится, выбрось это из головы и – добро пожаловать! Я бог знает как рад твоему возвращению, даже если расплачусь за него такой дорогой ценой; и черт меня подери, если мы не отпразднуем это событие. Я – трезвенник, в рот не брал спиртного вот уже несколько лет, точнее, месяцев… по крайней мере – месяц, но по такому случаю…
Чайник еще стоял на столе, бутылка, вернувшая к жизни Медоуза, была под рукой, и через пару минут Хотчкис приготовил две порции отличного пунша, «пригодного, на худой конец, для человека непривычного», как он выразился.
Мальчик попробовал пунш, похвалил его и поинтересовался, что это такое.
– Как что? Господь с тобой! Виски, разумеется! Разве не узнаешь по запаху? А сейчас мы с тобой закурим. Я сам не курю, уж много лет как не курю, ведь я президент Лиги некурящих, но по такому случаю! – Хотчкис вскочил, бросил полено в камин, помешал дрова, и пламя забушевало; потом он набил пару ореховых трубок и вернулся к гостю. – Вот, держи. Как здесь хорошо, правда? Ты только послушай, какая буря разыгралась! Ух, как завывает! А у нас до того уютно – словами не описать!
Сорок четвертый с интересом рассматривал трубку.
– Что с ней делать, сэр?
– Ты еще спрашиваешь? Уж не хочешь ли ты сказать, что не куришь? Не встречал еще такого парня. Чего доброго, скажешь, что соблюдаешь священный день отдохновенья – воскресенье.
– А что там внутри?
– Табак, разумеется.
– А, ясно Его обнаружил у индейцев сэр Уолтер Рэли[12], я читал об этом в школе. Теперь все понимаю.
Сорок четвертый наклонил свечу и прикурил; Хотчкис смотрел на него в замешательстве.
– Ты читал об этом? Видит бог! Сдается мне, ты знаешь только то, что прочитал в школе. Так как же, разрази меня гром, ты родился и вырос в штате Миссури и никогда…
– Но ведь я нездешний. Я иностранец.
– Да ну! А говоришь, как образованный житель здешних мест, даже без акцента. Где же ты рос?
– Сначала в раю, потом в аду, – простодушно ответил мальчик.
Хотчкис выпустил из одной руки стакан, из другой – трубку и, чуть дыша, с глупым видом уставился на мальчика. Наконец он неуверенно промямлил:
– Я полагаю, пунш с непривычки, всякое бывает, может, мы оба… – Хотчкис замолчал и только хлопал глазами; затем, собравшись с мыслями, сказал: – Не мне судить об этом, все слишком загадочно, но как бы то ни было, мы запируем на славу. С точки зрения сторонника сухого закона… – Хотчкис наклонился, чтоб снова наполнить стакан и набить трубку, и понес нечто бессвязное и невразумительное, а сам тем временем украдкой поглядывал, поглядывал на мальчика, пытаясь успокоить свой потрясенный и взбудораженный ум и обрести душевное равновесие.
А мальчик был спокоен, он мирно курил, потягивал виски и всем видом выражал довольство. Он вытащил из кармана книгу и принялся быстро листать страницы.
Хотчкис присел, помешивая новую порцию пунша, и не сводил с Сорок четвертого задумчивого и встревоженного взгляда. Через одну-две минуты книга легла на стол.
– Теперь мне все понятно, – заявил Сорок четвертый. – Здесь обо всей написано – о табаке, спиртном и прочих вещах. Первое место отводится шампанскому, а лучшим табаком признается кубинский.
– Да, и то, и другое – своего рода драгоценность на нашей планете. Но я что-то не узнаю этой книги. Ты принес ее сегодня?
– Да.
– Откуда?
– Из Британского музея.
Хотчкис опять сконфуженно заморгал глазами.
– Это книга новая, – пояснил мальчик – Она лишь вчера вышла из печати.
Снова сконфуженное моргание Хотчкис принялся было за пунш, но передумал, покачал головой и опустил стакан. Потом открыл книгу якобы для того, чтобы глянуть на обложку и шрифт, но тут же захлопнул ее и отложил в сторону. Он разглядел штамп музея, датированный вчерашним днем. С минуту Хотчкис нервозно копошился с трубкой, потом поднес ее дрожащей рукой к свече, просыпав при этом часть табака, и смущенно спросил:
– Как ты достал эту книгу?
– Я ходил за ней в музей.
– Боже правый, когда?
– Когда вы наклонились за трубкой и стаканом
Хотчкис застонал.
– Почему вы издаете этот странный звук?
– По-по-потому что я боюсь.
Мальчик потянулся к нему, тронул дрожащую руку и мягко сказал:
– Вот так. Теперь все прошло.
Беспокойство исчезло с лица старого поборника сухого закона, и он произнес с чувством огромного облегчения и довольства:
– Я весь трепещу, ликование пронизывает меня Восхитительно! Ликует каждая клеточка, каждый волосок – это колдовство! О, волшебник из волшебников, говори со мной, говори! Расскажи мне обо всем.
– Разумеется, если вы хотите.
– О, это чудесно! Только сначала я разбужу старуху Рейчел, мы перекусим и сразу почувствуем себя славно и бодро. Я едва на ногах держусь, да и ты, полагаю, тоже.
– Подождите. Нет нужды ее будить. Я сам что-нибудь закажу.
Дымящиеся блюда стали опускаться на стол; он был накрыт в минуту.
– Все как в арабской сказке. И теперь я не чувствую страха. Сам не знаю почему, наверное, из-за магического прикосновения Но на этот раз не ты принес эти блюда; ты никуда не исчезал, я наблюдал, за тобой.
– Да, я послал своих слуг.
– Я их не видел.
– Можете увидеть, если захотите.
– О, я бы все отдал за это!
Слуги сделались видимыми; они заполнили всю комнату. Ладные они были ребятишки – маленькие, алые, словно бархатные, с короткими рожками и острыми хвостиками; те, что стояли, стояли на металлических пластинках, те, что сидели – на стульях, кружком на диванчиках, на книжном шкафу, – дрыгая ногами, тоже подложили под себя металлические пластинки.
– Предосторожность, чтобы не опалить мебель, – спокойно пояснил мальчик, – они только появились и еще раскалены.
– Это маленькие дьяволята? – спросил Хотчкис слегка сконфуженно.
– Да.
– Настоящие?
– О да, вполне.
– Им здесь не опасно?
– Нисколько.
– А мне можно их не бояться?
– Конечно, нечего их бояться.
– Тогда не буду. По-моему, они очаровательны. Они понимают по-английски?
– Нет, только по-французски. Но их можно обучить английскому за несколько минут.
– Это поразительно. Они – извините, что я спрашиваю, – ваши родственники?
– Нет, они сыновья подчиненных моего отца. Вы пока свободны, джентльмены.
Маленькие дьяволята исчезли.
– Ваш отец…
– Сатана.
– Господи помилуй!
Глава V
Xотчкис, разом обмякнув, без сил опустился в кресло и разразился потоком отрывочных слов и бессвязанных предложений; смысл их не всегда был ясен, но основная идея понятна. Она сводилась к тому, что по обычаю, привитому воспитанием и средой, он часто говорил о Сатане с легкостью, достойной сожаления; но это был обычный пустопорожний разговор, и говорилось все для красного словца, без всякого злого умысла; по правде говоря, многое в личности Сатаны вызывало у него безмерное восхищение, и если он не говорил об этом открыто, так то досадная оплошность, но с сей минуты он намерен смело заявить о своих взглядах, и пусть себе люди болтают, что хотят, и думают, что угодно.
Мальчик прервал его спокойно и учтиво:
– Я им не восторгаюсь.
Теперь Хотчкис прочно сел на мель; он так и замер с открытым ртом и не мог произнести ни слова; ни одна здравая мысль не приходила на ум. Наконец он решился осторожно прозондировать почву и начал вкрадчивым улещающим тоном:
– Ну, вы сами понимаете, это в природе вещей: будь я, положим, дьяволом, славным, добрым, почтенным дьяволом, и будь у меня отец – славный, добрый, почтенный дьявол, и к нему относились бы с предубежденностью – возможно, несправедливой, или, по крайней мере, сильно раздутой…
– Но я не дьявол, – невозмутимо молвил мальчик.
Хотчкис не знал, куда глаза деть, но в глубине души почувствовал облегчение.
– Я… э… э… так сказать, догадывался. Я… я… разумеется, не сомневался в этом, и хотя в целом… О боже милостивый, я, конечно, не могу тебя понять, но – слово чести – я люблю тебя теперь еще больше, еще больше. У меня так хорошо на душе, так спокойно, я счастлив Поддержи меня, выпей что-нибудь. Я хочу выпить за твое здоровье и за здоровье твоей семьи.
– С удовольствием. А вы съешьте что-нибудь, подкрепитесь. Я покурю, если вы не возражаете, мне это нравится
– Конечно, но и ты поешь, разве ты не голоден?
– Нет, я никогда не чувствую голода.
– Это правда?
– Да.
– Никогда, никогда?
– Да, никогда.
– Очень жаль Ты многое теряешь Ну, а теперь расскажи мне о себе, пожалуйста
– Буду рад, ведь я прибыл на землю с определенной целью, и, если вы заинтересуетесь этим делом, вы можете быть мне полезны.
И за ужином начался разговор.
– Я родился до грехопадения Адама.
– Что-о?
– Вы, кажется, удивлены Почему?
– Потому, что твои слова застигли меня врасплох. И потому, что это было шесть тысяч лет тому назад, а тебе на вид около пятнадцати.
– Верно, это и есть мой возраст – в дробном исчислении.
– Тебе всего пятнадцать, а ты уже…
– Я пользуюсь нашей системой измерения, а не вашей.
– Как прикажешь тебя понимать?
– Наш день равняется вашей тысяче лет.
Хотчкис преисполнился благоговения. Лицо его приобрело сосредоточенное, почти торжественное выражение Поразмыслив немного, он заметил:
– Навряд ли ты говоришь это в прямом, а не в переносном смысле.
– Да, в прямом, а не в переносном. Минута нашего времени – это 41 2/3 года у вас, по нашему исчислению времени мне пятнадцать, а по вашему мне без каких-то двадцати тысяч пять миллионов лет.
Хотчкис был ошеломлен. Он покачал головой с безнадежным видом.
– Продолжай, – покорно сказал он. – Мне это не постичь, это для меня – астрономия.
– Разумеется, вы не можете постичь такие вещи, но пусть это вас не волнует: измерение времени и понятие вечности существуют лишь для удобства, они не имеют большого значения. Грехопадение Адама произошло всего неделю тому назад.
– Неделю? Ах, да, вашу неделю. Это ужасно, когда время так сжимается! Продолжай!
– Я жил в раю, я, естественно, всегда жил в раю; до прошлой недели там жил и мой отец. Но я увидел, как был сотворен ваш маленький мир. Это было интересно – и мне, и всем другим небожителям. Сотворение планеты всегда волнует больше, чем сотворение солнца, из-за жизни, которая появится на ней. Я видел сотворение многих солнц, многих еще неведомых вам солнц, расположенных так далеко в глубинах вселенной, что свет их еще долго не дойдет до вас; но вот планеты – они мне нравились больше, да и другим тоже; я видел сотворение миллионов планет, и на каждой было Древо в райском саду, мужчина и женщина под его сенью, а вокруг них животные. Вашего Адама и Еву я видел всего лишь раз; они были счастливы и безгрешны. Их счастье продолжалось бы вечно, если б не проступок моего отца. Я читал об этом в Библии в школе мистера Фергюсона. Счастье Адама, оказывается, длилось меньше одного дня.
– Меньше одного дня?
– Я пользуюсь нашим исчислением времени, по вашему он жил девятьсот двадцать лет, и большую часть своей жизни – несчастливо.
– Понимаю; да, это правда.
– И все по вине моего отца. Потом был создан ад, чтобы адамову племени было куда деться после смерти.
– Но оно могло попасть и в рай.
– Рай открылся для людей позже. Два дня тому назад. Благодаря самопожертвованию сына бога, спасителя.
– Неужели ада раньше не было?
– Он был не нужен. Ни один Адам с миллиона других планет не ослушался и не съел запретный плод
– Это странно
– Отнюдь нет: ведь других не искушали
– Как же так?
– Не было искусителя, пока мой отец не отведал запретный плод и не стал искусителем: он ввел в соблазн других ангелов, и они вкусили запретный плод, а потом – Адама и эту женщину.
– Как же твой отец решился отведать его?
– В то время я не знал»
– Почему?
– Меня не было дома, когда это произошло, я отлучался на несколько дней и не слышал про отцовское горе, пока не вернулся; я сразу же отправился домой – обсудить с ним случившееся, но горе его было так свежо и жгуче, так нежданно, что он лишь стенал да сетовал на свою судьбу; вдаваться в подробности было для него невыносимо; я понял одно – когда он отважился вкусить запретный плод, его представление о природе плода было ошибочным
– В каком смысле ошибочным?
– Совершенно неправильным.
– И ты тогда не знал, в чем ошибка?
– Тогда не знал, а теперь, пожалуй, знаю. Он, возможно, даже наверняка, полагал, что суть плода в том, чтобы открыть человеку понятие добра и зла, и ничего больше, человеку, а не Сатане, великому ангелу: ему это было дано ранее. Нам всем было дано это знание – всегда. Что побудило отца самому испробовать плод, неясно; и я никогда не узнаю, пока он сам не расскажет, но ошибка его была в том…
– Да, да, в чем же была ошибка?
– Он ошибся, полагая, что умение различать добро и зло – все, что может даровать плод.
– А он дал нечто большее?
– Подумайте над высказыванием из Библии, где говорится: «Но человеку свойственно делать зло, как искрам устремляться вверх»[13]. Это справедливо? Природа человека действительно такова? Я говорю о вашем человеке, человеке с планеты Земля'
– Безусловно, верней и не скажешь.
– Но это не относится к людям с других планет. Вот и разгадка тайны. Ошибка моего отца видна во всей своей наготе. Миссия плода не сводилась лишь к тому, чтобы научить людей различать добро и зло, – он передал вкусившим его людям пылкое, страстное, неукротимое стремление делать зло. «Как искрам устремляться вверх», иными словами, как воде бежать вниз с горы, – очень яркий образ, показывающий, что человек предрасположен к злу – бескомпромиссному злу, глубоко укоренившемуся злу, и ему несвойственно делать добро, так же как воде бежать в гору. О, ошибка моего отца навлекла страшное бедствие на людей вашей планеты. Она развратила их духовно и физически. Это легко заметить.