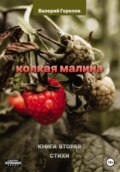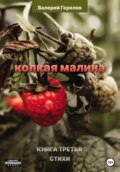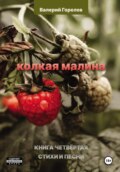Валерий Горелов
Я есмь дверь…
Посвящается тем, кто в моем поколении принял Христа…
Ведь Надежда остается даже там,
где нет ни хронологии,
ни здравого смысла.
«Нет силы, способной расчеловечить,
есть только мнимый страх перед тем,
что расчеловечивает».
Пролог
Это был месяц Нисан, первый месяц Библейского года 1968 от Рождества
Христова. Тогда в СССР вышел первый номер телепередачи «В мире животных», а всего таких выходов в эфир – тысяча. Всему советскому населению отлично была знакома мелодия-заставка, которая называлась «Жаворонок», ее автором значился Поль Мориа. Но никому было неведомо, что это финальная часть кантаты «Рождество Господне», написанной аргентинским композитором Ариэлем Рамиресом. Она называется «Паломничество» (дословный перевод – «След в след») и посвящена путешествию Марии и Иосифа в Вифлеем, где и был рожден Спаситель.
* * *
Скажу заранее, что в прологе не будет ни диалога участников, ни прямой речи. Ибо один из персонажей не может говорить привычным для нас образом. А потому все происходящее будет излагаться просто как когда-то свершившееся событие, в которое каждый вправе верить или не верить.
Очень далеко, у самого края земли, в городе с длинным и властным названием, жил мальчик по имени Витя. Его папа и мама очень любили мальчика и старались сделать все возможное для того, чтобы детство маленького человека было сказочно-добрым. Пошел он на своих ножках в годик. Вот на тот самый день рождения ему кто-то из добрых людей подарил игрушку, которую он, взяв в руки, больше не выпускал.
Первые три слова, которые произнес малыш, были «мама», «папа» и «Хрюша». Так звали эту маленькую мягкую игрушку, что была в милом образе поросенка в тельняшке. Мальчик говорить начал в три года, но у родителей иногда возникало впечатление, что он и до того срока о чем-то, полушепотом, в своей кроватке толковал с Хрюшей, с которым был неразлучен. Эта дружба в течение десяти лет переросла в привязанность. Все эти годы родители читали мальчику перед сном сказки Ганса Христиана Андерсена.
Больше сынок никаких ни сказок, ни стишков не признавал. А прослушав очередную сказку, он с Хрюшей под одеялом обсуждал услышанное. Вот так оно и было, вот так они и не расставались ни в праздники, ни в будни, всегда вместе.
Когда мальчику исполнилось семь лет, и он пошел в первый класс, то как-то, сидя за обедом с Хрюшей на коленях, высказал родителям просьбу. Похоже она была и от него, и от его друга, но прозвучала уж как-то очень по-взрослому. Похоже, это было очень продуманным желанием – поехать на родину своих любимых сказок. Родителей это несколько смутило, но они синхронно закивали головами. Наверное, соображали, куда просятся они ехать: это ведь на другом краю земли.
На том самом краю земли издревле стояла страна Дания. Страна, которая дерзнула на весь мир заявить, что самый их великий гражданин – не Нобелевский лауреат, физик Н. Бор, а сказочник Г.Х. Андерсен, родившийся в семье башмачника и прачки. Его произведения были переведены на 135 языков мира, его сказки учили маленьких читателей справедливости и добру. Вот такие обязательства вдруг взяли на себя родители перед своим сыном, который уже имел собственный характер и умел его проявить. Родителям казалось, что он к десяти годам изучил все 200 произведений Андерсена, которые были написаны для детей и взрослых. Как только мальчик освоил азбуку и стал читать, он каждую свободную минуту просиживал за очередной книгой. Рядом, конечно, был его лучший друг и единомышленник Хрюша.
К десяти годам стало понятно, что превзойти его любовь и привязанность к сказкам нет никакой возможности. В общем-то, родители их и не искали. Они имели серьезные намерения отвезти сына и его друга в сказочный музей в стране Дании, в городе Копенгагене. Музей назывался «Мир чудес Ганса Христиана Андерсена». Еще планировали посетить музей города Оденсе, где родился самый великий сказочник мира. Ни один детский театр не мог в своем репертуаре обойтись без сказок этого датского писателя.
Наш мальчик знал весь репертуар местного театра Юного зрителя. Когда там шли такие постановки, они с Хрюшей были неизменными зрителями. А после спектакля садились за оригинальный текст, что-то сравнивали, о чем-то спорили, рисовали какие-то свои костюмы и декорации, только им понятные и приемлемые. Так было со «Стойким оловянным солдатиком». На их рисунках, вопреки сюжету сказки, он плакал оловянными слезами.
Им откуда-то было известно, что солдатик ногу потерял не в сражениях с врагами своей сказочной страны, и даже не потому что на него олова не хватило. А ножку его съела болезнь с непонятным названием «оловянная чума». Вот так мальчик с Хрюшей редактировали сказки. А с Дюймовочкой была история, тоже ими придуманная и нарисованная в тетрадке фломастерами. Там финалом сказки было то, что девочка Дюймовочка со своим принцем летела проведать добрую женщину, в доме которой родилась. Она очень скучала по своей родине, там было самое синее небо и самый сладкий цветочный нектар.
И вот наступил долгожданный день. К тому сроку мама сшила Хрюше новую тельняшку, а старую выстирала, подштопала, выгладила и положила поверх сыновьих школьных тетрадок. Путь в сказочную страну был не быстрый и совсем не легкий. Но пришел день, когда их самолет приземлился на острове Амагер. В гостинице друзья сгорали от нетерпения в ожидании утра, но девятичасовая разница во времени свалит кого хочешь.
Утро, однако, наступило. Оно было чуть прохладное, но очень звучное и яркое. Хрустальный воздух преломлял миллионы солнечных лучей и развеивал их на всех окружающих предметах и людях.
Случилось так, что приезд в эту страну для наших путешественников все же обернулся некоторыми сложностями. Местные миграционные власти вместо пяти дней пребывания выдали разрешение только на два. Но, чтобы дать им в целом погрузиться в сказочную страну, эта служба подробно расписала движение транспортных маршрутов с точностью до минуты. Так что отведенного времени хватало, чтобы посетить оба музея Андерсена. И начали, конечно, с места, где он родился, где прошло детство сказочника – города Оденсе. Здесь, в его доме, создана экспозиция из коллекции рукописей и даже личных вещей писателя. На входе им выдали брошюру с кратким описанием экспозиции. Для мальчика и Хрюши это все было, конечно, очень интересно, но языковая недоступность сделала поход малоинформативным. Самым значительным для них стали рисунки персонажей сказок, рисованные самим писателем.
Дальше они, согласно своему маршрутному листу, поехали увидеть скромный и уютный домик, в котором родился и провел свои детские годы Ганс Христиан. Там было всего три маленьких комнаты, где сохранились личные вещи знаменитости, жившей почти два века назад. Все это мальчику и Хрюше было чрезвычайно интересно. Но они жаждали главной встречи – с музеем «Мир чудес Ганса Христиана Андерсена». Это особый мир персонажей любимого сказочника, который расположился в том самом доме, где жил и творил автор.
«Дом Андерсена» – не вполне музей в традиционном понимании этого слова. Здесь нет привычных стендов с экспонатами. Вместо этого, благодаря трехмерной анимации, зрители погружаются в сюжеты сказок. Возможно, это можно было назвать своеобразным аттракционом. Организованных экскурсий тут не проводилось. Посетители самостоятельно знакомились с экспонатами, выбирая, какую инсталляцию оживить. Когда они вошли в музей, сразу увидели восковую фигуру самого сказочника, сидевшего за дубовым столом и задумчиво смотрящего в окно. Тут же на столе стоял макет корабля, на котором Андерсен отправлялся путешествовать из родной Дании. А дальше начинались самые захватывающие показы сказок. Они были представлены инсталляциями, которые оживают, как только посетитель нажимает на кнопку рядом с картинкой и героем.
Надо было видеть глаза десятилетнего мальчика, когда восковые фигуры персонажей начинали разыгрывать спектакль по хорошо ему знакомому сюжету. Например, Дюймовочка появлялась из цветка. В музее были представлены «Огниво», «Русалочка», «Снежная королева» и «Голый король». Тут-то наши путешественники и сбились с графика движения по Копенгагену и пропустили свой автобус, на котором они должны были ехать в аэропорт. Мальчика и Хрюшу невозможно было увести из этого сказочного мира ни посулами, ни уговорами.
К сожалению, в музее не было сувенирной лавки, но по усмотрению служителей музея, особо впечатленным преподносили коробку с сувенирами в память о посещении этого замечательного места. Когда к нашему мальчику с такой коробкой в руках подошла маленькая седая бабушка, сама похожая на сказочную героиню и протянула ему этот подарок, он от волнения спрятал дрожащие руки за спину. А на улице уже гудел автобус, который был последней надеждой успеть на свой самолет. Надо было очень спешить. Мальчик поставил Хрюшу на полку рядом с Оловянным солдатиком и взял коробку в руки. Они прямо кинулись в уже готовящийся отъезжать автобус.
Всю дорогу до самой посадки в самолет мальчик не выпускал из рук коробку, которая была очень красочно расписана фигурками и сюжетами из сказок Андерсена. А уже в самолете, когда стюардесса попросила положить коробку в багажную полку, вдруг обнаружилось, что Хрюши-то и нет.
С этого дня прошло семь лет. За это время мальчик так ни разу и не открыл подаренную ему коробку. Он уже стал статным юношей, и сегодня у них в школе последний звонок. А коробка стояла на полке, и на ней лежала тельняшка, постиранная и поглаженная мамой. Хрюшина тельняшка, как маленькое одеяльце, прикрывала сказочный детский мир мальчика. Иногда было видно, что юноша думает об этом. В такие минуты мама с папой убеждали его, что Хрюше лучше в том сказочном окружении, в котором хоть и игрушечная, но существует правда, и хоть игрушечные, но есть законы. А всех там объединяет радостная вера в чудеса. Ведь это только люди взрослеют и стареют, становясь папами и мамами, и даже бабушками и дедушками. У всех у них было детство, а у каждого детства – свои игрушки. А юноша слушал их доводы и соглашался с ними, а может, только делал вид, что соглашался. Ему тогда не было ведомо, что и люди иногда становятся игрушками чьей-то злой воли.
День последнего звонка в гимназии выдался по-настоящему летним, с раннего утра теплым и лишь слегка ветреным. Где-то около полудня в дверь позвонили, женщина-почтальон принесла письмо, которое своим необычным видом побудило ее донести письмо до квартиры, а не бросать в ящик. В отличие от других конверт был не прямоугольный, а квадратный, с двумя большими красочными марками, и расцвеченный махровыми ромашками в каплях росы, которые блестели, как слезки. В графе «получатель» было написано «Мальчику». Родители с минуты на минуту ждали с праздничной линейки сына, а получили такое вот послание.
Письмо было из Дании от Хрюши. Оно было длинным и видно, что очень быстро написанным. Хрюша подробно делился своими впечатлениями о жизни в музее и очень был горд, что его в этом окружении встретили как равного среди равных. Они все тут братья и сестры, ибо у них у всех тут один папа, и имя его – Сказочник. А у него теперь вместо тельняшки – мундирчик с тремя пуговицами: серебряной, хрустальной и оловянной. Тут кого-то прихорашивают, кого-то подкрашивают и наводят блеск. А его, Хрюшу, тут никто не пытается называть свиньей. Он очень скучал, как бы ни было красиво и уютно в сказке, он все время вспоминал малыша, их перешептывания и таинственные переглядки.
Они вместе десять лет встречали Новый год и прятались под елкой, они вместе болели и вместе выздоравливали. Он вспоминал те две недели, которые ему пришлось провести в инфекционной больнице. Это были самые страшные впечатления Хрюши: грязные загаженные палаты, бьющиеся в судорогах детские тельца, поносы и рвоты. Но они были вместе и потому пережили этот малышовый ад. Его жизнь среди людей была больше страданием, но он очень скучал по своей родине. Какая она ни есть, но она Родина. А вот тут, на чужбине, никто не предлагал сделать щель в его голове, превратив тем самым в копилку, и совать туда серебро и медяки на черный день.
Много чего страшного может случиться с игрушкой, которая пытается думать как человек. А истина – то, что можно сделать игрушку, похожую на человека. Но бойтесь создать человека, похожего на игрушку, ибо расчеловечивание и есть абсолютное зло.
Часть I. Серебро, хрусталь
«И делом правды будет мир,
И плодом правосудия —
Спокойствие и безопасность вовеки»
Ис. 32:17.
А начиналось все это не в Киевской Руси, и не с Сребреника Святополка Окаянного, а на тысячу лет раньше, с «тирских» шекелей финикийской цивилизации, которая оставила свой след во всем Средиземноморье. Этими монетами и расплатились с Иудой за предательство Христа.
Можно было подумать, что на монете изображен римский император Тиберий и римский же орел, но на самом деле это финикийский бог Мелькарт, он же Ваал. А что орел, так это – символ Тира. Из-за ритуала сжигания детей Ваал отождествлялся с Молохом. Тирская монета весила 14 грамм и содержала рекордное количество серебра – 94% – это 940-я проба серебра. Предав Христа, Иуда вернул деньги первосвященникам, и на них была приобретена земля для погребения странников.
И вроде как это окаянное серебро затерялось в истории. Но вот каким-то необъяснимым образом одна из этих тридцати монет оказалась в XX веке, в 30-м году. И сейчас лежала на столе перед пристальным взором ответственного товарища из НКПП (наркомата пищепрома). Непонятного образа монета была увесистая и, судя по сопроводиловке, имела высшую на тот момент пробу серебра – 940-ю. Она была изъята у гражданина Быкова Е.Е., уроженца Москвы, гардеробщика Большого театра, 21 августа 30-го года коллегией ОГПУ в ходе операции по изъятию серебра. Злоумышленник был приговорен к высшей мере социальной защиты. Ответственный работник отчетливо понимал, что классовый враг не брезгует никакими средствами, чтобы создать лишние трудности и затормозить победоносное развитие социализма. Он был тертый калач и не мог без нужной подготовки утащить этот кусок серебра, а очень хотелось. Вообще-то он с утра был не в настроении. Наверное, потому и сунул сребреник в карман френча, а сопроводиловку сжег в оловянной пепельнице.
А вокруг кипели нешуточные страсти. Госбанк выпускал серебро в обращение, а оттуда оно мгновенно исчезало у населения, которое его переплавляло и хранило в слитках. «Серебряный прорыв», как назвал его Пятаков, начался в апреле 1930-го года. Работники кооперации зажимали серебро, частники за серебро продавали дешевле, чем за деньги.
Крестьяне прямо объявляли две цены за свою продукцию: одну – в серебре, другую – в бумажных деньгах. И хотя ОГПУ арестовало великое множество кассиров, кондукторов за утаивание мелкой монеты, но этот ответственный работник по фамилии Баскаков, сборщик податей, умел прятать концы в воду. Была у него «кладовая» по имени Флория. У той была гражданская позиция даже не двойственная, а тройственная. Империалистическую и часть гражданской
войны она прокаталась в обозе у Каледина, потом была «женой полка» у красных, но как-то смогла прилипнуть к командиру красных и сейчас числилась вдовой героя Гражданской войны, гордо именуя себя маркитанткой.
Теперь она пишет стихи на тему любви и морали, неизменно причисляя себя к поэтессам Серебряного века. По сути, она как была, так и осталась аферисткой и воровкой. Флория говорила Баскакову, что тот ее очаровал, как рассвет очаровывает яблони в цвету. Она любила подобные выражения и прямо выдавала их нараспев, при этом куря папиросы «Друг» по цене 9 копеек, ухитряясь еще при этом по-жигански плеваться сквозь зубы и материться. Флория позвонила около 18 часов с докладом, что сейчас без трусов и готова на все, а еще при этом жарит на примусе картошку на коммунальной кухне. Закончила она нараспев: «Взойди надо мной, мой рассвет».
Ответственный работник достал из кармана френча украденный сребреник и взял его на зуб. Тот поддался, вкус был металлический, похожий на кровь. Баскаков хмыкнул, сунул его назад в карман и засобирался, скрипя сапогами. У Флории было его «лежбище»: все, что он крал, не тащил на место проживания, а прятал в коммуналке у этой барышни. Крал он в наркомате, где состоял в членах проверочной комиссии – бригады, которая регулярно совершала набеги на еще существующие точки частной торговли. Все это тащил к Флории, которая любила жизнь и страстно ему отдавалась.
У нее за тяжеленным шкафом была ниша. Буржуи, похоже, когда-то там хранили свои ассигнации. Туда-то он и прятал серебро, а Флории говорил, что там его личное оружие. Он знал, что эта дама оружия боится, да и шкаф в одиночку ей было подвинуть не под силу. При всей своей духовной закаленности, она была тщедушной. Вероятно, маркитантки и поэтессы другими и быть не могут.
Выходя из наркомата, Баскаков козырнул дежурному и зашаркал по Первомайской. Он был в портупее и со знаком ГТО на груди.
Знак был, правда, не его, а выменянный на пять патронов для нагана, но он был серебряный и с яркой морковной эмалью. Ответственный работник шел в сторону красных ворот, а Ваал, оттиснутый на монете, почти две тысячи лет гулял по свету и ощутил тысячи рук, и тысячи раз его прикусывали, тем самым становясь исполнителями его воли, а значит становясь готовыми предать все то, что было им дорого. Но вот сегодня, в этой новой стране и в руках его нового прислужника, все было как-то неубедительно. Этот его новый раб выменял его с утра за мешок серой муки у какого-то родственника – изымателя ценностей.
Было понятно, что тут нужен новый подход, ибо у этого ответственного работника вообще ничего не было, что можно было предать: ни учителя, ни друга, ни родины, ни флага. Но древние боги знали природу человека такого типа. Из них можно было сделать клеветников и доносчков – всех тех, кто разворачивал общество на самопожирание. Все будут там, кто преисполнен сребролюбием, этим тяжелым недугом души и мыслей. Как бы не потерять и приумножить? Но вот только это серебро – окаянное, и оно есть отрава для души и плоти.
На общей кухне воняло керосином вперемешку с перегретым растительным маслом и непонятной природы жиром. А бабы, как привидения, махали в тумане руками и матерились, как уличные сапожники. Флории среди них не было, что означало, что картошка уже готова. Дверь в ее комнату была перекошена и поддалась не с первого раза. Флория подскочила к нему, звеня бигудями. Она была в халате цвета государственного флага, с утянутой донельзя талией и, судя по блеску глаз, все еще без трусов и на все готовая. Она пропела в своем стиле: «Я приду, когда вечер наступит».
Флория была не одна за столом, над сковородкой склонилась женщина. Баскаков тут же отметил, что барышня была недурна собой и на фоне Флории имела аппетитные формы. Она мгновенно представилась Лаймой, служительницей Мельпомены и кем-то, он так и не понял кем, из Мариинского театра. Она с театром в Москве и зашла в гости к старинной приятельнице. Дамы из солдатских кружек пили какую-то настойку грязно-бурого цвета с дурным запахом. Дама, похоже, быстро уходить не собиралась, и стало понятно, что визит за шкаф придется отложить. Эта приятельница, похоже, очень любила хвастаться. Но собой удивить не получалось, а потому она хвастливо повествовала о своей сестре по имени Ольга, которой оказывал знаки внимания сам Сережа Киров. Это Баскакову было совсем неинтересно, и он откланялся, не отведав картошки и не испытав жарких объятий поэтессы-маркитантки. А вот Ваала кое-что заинтересовало: он увидел нечто интересное для своих будущих превращений и испражнений. Это для людей реально всегда тайна, а для богов тайн не бывает.
На автобусе дорога заняла около получаса. Из открытого окошка автобуса пахло сладостью и мятой одновременно, а во рту был железно-кровяной привкус, и вроде как язык стал шершавым, на что Баскаков подумал, что давно уже водочки не пил со стерляжьим балыком. Ответственному товарищу было невдомек, что ему уже приготовлено занятие, от которого будет больше впечатлений, чем от выпивки в одиночестве.
Через час уже Ваал усадит его за стол и принудит писать донос на все руководство наркомата пищевой промышленности. Тот там служил, а потому обязан был знать все сплетни на их счет. Сейчас он должен был дополнить все собственными измышлениями и к утру уже эту бумагу доставить в ОГПУ. Теперь он будет доносчиком и клеветником, а придет время, язык у него раздвоится, и ответственный работник, который сейчас был способен только украсть потихоньку и спрятаться, станет демоном-доносителем. Теперь он должен будет все вокруг себя превращать в страх, террор и шизофрению. Его гнилое нутро обещало стать хорошим исполнителем чужой воли. Язык у него за ночь еще немного припух и стал заметно шершавым.
В восемь утра он уже торчал у дверей в приемную ОГПУ. Там его встретили чуть ли не овациями, когда он как гражданин и ответственный работник излагал свое клеветническое видение сослуживцев. И уже после обеда он, сидя в своем наркомате и сверяя накладные сахара и муки, слышал, как стучали каблуками оперативные работники и раздавались окрики, похожие на фронтовые команды. А за себя он как-то уже и не беспокоился: теперь он вроде в команде передовых борцов с лизоблюдами, казнокрадами и расхитителями. Хотя где-то слышал, что первый кнут достанется доносчику. Ему была уготована роль предателя, но доносчиком и клеветником быть тоже хорошо. Окаянное серебро действовало на все, в том числе и на пищеварение.
Уже в конце года в Москве прошел процесс над руководством Народного комиссариата пищевой промышленности, которое умышленно устраивало перебои с продовольствием. Народными обвинителями выступили ответственные работники этого комиссариата. Среди них были Василий Баскаков и вдова героя – командира Красной армии. 48 человек по приговору суда были расстреляны.
После этого Баскакова по большим рекомендациям перевели (встроили) в рабочее снабжение, и 22 сентября 1930-го года в советской прессе сообщалось о раскрытии контрреволюционной организации вредителей рабочего снабжения. Еще через три дня было сообщено, что 46 специалистов во внесудебном порядке были расстреляны.
Это только у Андерсена в его сказке «Серебряная монетка» она от собственного лица рассказывает о своих переживаниях и проблемах, когда ее в чужой стране признали фальшивой. А у окаянного серебра была своя история. Им заплатили за предательство, и сейчас это окаянное серебро доказывает живущим, что они, когда вместе с ним, и есть полная фальшивка. И избавить их от этого всего может только самоубийство, да и то – только серебряной пулей, а тут все серебро было попрятано по подвалам и норам. Серебряная вакханалия на этой территории набирала обороты. Погружаясь во тьму, люди пытались запастись этим металлом во спасение, а про проклятое серебро старались не вспоминать, хотя боялись его огромной античеловеческой силы. Но в атеистическом обществе, отвернувшись от веры, люди тем самым отвернулись и от спасения.
За серебром охотились все: от социально потерявшихся до царедворцев, просто последних реже изобличали. Но как те, так и другие становились людоедами. На улицах появились призывы «Объявим беспощадную борьбу с укрывателями разменной монеты». Эти самые укрыватели объявлялись классовыми врагами, и такие враги были повсюду. Наиболее предприимчивые переплавляли рубли и полтинники в серебряные слитки.
По состоянию на сентябрь 1930-го года было произведено около полумиллиона обысков и десять тысяч арестов. Отобрано серебряной разменной монеты на 3,3 миллиона рублей. В связи с этим усиливались слухи об отсутствии у государства серебра. Бурлил спекулянтский ажиотаж. Серебро становилось новой точкой отсчета террора против населения собственной страны. Серебро превратилось в убивающий и разрушающий металл. Каждый мог получить срок за свинью-копилку. Неисчислимое количество таких свиней было разбито молотком или обухом топора. Серебро стало токсичным. В одной из таких копилок и хранился один из тех серебряных шекелей, которыми было оплачено самое главное предательство в человеческой истории. Добро творят не ангелы, и зло творят не демоны. И то, и другое – дела рук человеческих.
А у Баскакова с Флорией прямо второе дыхание открылось: помимо страстного секса у них еще образовалось общее мышление. Они себя почувствовали значимыми персонами на сцене столичного театра. Ведь Флория тоже вкусила это ощущение металла с кровью и теперь во всю силу трудилась в столичном литературно-поэтическом сообществе и на его подмостках. Там она была на хорошем счету с творческим псевдонимом «Маркитантка». Волос у нее на голове оставалось все меньше, зато закучерявились бакенбарды, распев в разговоре – все шире, и более отчетливым стал бас-баритон. Этот ее песенный талант вроде как пришел из легенды, суть которой в том, что она где-то в приватных обстоятельствах была удостоена похвалы Ф. И. Шаляпина. С той поры она и разучилась объясняться простым гражданским языком.
Флория уже дважды написала на одного, возомнившего себя поэтическим божеством, но, к своему разочарованию, пока не видела, чтобы к нему применялись какие-то меры. Она хотела каких-то решений, потому что к этой личности относилась очень даже подозрительно, и в том, что он найдет свою кончину в тифозном бараке на краю земли, конечно, есть и заслуга Маркитантки. Ваал был доволен: эти двое уже были готовы к большому делу. И хотя им предавать было некого, доносительство их возбуждало, ибо придавало значимость собственным персонам. У Баскакова от Флории уже не было тайны, что хранилось в ящике за тяжелым шкафом. Она с его распоряжения таскала серебро по магазинам Торгсина и теперь одевалась только по парижской моде. Это только дураки-пролетарии собирали и переплавляли его, чтобы продать за рубли. Более умные получали за серебро европейский сервис.
Флория по средам, в компании таких же, как и она, стареющих чаровниц, устраивала сеансы то ли гаруспиции, то ли скотомании. Первое – гадание на внутренностях животных, второе – на фекалиях. При гаданиях на внутренностях считались наиважнейшими печень, желчь, легкие и сердце. Самое существенное значение имело исследование печени; одна сторона имела отношение к вопрошающим, а другая – к судьбе их врагов. Похоже, они еще и высматривали расположение кровеносных сосудов. Это происходило во время варки внутренностей, а потом сжигания их на костре. А вот по цвету фекалий определялся внутренний мир человека. Взяв в руки тарелку с фекалиями, они пытались вкусить аромат и сделать предсказание. От всех этих манипуляций по всей коммунальной территории стояла ужасная вонь. Да и сама Флория озонировала соответственно. Но в какой-то мере, это если не возбуждало Баскакова, то явно пробуждало и не давало скучать энергии, получаемой извне. Сам он сейчас осваивал новые ремесла: раскручивалось «Дело Промпартии» – крупный судебный процесс по сфабрикованным материалам о вредительстве в промышленности и на транспорте. Сам он тут уже был в опоздавших, но все равно помогал как мог, будучи уже умелым клеветником и доносчиком. Ремесло его было серебряным: наступало время, когда в Торгсине начали принимать серебро абы какой пробы. Принимали все серебро, кроме церковного, так как имущество церкви уже считалось национализированным.
Сытнее всего Баскакову и Флории было в голодном 1933-м году, так как народ тащил за горсть муки все, что мог наскрести. И он, как ответственный работник снабжения, плотно присосался к этим событиям. В ближайшем Подмосковье приемщики Торгсина принимали серебро по заниженной цене, а если расковыривали в слитках признаки переплавленных советских монет, то просто отбирали под угрозой ареста. Потом все это везли в Москву, и при ответственных работниках снабжения все это сдавали в столичных Торгсинах уже по другой цене.
В начале 1933-го года в пересчете на чистое серебро в Торгсине платили за килограмм 14 рублей 86 копеек. При перепродаже за границу государство зарабатывало на серебре значительные барыши, которые были выше, чем за продажу золота. А сдача серебра нарастала вместе с голодом. В мае-июне, когда голод достиг своего апогея, Торгсин скупил соответственно 173 и 170 тонн чистого серебра, которое пошло на укрепление окаянной диктатуры.
Флория тоже пыталась приклеиться к теме Торгсинов, ведь при них в портовых городах была практически легализованная проституция. Флория рвалась в Ленинград вместе со всей компанией. Государство прямо заставляло женщин заниматься древним ремеслом.
Работать они могли только в магазинах Торгсина и его ресторанах, и исключительно за валюту. Режим работы их был с шести вечера. Как внутри ресторана, так и снаружи было буквально нельзя пройти сквозь толпу проституток, сутенеров и спекулянтов. Кругом был предельный рационализм: «Все, что стране приносит серебро – разрешено».
И Флория скоро уедет в Ленинград, но кроме проституции она должна была исполнять поручение Ваала, которое было связано с проведением акции. Ваал собирался завязать узел, который потом будут расплетать очень долго и кроваво. Торгсин грабил голодающий народ согласно доктрине Бернарда Шоу: «кто хочет богатства и величия, тот должен грабить бедных». Голод стал следствием сверхэксплуатации деревни и ее деградации, принудительных хлебозаготовок и сплошной коллективизации. Ваал, вкушая такие радостные обстоятельства, придумал этому событию имя – Голодомор.
Он был в тонусе и готов на все, наверное, так же, как и Флория без трусов, только та была маркитантка, а этот персонаж – отштампованное на серебре божество Мамона. Уж кому, как не ему, было знать, что то, что называется человечеством, с момента своего появления на поверхности этой богом сотворенной земли всегда жило в религиозном сознании, что и помогало ему выживать в физической природе и в непрекращающейся войне с себе подобными. А в той действительности, в которой он сейчас находился, все это отвергли, написав свои собственные заветы, направленные на уничтожение религиозного сознания, то есть самих себя. Человека объявили Творцом, отобрали у него любовь и страх, и тем самым обрекли на скотскую долю. Кто не любит, у того нет выбора, а без выбора нет спасения и понимания, что он сам творит, уподобив себя Богу. Ваал, он же Мамона, намеревался на блюде принести это общество самому себе в жертву, ожидая, что они друг друга пожрут в приступе бытового людоедства.