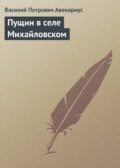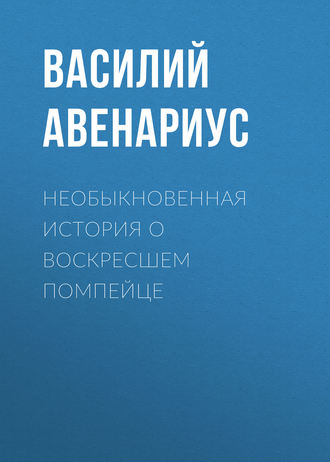
Василий Авенариус
Необыкновенная история о воскресшем помпейце
Глава шестая
Наука и жизнь
Под утро программа была готова, а с утра началось её выполнение.
Марк-Июний настолько уже окреп, что, задрапированный в плед, как в древнеримскую тогу, мог сидеть в вольтеровском кресле. Так как накануне речь зашла об оптических инструментах, то Скарамуцциа решился начать свой курс с оптики. Наставив микроскоп по глазам ученика, он стал показывать ему из своей коллекции микроскопических препаратов наиболее занимательные. Помпеец только ахал от восхищения.
– Да это чудо что такое! Микроскоп – это единственное в своем роде изобретение.
– Далеко не единственное – с самодовольствием отвечал профессор.
И, подкатив пациента в кресле к открытому балкону, он подал ему бинокль. Марк-Июний не отнимал уже стекла от глаз.
Сейчас перед окнами раскинулся городской сад – «Villa Nazionale», за ним расстилался лазурный Неаполитанский залив.
Наведя туда трубку, помпеец, очень заинтересовался дымившимися среди парусных судов и рыбачьих лодок с пароходами; а направив инструмент на отдаленный Везувий, он еще более был озадачен проведенной на гору проволочной железной дорогой, по которой всползал только что поезд. Изумлению и вопросам его не было конца, и сведущий по всем частям наставник едва успевал удовлетворять его ненасытную любознательность. Поневоле пришлось лектору отступить от своей программы, потому что движение парохода и паровоза нельзя же было растолковать без предварительного объяснения действия пара. Но эти отступления доставляли Скарамуцции даже удовольствие. Как молодая мать с умилением любуется первыми проблесками ума в своем детище, так умилялся он сметливостью своего «новорождённого» слушателя. Зараженный его молодым увлечением, он сам помолодел и увлекся.
С наступлением сумерек, когда на горизонте всплыла луна, профессор наставил на нее телескоп. То-то было опять восклицаний и вопросов! С луны разговор сам собою перешел на всю солнечную систему, на движение планет, на шарообразность земли; а там и на кругосветные путешествия, на открытие Америки Колумбом.
– От всех этих научных новостей у меня просто голова кругом идет! – признался Марк-Июний. – Для вас, новых людей, кажется, нет в мире ничего уже неизведанного?
– Да ты не узнал от меня еще и сотой доли всего, что знает у нас всякий школьник! – с торжествующим видом отвечал Скарамуцциа. – Теперь-то ты, надеюсь, начинаешь убеждаться, что цивилизация наша чего-нибудь да стоит?
– Я преклоняюсь перед нею! О чем-то мы будем говорить с тобою завтра?
– А вот увидим. Ты немного спутал мне мою программу. Надо еще сообразить…
– Ах! скорей бы, скорей бы только настало завтра!
Читатели едва ли посетуют на нас, если мы не выпишем здесь дословно весь ряд лекций, которые выслушал от Скарамуцции его 1800-летний ученик. Скажем только, что в дружеской беседе, шутя, Марк-Июний ознакомился со всеми первостепенными изобретениями, составляющими гордость человеческого ума, как-то: с книгопечатанием, барометром, термометром, телеграфом, телефоном (благо, в кабинет профессора были тоже проведены телеграфная и телефонные проволоки), с фонографом, фотографией, электрическими тягой и освещением и проч., и проч., также с важнейшими историческими событиями, географическими открытиями и с главными началами современной механики, физики, химии и медицины. Когда же к ночи любознательный ученик, донельзя утомленный всею массою воспринятых им разнородных сведений, погружался в глубокий сон, наставник целые часы ещё просиживал над своим дневником, чтобы занести туда все сделанные за день драгоценные наблюдения. О! Эти наблюдения должны были дать ему материал к такому учёному труду, какого доселе свет не видал! Но, точно между ним и его «объектом» установилась уже таинственная духовная связь, его инстинктивно все тянуло к помпейцу. Сидя над дневником, он не раз вдруг вскакивал и на цыпочках подходил к спящему, чтобы осветить лампою его лицо, заглядеться на него.
«Что значит молодость и отборная пища! Ведь был скелет скелетом; а вон теперь в неделю с небольшим совсем расцвел – кровь с молоком. Какая правильность, какое благородство во всех чертах лица! Разрядить его в живописный древнеримский плащ, так народ на улице останавливаться будет. Да что наружность! Сообразительностью он всякого также за пояс заткнет: так быстро ведь все схватывает, так метко возражает, что иной раз язык прикусишь… Ах, ты умница моя!»
В груди черствого ученого, закоренелого эгоиста взошло вдруг, зашевелилось совсем незнакомое ему дотоле теплое чувство – чувство дядьки к любимому питомцу, отца – к единственному сыну. Научный «объект» обратился для него в самого близкого и дорогого ему, живого человека.
«Ты будешь моей радостью, моей гордостью! – в приливе родительской нежности обещал сам себе Скарамуцциа. – Ты будешь моим преемником по науке – Марк-Июний Скарамуцциа!».
Помпеец, в свою очередь, – как с затаенным удовольствием замечал профессор, – питал к нему уже непритворное уважение. Тем не менее, внимание его не мало развлекалось доносившимися в открытый балкон уличными звуками: шумом экипажей, звонками конки и велосипедов, трубным воем моторов, говором и смехом прохожих, также долетавшею из городского сада музыкой. Не раз он, среди самой серьезной лекции, срывался с кресла и подбегал к балкону. Скарамуцциа должен быль насильно оттаскивать его назад, и в конце концов вовсе уже не открывал балкон.
– Но ведь все эти новые способы передвижения – совершенная тоже новость для меня! – говорил ученик. – А и нынешние люди – новые…
– А ну их совсем, этих новых людей! – отвечал учитель. – Велосипед же я, так и быть, пожалуй, куплю для тебя; прокачусь с тобой как-нибудь на моторе. До времени же имей немного терпения: сперва теория, потом уж практика.
И Марк-Июний покорился. Однако, с ним произошла видимая перемена. Вначале такой отзывчивый, разговорчивый, шутливый, он стал теперь рассеян, молчалив и грустен.
– Что с тобою, сын мой? – решился наконец допытаться Скарамуцциа. – Здоров ли ты?
– Совершенно. С чего ты взял?
– Да ты как-будто нос опустил. Недостает тебе чего? Скажи. Кажется, наш век представляет житейских удобств гораздо более, чем твой век.
– М-да… – как-то не совсем убежденно согласился Марк-Июний. – Для вас, нынешних людей, не существует уже ни пространства, ни времени: быстрее голубя перелетаете вы моря и земли; выше орла возноситесь вы к небесам; за тридевять земель вы можете в один миг переслать весточку вашим друзьям и даже переговаривать друг с другом; всякий предмет вы можете тотчас отпечатлеть на бумаге, всякий звук задержать на лету; в искусственные стекла, вы видите и мельчайшую тварь, о которой мы, древние, даже понятия не имели, и бесконечно-отдаленные надзвездные миры; не выходя из дому, вы безошибочно определяете погоду на дворе: тепло ли там или холодно, будет ли завтра дождь или солнце; наконец, что всего дороже, – познания мудрецов всех веков и народов сделались у вас общим достоянием, потому что могут быть приобретены за небольшие деньги в любой книжной лавке, тогда как мы, бедные, всякую книгу должны были собственноручно переписывать или покупать на вес золота…
– То-то же! – подхватил – Так ты, стало быть, не можешь, кажется, жаловаться на судьбу, что дожил до наших времён?
Марк-Июний подавил вздох.
– О чем же ты вздыхаешь?
– Ты не рассердишься на меня, дорогой учитель?
– Говори, не стесняйся.
– Вот, видишь ли. Если бы человеческое счастие заключалось единственно в том, чтобы пользоваться «плодами» вашей цивилизации, – то я, разумеется, почитал бы себя счастливейшим из смертных. Но, кроме материальной пищи – житейских удобств, кроме духовной пищи – наук, живому человеку нужна и пища душевная – самая жизнь, живые люди. А их-то я, можно сказать, до сих пор не видел.
– А я, а Антонио мой, значит, по-твоему не люди?
– Ты – не столько человек, как столп науки; Антонио же – раб, не человек. Нет, покажи мне настоящих людей…
– Эх, молодость, молодость! Что тебе в других людях? Повторяю, тебе: не стоят они внимания…
– Как не стоят? Они и родились-то, и выросли все в вашем идеальном, цивилизованном веке. Стало быть, по твоим же словам, все они довольны своей судьбой, все поголовно счастливы. Это должна быть такая Аркадия…
Скарамуцциа насупился и нетерпеливо перебил говорящего:
– Да, Аркадия, нечего сказать! Все, как волки, рады сожрать друг друга.
– За что? Почему?
– Потому что современный человек – самая ненасытная тварь. Чем более у него есть, тем более ему надо. Цивилизация его избаловала. Прибавь к этому человеческую дурь…
– Дурь? Но теперь, я думал, все так умны…
– Да, уж можно сказать! Наука неуклонно идет вперед, а человечество ни с места: по-прежнему на одного умника 99 дурней.
– Не слишком ли ты уже взыскателен, учитель? Ты меришь всех по своей мерке. Не всем же быть учеными, как ты! Как бы то ни было, еще раз прошу тебя: покажи мне их! Ты спрашивал меня: что со мною? здоров ли я? – Да, я здоров, но задыхаюсь. Воздуху, воздуху дай мне! Пусти меня на волю!
«А что, в самом деле? – сказал себе Скарамуцциа. – Герметически закупорить его от людей я не могу, да и не смею. Баланцони прав! А что он столкнется с другими, – не беда: чем скорее познает он пошлость людскую, тем скорее вернется к науке».
– Изволь, друг мой, – промолвил он вслух: – с теории перейдем на практику: я буду твоим ментором и повезу тебя по разным фабрикам и заводам. Дело только за платьем. Я предложил бы тебе один из моих европейских костюмов; но ты, вероятно, не захочешь явиться всенародно таким «скоморохом»?
– Ай, нет! избавь, пожалуйста.
– Так потерпи, пока портной сошьет тебе тунику и тогу.
– Не знаю, право, учитель, когда я рассчитаюсь с тобой: ты столько расходуешься на меня…
– Рассчитываться нам нечего: ты самим собою уже оплачиваешь мне все мои невеликие издержки.
Марк-Июний крепко пожал руку щедрого хозяина. – Нет, я не останусь у тебя в долгу.
Глава седьмая
Жизнь
Древний римский наряд, после тщательной примерки, был, наконец, готов. Живописный пурпуровый плащ, закинутый театрально через плечо, оказался удивительно к лицу молодому красавцу. Но на подбородке у него за это время успела вырасти темная щетина, а волосы на голове топорщились, и прежде чем показаться публике, Марк-Июний отдал себя в руки приглашённого в дом опытного парикмахера.
Усадив молодого человека перед зеркалом и накинув ему на плечи пудермантель, парикмахер засуетился вокруг него.
Помпеец не без подозрительности следил за движениями парикмахера, который стал взбивать кисточкою в мыльнице мыло. Древним римлянам наше пенистое мыло не было еще известно, и лицо, для облегчения бритья, они смазывали себе смоляным маслом (dropax). Но на нет и суда нет. Когда Марку-Июнию намылили щеки и подбородок, – он поморщился, но смолчал. Благополучно совершив над ним операцию братья, парикмахер подстриг ему волосы, прижег их в колечки, напомадил; потом ловко сорвал с него пудермантель и выразительным жестом показал, что все в исправности.
– И только-то? – спросил удивленный помпеец, оборачиваясь к профессору.
– Чего же тебе еще? – отозвался тот не менее удивленно.
– Как чего? А подровнять кожу пемзой, подвести брови, закруглить и окрасить ногти…
– Ну, уж не взыщи: у нас этого не полагается.
Марк-Июний пожал плечами: цивилизация, видно, не во всем пошла вперед, а кое в чем и поотстала.
– Так вели ему, по крайней мере, пустить мне кровь, – сказал он.
– Бог с тобой! Крови в тебе и так-то слишком мало.
– Но в мое время кровопускание считалось одним из лучших кровоочистительных средств…
– Современная медицина изверилась в этом средстве, от которого больше вреда, чем пользы.
Помпеец не возражал, но, видимо, не совсем убедился в непогрешимости новейшей медицины.
Ну, что ж, идем, – сказал он, драпируясь в свой плащ. – А утро-то какое!
Утро, в самом деле, было восхитительное апрельское. Еще спускаясь с лестницы, Марк-Июний с упоением вдыхал в себя свежее дуновение ветра с залива. Но не успели они еще выбраться на улицу, как на нижней площадке заступил им дорогу репортер «Трибуны» Баланцони.
– Lupus in fabula[13]! Наконец-то я поймал вас с поличным, signore direttore! И хоть бы цидулочкой, по обещанию, предупредили!
Скарамуцциа, озадаченный и смущенный, стал оправдываться тем, что наблюдения его не окончены и не подлежать еще огласке.
– Пустяки, пустяки! – перебил его Баланцони. – Раз вы с ним появляетесь на улице, он делается уже общим достоянием.
– Да кто выдал вам вообще, signore dottore, что мы – сегодня как раз выходим из дому? Ужели мой Антонио…
– Нет, ваш Антонио, к сожалению, неподкупен и нем, как рыба.
– Так от кого же вы узнали?
– А портной ваш, а парикмахер на что? Вы куда это собираетесь?
– В аквариум.
– Великолепно! И я туда же с вами. Tres faciunt collegium[14]. Я буду служить вам громоотводом от всех моих коллег. А теперь позвольте мне познакомиться с вашим молодым другом.
И, немилосердно, но бойко коверкая латинскую речь, Баланцони отрекомендовался помпейцу, как известный писатель; затем попросил позволения сопутствовать им обоим на их прогулке.
– Очень рад, – с холодною вежливостью отвечал Марк-Июний.
От наблюдательного глаза репортера не ускользнуло, что его собственная щеголевато небрежная внешность как-будто не внушает помпейцу особенного доверия.
– Не суди обо мне по внешности, – сказал он. – Диоген жил тоже в бочке и одевался в рубище. Но что же мы даром теряем время? Вперед!
Перейдя улицу, они вошли в городской сад и завернули в главную аллею. Необычный наряд помпейца не мог, конечно, не привлекать взоров гуляющей публики. С своей стороны и Марк-Июний с не меньшим любопытством оглядывал вблизи новых ему людей. Когда же он проходил мимо музыкального павильона, то вдруг остановился, как вкопанный: и струнный оркестр, и стоявший на эстраде, спиной к слушателям. Капельмейстер во фраке с раздувающимися от ветра фалдами и в такт размахивающий своей дирижерской палочкой, – все поражало его своей новизной. Баланцони принялся было объяснять ему употребление отдельных инструментов, но Скарамуцциа подхватил своего ученика под руку и увлек к аквариуму.
При входе туда профессор счел нужным сделать небольшое введение о великом значении, какое имеет для науки неаполитанская зоологическая станция, первая в целом свете по разнообразию и красоте образцовых экземпляров морских животных.
Действительно, переходя от одного стеклянного резервуара к другому, Марк-Июний не мог налюбоваться на плавающий, копошащийся там меж камней и растений живой подводный мир – всевозможных гадов, рыб, раков, моллюсков самых причудливых форм. Более всего его заинтересовали крабы: как только сторож, по требованию Скарамуцции, бросил к ним сверху пригоршню мелкой рыбы, крабы все разом с волчьей жадностью накинулись на лакомый корм и норовили вырвать его изо рта друг у друга. Ловчее, юрче других была самая мелкая порода этих морских хищников: схватив рыбку, они спешили незамеченно бочком-бочком прошмыгнуть за какой-нибудь утесик. Большие же заботились не только о себе самих, но и о своих паразитах – присосавшихся к их скорлупе слизняках в раковинах и, сами насытясь, терпеливо давали им также насытиться. Особенно забавен был большущий, на диво неуклюжий краб: в прожорливости своей он проглотил, видно, слишком крупный кусище, и тот застрял у него в горле, и вот, чтобы пропихнуть его куда следует, краб залез к себе в пасть клешней, да так неловко, что задел при этом свой собственный глаз и чуть-чуть не вывернул его себе из головы.
Из рыб всех красивее, пожалуй, были желтовато-зелёные, пятнистые мурены. Но Марк-Июний поспешил пройти далее.
– Постой! куда же ты? – сказал профессор.
– Я не могу их видеть… – отвечал помпеец. – У нас их кормили человеческим мясом…
– Да ведь только мясом пленных и рабов? – заметил репортер. – А устриц ты тоже не жалуешь?
– Нет, устрицы я кушаю с большим удовольствием.
– Так я могу угостить тебя сейчас такими, что пальчики себе оближешь! На всякий случай я велел отложить для нас шесть дюжин, по две на каждого. Идем.
И, подхватив Марка-Июния под руку, Баланцони пошел с ним к выходу. Скарамуцциа ничего не оставалось, как последовать за обоими.
Из городского сада они свернули к заливу и берегом вскоре выбрались на набережную Санта-Лючиа. Здесь были частью разложены на прилавках, частью навалены целыми грудами просто наземь «морские фрукты» – frutti di mare, т. е. такие же подводные обитатели Неаполитанского залива, каких они только-что видели в аквариуме.
– А вот и мой поставщик, – сказал Баланцони, хлопая приятельски по плечу довольно неопрятного на вид-старика-торговца. – Ну-ка, старичина, покажи, что ты для нас припас.
Торговец взял со стола кривой ножик, обтер его о свой грязный фартук и разрезал пополам пару лимонов, после чего принялся вскрывать одну за другой раковины и выковыривать оттуда устриц, – что делал (надо отдать ему справедливость) очень умело.
– Что же ты? Прошу! – пригласил Баланцони Марка-Июния, а сам, выжав кусок лимона над одной устрицей, с наслаждением препроводил ее в рот.
Нечистоплотность торговца отбила, казалось, у помпейца аппетит. Не желая, однако, обидеть своего нового знакомца-писателя, он проглотил одну устрицу, потом не спеша еще одну, и обтер себе губы.
– Только-то? – удивился Баланцони, который справился уже с целой дюжиной. – Сделай милость, не стесняйся.
– Благодарствую, – отказался Марк-Июний. – Боюсь испортить себе аппетит к обеду.
– А что, ведь, signore direttore, в самом деле, зададим-ка ему лукулловский обед в лучшем вашем ресторане Стараче в галерее Умберто. А? Пускай-ка сравнить с древними пиршествами.
– Пожалуй… – проворчал с полным ртом Скарамуцциа, исправно уплетавший также свою долю устриц. – Вы поезжайте сейчас заказывать обед, а мы отправимся своим путем.
– Это куда?
– Так, по своим делам, а может быть и на обойную фабрику.
– Oibo![15] Не нашли ничего интереснее?
– У нас с ним задумано целое научное странствие; начинаем же мы с обойной фабрики потому, что устройство её особенно наглядно. Да ты на что это так загляделся, мой друг? – обратился профессор к своему ученику, который между тем неотступно смотрел в сторону ряда многоэтажных, но чрезвычайно узких, в одно, в два-три окна, домов Санта-Лючии, разделенных друг от друга только тесными проулками.
– Какая теснота, какая запущенность! – проговорил Марк-Июний. – Жить там, должно быть, крайне нездорово.
– Да, это один из самых старых наших кварталов. Но эта передняя группа домов намечена уже к сломке…
– …Чтобы иностранцам, подъезжающим с моря, безобразием своим не слишком бросалась в глаза, – пояснил Баланцони. – Но с художнической точки зрения все это даже очень недурно: это белье, развешанное через проулки с балкона на балкон до самой крыши, – те же праздничные флаги.
– М-да… – протянул помпеец. – Для меня это во всяком случае очень назидательно: простой народ, как видно, до сих пор живет так же бедно, как тысячи лет назад.
– А может быть и еще беднее, – подтвердил репортер. – Не хочешь ли убедиться поближе? Тут можно пройти насквозь в самый центр города.
Скарамуцциа попытался было воспротивиться, но безуспешно. Проникнув в один из полутемных проулков, они должны были на каждом шагу глядеть себе под ноги, чтобы не поскользнуться, потому что по всему их пути бабы с засученными рукавами и подоткнутыми юбками стирали белье, орошая кругом мостовую целыми потоками грязной мыльной воды. Это была, так сказать, общественная прачечная под открытым небом, где внизу стирали, а наверху сушили белье на солнце.
Марк-Июний, промочив и запачкав себе свои новые сандалии, был очень доволен, когда – выбрался, наконец, в более сухую местность. Здесь было и более разнообразия в народной жизни. Мелкие ремесленники занимались своим делом по большей части на улице перед входом в свои темные логовища. На порогах домов, а то и на вынесенных на тротуар стульях сидели женщины с рукодельем, болтая с соседками. Тут молодая девушка, не стесняясь прохожих, заплетала свои пышные косы и, кокетливо сверкая своими черными глазами, перебрасывалась шутками с остановившимся перед нею молодым парнем. Там почтенная матрона усердно искала чего-то в голове своего полунагого ребенка.
– Ну, что? Каков теперешний народ наш, а?
– Народ как будто все тот же милый, добродушный, беспечный, – отозвался помпеец, – Но эта беднота, эта грязь!..
– Грязь – родная сестра бедноты. Naturalia non sunt turpia[16]. А вот и наш народный рынок.
– Великие боги!
То, что представилось здесь глазам Марка-Июния, действительно, могло озадачить, ошеломить свежего человека. Вся площадь кругом кишела самым серым людом, одетым крайне бедно, неряшливо, а то и просто в лохмотья.
В воздухе стоял неумолкающий гомон от тысячей голосов. Всякий старался перекричать других, потому что на всем пространстве площади шла самая оживленная продажа и меновая торговля; предметами же торга были всевозможное старье, разные овощи и плоды, рыба и мясо последнего сорта.
Вон разносчик-помидорщик продовольствовал зараз несколько человек: на куски белого хлеба он накладывал им красные ломтики помидоров, которые сверху обливал затем янтарного цвета оливковым маслом. И ведь как смачно те закусывали! Масло так и капало с пальцев на землю.
Рядом табачник не менее успешно торговал сигарными окурками, которые тут же закуривались, распространяя едкий, нимало не благоуханный дым.
– Откуда у него эта куча окурков? – удивился помпеец.
– А есть у него на послугах мальчишки, которые по ночам с фонарем подбирают окурки в канавках, – отвечал Баланцони. – О, у нынешних итальянцев ничего не пропадает!
Пробираясь далее, они наткнулись на уличного ресторатора. На жаровне у него пеклись каштаны; рядом кипели два больших котла. В одном варилась кукуруза, а из другого ресторатор исполинской ложкой выуживал длиннейшие тесьмы тягучего горячего теста. Марк-Июний остановился, чтобы узнать, как-то потребители справляются с такой штукой. А справлялись те прекрасно: схватив тесьму большим и указательным пальцами, они втягивали ее в себя не торопясь, с видимым наслаждением, после чего еще облизывались и причмокивали.
– Это – макароны, наше первое национальное блюдо, – объяснил Баланцони.
– Прикажете? – любезно обратился к ним ресторатор, размахивая своей ложкой, как магическим жезлом. – Punto cerimonie, Vossignoria[17]!
– Нет, не нужно, – коротко отказался за всех Скарамуцциа. – Ну, Марк-Июний, теперь, нам пора… А с вами, signore Balanzoni, мы встретимся в галерее Умберто, – так, часа через два. Эй, веттура[18]!
Едва веттура вывезла их с рыночной площади в ближайшую улицу, как из-за угла на них налетела гурьба уличных ребятишек и запрыгала около экипажа с протянутыми руками и притворно-жалобным криком:
– Signori, un soldo! Una piccola moneta![19]
– Пошли вы, пошли! – незлобиво отгонял их веттурино[20], пощелкивая для виду своим длинным бичом.
– Брось им что-нибудь, учитель! – попросил помпеец.
– Это родители приучают их сызмала попрошайничать, – сухо отозвался профессор. – Потакать им грех.
В это время один шустрый мальчугашка, чтобы обратить на себя более внимания, перекинулся несколько раз колесом, а потом опять протянул ладонь.
– Una piccola, piccola moneta!
– Ну, дай хоть этому-то! – попросил опять помпеец. – Какой ведь искусник!
Профессор нехотя бросил искуснику медную монету. Тот поймал ее налету и затянул звонко на оперный мотив:
– Grazie, signore! grazie, signore!
И вся орава, смеясь, подхватила ему под тон:
– Grazie, signore!
– Вишь, какие славные, веселые! – умилился Марк-Июний. – Но что-потом-то из них, бедных, выйдет!
– Выйдут такие же ленивцы и тунеядцы, как их родители, – проворчал Скарамуцциа. – Народ наш вконец опустился. Тебе все хотелось жизни. Но разве это жизнь? В настоящее время жизнью у человека может называться только служение науке. Большинство служит ей, правда, только механически: двигателями являемся мы, избранники науки. Сейчас вот ты увидишь такую одухотворенную наукою жизнь людей низшего разбора.
Они въехали в фабричный квартал. Еще улица, другая, – и веттура остановилась перед мрачным кирпичным зданием обойной фабрики.
При самом входе на фабрику, их охватило тяжелым запахом клея, красок и жилья. Содержалась фабрика довольно неопрятно; а самые условия производства еще более отравляли в ней воздух, и все рабочие: мужчины, женщины и дети, имели изнурённый, больной вид. Следуя за своим ментором из отделения в отделение, Марк-Июний рассеянно прислушивался к его объяснениям: поголовная болезненность этих «механических служителей науки» производила на него удручающее впечатление.
– Я не могу спокойно видеть этих – несчастных! – заметил он. – А эти подростки – краше в гроб кладут! Доживут ли они еще до взрослого возраста?
– Сомнительно, – отвечал Скарамуцциа. – Но что же, любезный, делать? Без жертв не обходится никакой успех цивилизации.
– Да в чем тут цивилизация? В пестрой бумаге, которою вы оклеиваете ваши комнаты? Неужели, по-твоему, это тоже – служение науке, настоящая жизнь? Это – жертвоприношение, но не богам, а вашей же людской прихоти. Помочь этим беднякам я один, разумеется, не в силах. Но, глядя на них, сердце кровью обливается. Уйдем, пожалуйста!