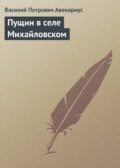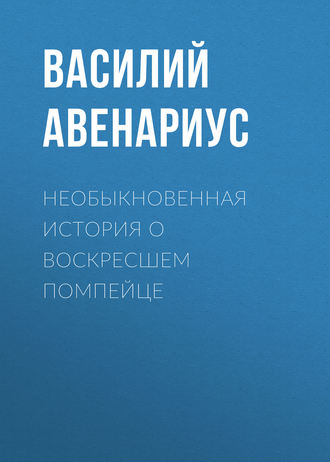
Василий Авенариус
Необыкновенная история о воскресшем помпейце
– Да я не все еще показал тебе…
– Уйдем, сделай такую милость!
– Ты, сын мой, может быть, проголодался?
– Да, да! Тот писака верно ждет уже нас.
Глава восьмая
Последние слова цивилизации
Репортер, действительно, уже поджидал их при самом входе в галерею Умберто.
– Наконец-то! – воскликнул он. – А эти господа уже напали на наш след!
– Ваши коллеги? – спросил Скарамуцциа.
– Да. Они сидят уже в ресторане.
– Так не убраться ли нам сейчас в какой-нибудь другой ресторан?
– Ни к чему не послужит: вон, видите, один соглядатаем издали наблюдает за нами. И я буду держать их в почтительном отдалении.
Они вошли в ресторан.
– Garzone[21]! – повелительно крикнул Баланцони.
Расторопный гарсоне отодвинул для каждого из них стул около небольшого углового стола, уставленного уже целой батареей вин и серебряным холодильником с тремя бутылками шампанского, а затем упорхнул за кушаньем.
В ожидании Баланцони навел разговор на великое значение печати.
– А сам ты, скажи, в каком роде пишешь? – спросил Марк-Июний. – В идиллическом или сатирическом?
– Как тебе сказать?.. – замялся репортер. – Скорее в сатирическом: я описываю жизнь изо дня в день, как она есть. Я, так сказать, – муравей печати.
– Прости, но я тебя не совсем понимаю.
– Современная печать, видишь ли, или попросту газеты (потому что газеты поглотили теперь весь интерес общества) – это муравейник, где каждый из нас, муравьев, собирает для своих ближних соломинки и зернышки – мельчайшие новости дня со всего света и этими новостями связывает, можно сказать, все человечество в одну родственную семью.
Говорилось все это с пафосом, чтобы сразу внушить помпейцу должное уважение к «муравьям печати»; но расчёт пока не оправдался.
– В чем же могут заключаться ваши мировые новости? – сдержанно спросил его наивный слушатель.
– Прежде всего, разумеется, в международных вопросах, вопросах войны и мира.
– Так войны бывают еще и до сих пор, несмотря на всю вашу цивилизацию?
– Чаще и истребительнее, чем когда-либо прежде. Не проходит месяца, чтобы не изобрели нового снаряда, нового средства к истреблению людей массами. А мы, застрельщики цивилизации, – продолжал он, с самосознанием указывая на висевший у него на часовой цепочке карандаш-пистолетик, – мы вот этим мелким, но метким оружием разносим славу изобретателей по всему свету.
– Славу людей, которые способствуют истреблению себе подобных? – сказал Марк-Июний. – Личное мужество, значит, потеряло у вас уже всякую цену? Храброму человеку нельзя уже пожертвовать собою для отечества? И ежедневное воспевание этого-то варварского способа расчёта с врагами вы считаете чуть ли не подвигом?
Баланцони поморщился.
– Войны в принципе я сам не одобряю, – сказал он, – но если люди раз воюют, так как же об этом молчать? Впрочем, и кроме войны, мало ли у нас еще других, мирных сюжетов.
– И столь же благородных, – с иронией подхватил тут Скарамуцциа: – как-то: убийства, поджоги, мошенничества…
– А что же прикажете делать бедному люду? Чем цивилизованнее народ, тем у него более потребностей, тем более ему нужно на удовлетворение их средств. Борьба за существование! Но мы застрельщики, следим неусыпно, чтобы никто чересчур уже не забывался.
– Бедное человечество! – сказал Марк-Июний, которому вспомнились при этом бледные, исхудалые лица бедняков. – Люди, как я вижу, благодаря вашей цивилизации, сделались только кровожаднее, преступнее и несчастнее… Вон хоть этот молодой человек, – продолжал он пониженным голосом, кивая на сидевшего неподалеку бледного, худощавого юношу, не сводившего лихорадочного взора с их стола. – Как он жадно сюда смотрит, точно голодал целые сутки.
Баланцони рассмеялся.
– Слышали, Меццолино? – отнесся он к бледному юноше. – У вас такой вид, точно вас не кормили целые сутки.
Но юноша, казалось, только и выжидал случая, чтобы завязать разговор с обедающими. Он подошел к ним с развязным поклоном и обратился прямо к Скарамуцции:
– Очень счастлив, что могу лично представиться вам, signore direttore. На днях я имел честь оставить у вас мою карточку: репортер «Утра», Меццолино.
Не договорил он, как из-за других столов одновременно вскочили еще три личности и двинулись также к Скарамуцции.
– Позвольте и мне отрекомендоваться, – заговорили все трое разом: – репортер здешнего «Курьера», Бартолино; репортер «Жала», Педролино; репортер «Родины», Труфальдино.
Нападение их было предусмотрено опаснейшим соперником их, репортером римской «Трибуны». Решительным движением руки Баланцони остановил их дальнейшее наступление.
– Я уполномочен, господа, объявить вам, что ни один из нас тут за этим столом не расположен нынче к общественности, что мы, как замкнутое общество, существуем только друг для друга.
– Но не сами ли вы, синьор Баланцони, такой же репортер… – начал Меццолино.
– Репортер – да, но не такой же, извините! Римская «Трибуна» читается всей Италией… Наши объяснения, я полагаю, кончены!..
Взоры четырех подошедших репортеров, как бы ища поддержки, обратились к Скарамуцции. Но тот, делая вид, что не слышит их спора, занялся черепашьим супом, который между тем подал гарсоне. Бормоча что-то под нос, репортеры должны были обратиться вспять.
Подошедшая в это время к обедающим молодая цветочница с обворожительной улыбкой подала каждому из них по букету фиалок.
Баланцони первый продел свой букетик в петлицу.
– Не правда ли, – похвальный обычай у нас – украшаться цветами? – заметил он помпейцу.
– Не переняли ли вы его от нас, древних? – отозвался Марк-Июний. – Мы украшались за обедом даже целыми венками. Самый обед от этого как-то вкуснее.
– Ничуть! – проворчал Скарамуцциа. – Не все ли одно: как и что есть? Было бы сытно.
– Нет, изящество, красота придает всему большую цену, – возразил помпеец: – в мое время, по крайней мере, еда была одним из эстетических удовольствий жизни. Мы приступали к обеду чинно, как к некоему таинству: освежались предварительно ванною, натирались благовонными эссенциями, увенчивались цветами. Обедали мы тоже не сидя, как вы, на стульях, чтобы скорее только перекусить и бежать опять без оглядки по своим домам. Нет, мы возлежали на подушках мягко и удобно. А как подавалось нам каждое блюдо! Жареные павлины и фазаны во всей роскоши своих перьев пирамидами возвышались перед нами. Рабы наперерыв подливали нам сладких вин. Арфы и лиры услаждали наш слух. Индийские танцовщицы пленяли наш взор. Шуты и скоморохи потешали наше сердце. Кровь в жилах кружилась все быстрее; на душе становилось все светлее. И только к ночи, при свете факелов, расходились мы, тяжело опираясь на своих рабов…
– Punctum! Sapienti sat![22] – прервал Баланцони, делая ремарку на своей манжетке. – В эстетике еды мы, точно, от вас поотстали: на все это надо большие деньги, а их-то теперь ни у кого нет. Но готовить кушанья у нас тоже таки умеют. Что же ты не ешь, любезнейший? не нравится, что ли? Это одно из самых тонких наших яств – майонез из дичи.
Марк-Июний, с видимой предубежденностью отведав незнакомого яства, отодвинул от себя тарелку.
– С меня довольно, – отговорился он.
– Так запей, по крайней мере. Вино-то наше хоть не хуже вашего.
И с этими словами репортер налил ему полный стакан вина, после чего спросил, как ему понравилось на обойной фабрике. Узнав же о тяжелом впечатлении, вынесенном оттуда помпейцем, он ему с горячностью поддакнул:
– Ну, да! совершенно то же, что я уже сто раз твердил. Людьми жертвовать для нищенского украшения домов! То ли дело ваша древняя стенная живопись…
– Которая стоила во сто раз дороже обоев и была едва ли красивее! – возразил Скарамуцциа.
– Извини, учитель, – вступился Марк-Июний. – Обои – ремесленный продукт, тогда как картина – продукт художественного вдохновения, чистого искусства.
– А и для рисунка обоев, друг мой, требуется известная доля вдохновения и искусства.
– Но узор на них постоянно повторяется…
– Да, но в этом-то и главное их достоинство: повторяющейся гармонией линий и красок они приятны глазу, но без надобности не развлекают внимания. Ну, хочешь видеть раз отдельную картину, так вот на, любуйся!
Он указал на висевшую на стене эффектную олеографию в золотой рамке.
– А в самом деле, какая замечательная живопись! – сказал Марк-Июний. – Вот, подлинно, предмет чистого искусства!
– Не правда, ли? А знаешь ли, что в сущности это – такой же ремесленный продукта, как и обои, простая только копия.
И ученый наш тут же объяснил способ печатания олеографий.
– Но копия эта, – заключил он, – стоит даже выше своего оригинала, ибо во 100 раз его дешевле и доступна самым недостаточным людям. Это одно из последних слов цивилизации.
– Вы умалчиваете, однако, о главном, – вмешался Баланцони, – что на олеографию можно смотреть только издали: вблизи сейчас разглядишь, что это ремесленный продукт, слабое подражание. Кроме того, олеографии крайне непрочны, потому что отпечатаны на простой бумаге, да и скоро линяют от света, тогда как настоящие масляные картины, писанные на полотне, переживают века, и подлинными картинами какого-нибудь Рафаэля, Тициана, Леонардо-да-Винчи мы восхищаемся точно так же, как восхищались ими наши, деды, как будут восхищаться ими наши внуки.
– Так и теперь, значит, есть еще ценители чистого искусства? – встрепенувшись, спросил Марк-Июний. – Где же можно видеть такие подлинный картины?
– В картинных галереях.
– Вот если-бы мне также побывать в такой галерее!
– А что же, завтра же, если желаешь, съездим с тобой в нашу национальную галерею.
Скарамуцциа собирался протестовать, как вдруг из глубины ресторана послышалось пение. Пел всего один женский голос, но это было чудное сопрано, выделывавшее с необычайной легкостью удивительные фиоритуры.
Помпеец побледнел как полотно, схватился рукою за сердце, да так и замер на стуле.
– Что с тобой, мой сын? – заботливо спросил его профессор.
– Молчи, молчи… – прошептал Марк-Июний. – Это совсем её голос…
– Чей?
– Да покойной Лютеции…
Баланцони рассмеялся.
– Так ты и не подозреваешь, что это такое? Это просто граммофон.
– Не мешайтесь, пожалуйста, не в ваше дело! – строго заметил профессор и обратился снова к своему ученику. – Граммофон – также из последних слов цивилизации. Я как-то объяснял уже тебе его конструкцию. Вон, видишь, – огромная металлическая труба: звуки исходят прямо оттуда.
Марк-Июний облегченно перевел дух.
– А я было уже думал… – проговорил он. – Но чей же голос уловили в этот аппарат?
– Ну, этого, не взыщи, сказать тебе я не умею. В музыке я профан. Синьор Баланцони! как зовут ту синьору, что поет нам из граммофона?
– Ужели вы не узнаёте нашу диву Тетрацини? – воскликнул репортер. – Да после Патти это первое в Европе колоратурное сопрано. В граммофоне, правда, выходит не совсем то: слышится что-то чужое, металлическое. Но завтра, Марк-Июний, ты можешь услышать ее самое: она поет в театре Сан-Карло, притом в лучшей опере Россини «Вильгельме Телле».
Скарамуцциа начал было доказывать, что граммофон даже предпочтительнее театрального представления, потому что механически воспроизводит то, на что без толку тратятся силы сотни людей и бешеные деньги. Но разгоряченный уже вином ученик не хотел его слышать.
– Не нужно мне вашей механики! дайте мне чистого искусства! – говорил он, и сам уже налил себе полный стакан.
– Не пей столько, сын мой, – остановил его профессор – ты ничего ведь почти не ел.
– Да, не пей этой дряни, – подтвердил Баланцони: – я угощу тебя сейчас таким нектаром, которого ты еще в жизни не пивал.
И в бокалах запенился игристый напиток Шампаньи. Баланцони чокнулся с Марком-Июнием.
– Да здравствует искусство!
Тот с энтузиазмом поддержал тост и одним духом осушил бокал.
– И то ведь нектар, клянусь Гебой! – вскричал он и с такой силой хватил кулаком по столу, что стаканы и бокалы запрыгали и зазвенели:
– «Nunc est bibendum! nunc pede libero Pulsanda tellus»…[23]
Помпеец, очевидно, совсем захмелел. Давно уже сделался он центром всеобщего внимания обедавших в ресторане. Когда же он затянул свою застольную песню, кто-то крикнул:
– Браво!
Несколько голосов со смехом тотчас подхватило этот крик:
– Браво! брависсимо! Dacapo!
Скарамуццию покоробило; он тронул ученика за руку.
– Потише, милый мой! Ты забываешь, что мы в общественном месте.
– Ах, оставь меня! – сказал Марк-Июний, вырывая руку, и круто обернулся к Баланцони: – Ты что это делаешь?
Тот усердно строчил что-то карандашом пистолетом на своей манжетке.
– А записываю твою песенку.
– Это зачем?
– Затем, чтобы она не пропала для моих соотечественников.
– Завтра вся Италия будет знать каждое твое слово, – с горечью пояснил Скарамуцциа.
Помпеец вскочил из-за стола.
– Ну, нет, этого я не желаю! Уйдем отсюда, учитель…
– Ты, пожалуйста, не принимай так близко к сердцу, – сказал Баланцони: – как передовой застрельщик печати, я, согласись, не могу не поделиться с другими такою прелестью…
Марк-Июний, не слушая, схватил профессора за руку и увлек его вон из ресторана на галерею. Репортер, пожав плечами, поплелся вслед за обоими, но тут его нагнал ресторанный гарсоне.
– А деньги-то, с кого прикажете получить?
– С кого же, как не с синьора Скарамуцции? – отвечал Баланцони. – Он угощал нас. Счет можете послать ему на дом.
Марк-Июний тем временем выбрался из галереи и остановился на минутку на верхней ступени, чтобы вдохнуть в себя свежую струю воздуха полною грудью. Вдруг с противоположной стороны улицы на него наводят фотографический аппарат!
– Да что это, не меня ли уже снимают? – вскричал он.
– Готово! Вот это по-нашему! – услышал он за собой веселый голос Баланцони. – Как ласточку, ведь, налету подстрелили! Тоже застрельщик, только другого оружия.
Подкативший тут веттурино спас помпейца с его наставником от дальнейших покушений «застрельщиков».
Глава девятая
Триумфатор
Прибыв домой, Марк-Июний, по совету своего хозяина, прилег, чтобы отдохнуть от массы разнообразных впечатлений первого дня среди «новых» людей, да так и проспал до следующего утра. Не смотря на продолжительный сон, он встал с тяжелой головой и довольно бледный, так что Скарамуцциа решил продержать его этот день дома. Но он не принял в расчёт неодолимого «застрельщика», репортера «Трибуны». Напрасно Антонио, заслонив собою дверь, уверял последнего, что господа никого не принимают.
– За исключением меня, потому что я свой человек, – самоуверенно сказал Баланцони и, оттолкнув в сторону камердинера, влетел прямо в кабинет хозяина.
– Доброго утра, господа! Я боялся, что, пожалуй, уже не застану вас. Читали вы нынешние газеты? Нет? И на улицу еще не выходили? Так у меня для вас две самые свежие новинки. Вот первая – моментальный снимок.
Он подал помпейцу фотографическую карточку кабинетного формата. Бледные щеки молодого человека покрылись густым румянцем: он увидел, в точной копии, самого себя, поддерживаемого под руку профессором, а позади их обоих – смеющегося репортера.
– И эту картинку может теперь купить на улице всякий? – спросил он.
– Всякий, кому не жаль пяти лир. Аферист тоже этот фотограф: знал, ведь, назначить цену! Завтра, понятно, сбавит.
– Но этак все на меня пальцем показывать будут…
– Ты – герой дня; так как же иначе? А печать завершила твое торжество. Вот вторая моя новинка; слушай.
Он достал из кармана пачку газет, развернул одну газету и стал переводить по-латыни.
– Да тут и на половину нет правды! – возмутился Марк-Июний.
– Речь без красного словца – что еда без перца. Погоди, что будет еще в «Трибуне!» Сегодняшний номер мы получим из Рима, к сожалению, только завтра.
– А вы сообщили туда по телеграфу? – спросил профессор.
– Как же иначе? Целый фельетон.
– Но теперь мне стыдно будет на улицу показаться… – пробормотал помпеец.
– Стыдно? – удивился репортер. – Какой же ты после этого герой? Напротив, теперь-то тебе и глядеть орлом; вот я, дескать, какой. И я нарочно заехал за тобой так рано; ведь до обеда нам нужно осмотреть еще весь национальный музей.
– А что ж, мой друг, предметы искусства тебя и то, пожалуй, рассеют, – заметил профессор.
И вот, они втроем катят уже в коляске, по направлению к национальному музею, улицей Толедо, этой главной артерией городского движения.
Непривычного человека и в иное время могло оглушить этим грохотом экипажей (в Неаполе не знают резиновых шин), хлопаньем бичей, звонками трамвая и велосипедистов, мычаньем моторов, возгласами разносчиков. Сегодня же весь этот хаос уличных звуков старались еще из всех сил перекричать газетчики, на всех углах и перекрестках махавшие своими газетами:
– Сюда, синьоры! небывалый номер: о воскресшем помпейце!
Посреди же улицы, с особенною торжественностью расхаживали продавцы фотографий: на громадном, двухаршинном шесте каждый из них нес перед собой, как победное знамя, портрет Марка-Июния в натуральную величину и орал также во все горло:
– Новейшее чудо! воскресший помпеец! Две лиры за мелкий формат, пять лир за кабинетный! Купите, купите! Восьмое чудо света! воскресший помпеец!
И «небывалый номер» газетчиков раскупался нарасхват; к продавцу «восьмого чуда» протягивались руки с тротуаров, из проезжающих экипажей.
– Давай его сюда, твоего помпейца!
Тут вдруг заметили едущего мимо подлинного помпейца.
– Per Dio! Да вон и сам он! сам помпеец!
И все прохожие, все проезжающие направо и налево уже оборачиваются к нему, не то приветливо, не то насмешливо кивают ему.
– Доброго утра, синьор помпеец!
По тротуарам народ бежит вприпрыжку рядом с ним, чтобы только не упустить его из виду: позади экипажа валит целая свита зевак, больших и малых.
– Да здравствует помпеец! Evviva!
А вот в коляску – летят и букетики живых цветов. Правда, что продавцы этих цветов бегут также за коляской с протянутой рукой, и Баланцони, расщедрившись, бросает им несколько сольди из собственного уже портмоне.
– Чем не триумфатор? – говорил он. – В древнем Риме не один из твоих старых приятелей позавидовал бы тебе!
Марк-Июний, однако, был не столько польщен, как смущен.
– Нет, наши триумфаторы принимались совсем иначе… – промолвил он.
– А как же?
– Звуки труб, рожков и флейт… Гирлянды цветов на дверях и воротах… Мостовая устлана розами… Треножники пылают; алтари, курильницы дымятся… По всему пути шествия улицы с ранней зари запружены несметною толпою; окна и крыши заняты зрителями… И вот издали доносятся радостные клики. Клики растут, обращаются в один несмолкаемый гул. Толпа заволновалась, как бурное море. Процессия приближается. Впереди – длинная вереница победных колесниц с военной добычей; за ними – такая же вереница всяких диких зверей в цепях и клетках; толпы пленников и пленниц в тяжелых оковах, могучий жертвенный бык, жрецы и Pontifex maximus[24]: наконец, и победоносное войско, когорта за когортой, во всеоружии, в лавровых венках и с масличными ветвями; и после всех – сам триумфатор в золотой колеснице, – не развалившись на мягких подушках, как я с вами, а гордо стоя и правя своими белыми конями. Глава его увенчана лаврами, и стоящий за ним раб держит еще над ним золотой венец с драгоценными каменьями. А с крыш и из окон, по всему пути, при оглушительных криках восторга, сыплется на него нескончаемый дождь венков и цветов…
– Что за картина! садись да пиши! – сказал Баланцони, жадно прислушивавшийся к отрывочной, вдохновенной речи помпейца.
– Так что же вы не пишете? – заметил Скарамуцциа, довольный, казалось, уже тем, что движение экипажа не давало репортеру тотчас записать слышанное.
– Записано, не бойтесь, – отозвался Баланцони и ткнул себя пальцем в лоб: – вон тут.
Коляска остановилась перед национальным музеем. Валившая сзади шумная толпа мигом окружила помпейца с его двумя спутниками, и те не без труда пробились на подъезд. Но и здесь им не удалось отделаться от докучного конвоя. Большинство этого разношерстного сброда, толкаясь и сшибаясь в дверях, последовало за ними в музей. Швейцар, испуганный таким небывалым наплывом публики, попытался было впускать ее с некоторым разбором; но несколько оборванных уличных мальчишек, которых он насильно высадил на улицу, с визгом и свистом тут же разбили каменьями стекла в дверях и ближайших окнах. Подоспевшие полицейские разогнали маленьких буянов.
Неаполитанский национальный музей – единственный в своем роде: это – хранилище всех древностей, найденных в окрестностях Неаполя, в том числе и в Помпее. Немногие лишь помещения отведены под картины и скульптуры сравнительно позднейших времен (начиная с Рафаэля).
Баланцони провел нашего помпейца прямо в залы средневековой итальянской школы живописи. Однако, эти произведения знаменитейших мастеров не производили, по-видимому, на Марка-Июния никакого впечатления. Довольно рассеянно слушал он и объяснения «доктора изящных искусств» о том, что каждую из этих знаменитостей можно легко признать по некоторым отличительным признакам: Рафаэля – по неземному, загадочно-мечтательному выражению его мадонн, Микеланджело – по мясистым фигурам, Тициана – по рыжеволосым красавицам, и т. д.
– Да что же ты сам-то ни слова не скажешь? – спросил наконец Баланцони. – Неужели эти картины, по-твоему, не хороши?
– Хороши… – как-то нерешительно отвечал помпеец.
– Ты не договариваешь?
– Да глаз мой, должно быть, к ним еще не пригляделся. Ко всему новому надо сперва привыкнуть. Ведь все они написаны кажется, просто на холсте?
– Понятно.
– Для меня это вовсе не так уже понятно. В мое время картины писались прямо на стене фресками…
– Что и естественнее, и прочнее! – подхватил Скарамуцциа, обрадовавшийся, что речь перешла снова на излюбленный им древности. – Не хочешь ли, мой друг, сейчас сравнить?
– Сейчас?
– Ну да, стоит только пройти в помпейский отдел.
– Здесь же, в музее?
– Да; ты найдешь там, – разумеется, кроме зданий. – всю свою Помпею, даже фрески.
– Как! вы вырезали их из стен? Да ведь это такое варварство…
– Что поделаешь, мой милый? Такие уж времена!
Любители древностей выцарапали бы, пожалуй, и фрески, как растащили не мало-таки – предметов искусства.
– На этих господ любителей не хватило бы и десяти Помпеи! – подхватил Баланцони. – Спасибо еще, что у нас в Неаполе так искусно подделывают теперь помпейские древности: даже знатоку не легко отличить подделку от оригинала.
– И подделки эти продаются совершенно открыто?
– В магазинах, да; но само собою разумеется, что покупателям они предлагаются за подлинные древности.
– Да это же обман, преступное мошенничество!
– Гм; mundus vult decipi, ergo decipiatur[25]. Покупатели при том – все больше из богатых иностранцев; и им приятность и нам нажива. Обоюдное удовольствие!
В таких разговорах Марк-Июний незаметно очутился в помпейском отделе музея.
Здесь скоплена вся движимость отрытой из-под пепла Помпеи.
Кроме бесчисленных статуй из мрамора и бронзы, свидетельствующих о высоком развитии изящного вкуса за тысячи лет тому назад, здесь есть немало предметов, наглядно иллюстрирующих тогдашние обычаи и домашний быт, как-то: разнообразные украшения женского туалета, воинское оружие, посуда и разная утварь; даже съестные припасы: окаменелые хлеба, зерна, яйца, грецкие орехи, чернослив. Кроме движимости, есть кое-что и недвижимое из области искусства: мозаичные полы и стенная живопись. Наконец, есть и представители тогдашнего человечества: окаменелые группы помпейцев, застигнутых врасплох землетрясением и живьем засушенных вулканическим пеплом.
К какому бы народу и сословию вы ни принадлежали, какие бы умственные или житейские интересы и занимали вас, но раз очутившись посреди этого давно погибшего и вдруг как бы вновь восставшего мира, вы на время забываете действительность и всецело переноситесь в ту древнюю эпоху. Что же должен был испытывать Марк-Июний среди этой родной ему обстановки?
Как в полусне, с растерянным видом, бродил он из залы в залу. Неугомонный Баланцони в начале взял на себя роль комментатора. Но Скарамуцциа очень решительно попросил его замолчать, и репортер, видя, что и без того цветы его красноречия пропадают даром, с презрительной усмешкой умолк.
Точно неодолимая сила гнала Марка-Июния все вперед да вперед. Как вдруг он вскрикнул и остановился. Внимание его приковала фреска, изображавшая Юнону в беседе с Юпитером.
– Ты видишь эту картину, верно, не в первый раз? – тихонько спросил его профессор.
Помпеец, погруженный в созерцание картины, глубоко вздохнул.
– Сколько раз я стоял уже перед нею! – прошептал он. – Ведь это было лучшее украшение триклиниума (столовой) моей бедной Лютеции! Этот божественный взор Юноны по-прежнему проникает в самое сердце. Но Юпитер… – что с ним сталось!.. О, варвары, варвары!
Между тем толпа любопытных, неотступно двигавшаяся за помпейцем из зала в зал, все ближе и плотнее обступала его с двумя его спутниками. Два англичанина-туриста в клетчатых летних костюмах, с биноклями в футлярах через плечо и с неразлучными краснокожими путеводителями в руках, заслонили своими неповоротливыми, долговязыми фигурами даже фреску, чтобы удобнее заглянуть в лицо нашего живого мертвеца, и справлялись в своих книжках, будто проверяя его подлинность. Другие зрители, из итальянцев, преспокойно ощупывали его плащ, а потом не без сердечного содрогания хватали его самого и за руку.
– Да он, господа, совсем теплый!
– А и вправду ведь, живехонек!