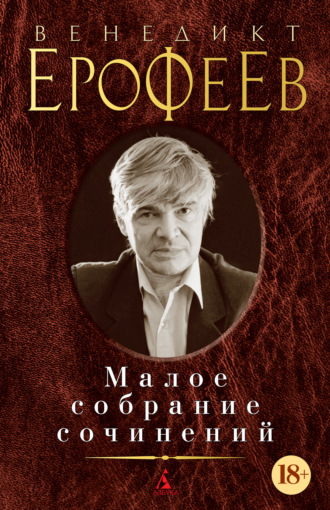
Венедикт Ерофеев
Малое собрание сочинений (сборник)
Страшно…
22 декабря
Нет, вы представляете!
Сентиментальничать две ночи подряд!
Извращенно сентиментальничать!
Две самые темные ночи!
И внимать! Хе-хе-хе!
В-в-внимать!
Уэх-хе-хе-хе-хе!
Нет, вы только представьте себе!
Я ответил: «Гм…»
Всего-навсего: «Гм»!
И потом: «Ах вот как!»
Я не пытался сенсинировать!
Задевать обиженных – не в моем стиле!
И все-таки я отказался брудировать!
Потому что только это мне и нужно было!
А самое отвратительное – когда сбываются мечты!
23 декабря
«…не нужно, Венька… слышишь? Не нужно пить… Я не хочу, чтобы ты пил… Я просто не знаю, что может на тебя подействовать, чтобы ты прекратил это пьянство… Я бы с удовольствием сделала для тебя все, только я не знаю, что делать… Веничка, ну дай мне слово, что ты никогда больше не будешь пить… А?.. Я тебя не отпущу от себя, пока ты не дашь слова… Будешь до утра мерзнуть, слышишь?..»
«…Ой, Венька, ты просто розовый младенец… Я просто ужасно хочу, чтобы ты был моим братом… Ну, чего ты презрительно ухмыляешься… А то, понимаешь, у меня никогда не было младшего брата… Ой, Венька, представляешь: я бы делала с тобой все, что хотела, и ты бы не посмел пикнуть… А то вот ты сейчас сидишь здесь и грубишь… Свободная личность – тоже мне… Вот сейчас возьму и изобью… Что-о-о? Что ты сказал?! Ну вот что мне оттого, что ты говоришь такие гадости…»
24 декабря
С отчисления пошло изумительно!
Самосейко НЕУДивлялся…
Катаев окончательно СЛ. Абел, ИЗВЕРГая комсомольскую верхушку и погружаясь в мИР МАтериализма…
Муравьев изрыГАЛ И НАпивался снова…
Дни розовели проносились…
Всепроникающие Факты продолжали фамильярно похлопывать по бедрам мою Радость…
И напрасно я пытался прикрыть Ее икры капроном нарочитой раздражительности…
В глазах сентябрило…
Мечты прельщали ЖЕСТокой неутомимикой…
Я грубо симпатизировал…
Я был до невероятности наМ.А.Г. ничен…
Я блевал недожеванными кусочками декабря в серенькую урну ноябрьского пессимизма…
Из влагалища моего воображения периодически выползали розовые, кричащие Шедевры…
Неуместная торжествуемость повсюду меня преследовала…
Я с трепетом раздавался…
Я изнемог.
25 декабря
А – ккатись все к ебеней мматери!!!
26 декабря
Ах, прекратите Леонид Самойсенко. Ведь все это – не так! Одним словом – скверная чистота.
С 11-и до 11.30 – коллективно составляли новогоднее послание тетушке у дверей 428-й комнаты.
В 11.30 принялись строить умопомрачительные прожекты на ночь. Я вынужден был отвергнуть ее предложение пойти на улицу – меня не пленяли перспективы многочасового дрожания на скамейке и даже ее обещание закутать меня в свой платок. В свою очередь, ее не прельстило мое предложение пройтись к окну Полидвы и пропеть ей пару похабных серенад.
В 12 часов я попытался отвернуться от назойливого оппонента и вновь углубиться в «разрушение личности».
С 12.00 до 12.15 – Музыкантиха предприняла несколько попыток лишить меня Горького – любовь моя к Горькому победила жажду романтики и ночных прогулок, я мужественно защитил творения своего любимца от наглых притязаний распоясавшейся хулиганки.
С 12.15 до 12.30 устно выражали недовольство по поводу обилия целующихся пар и восторгались трудолюбием Муравьева. В 12.30, с обоюдного согласия, приняли незамысловатое решение пройтись по мосту через Яузу и для разнообразия раздеть пару прохожих.
С 12.30 до 1.00 разочаровывались в последнем решении, жаловались на уличный холод, внутренне содрогались при воспоминании о 2 прошедших ночах, неудачно острили по поводу поцелуев и похабщины.
В 1.00 Музыкантиха пресытилась долгим стоянием и ежеминутными выражениями с моей стороны (не без влияния Горького) желаниями быть развращенным похабником.
С 1.00 до 1.15 Музыкантиха яростно намечала перспективы моего дальнейшего существования, а я в высшей степени устно выражал восхищение половой предприимчивостью Альберта Алферова.
В 1.15 устное выражение восторгов заставило пострадать мою шевелюру и одновременно возмутить мое Чувство Человеческого Достоинства.
В 1.20, в отместку за шевелюрные страдания шутливо определил ее «жирной полуношницей» – и затем, внешне погрузившись в пролетарскую философию, упивался трогательной молчаливостью и похвальной терпеливостью оскорбленной.
С 1.30 до 2.00 выражал недовольство ее мрачностию, убийственно заискивал и лицемерил, предпринимал отчаянные попытки рассмешить оскорбленную и к 2 часам с удовлетворением констатировал обоюдное ржание.
В 2.00 – решили занять угловой стол и выкурить Рубцова.
С 2.00 до 2.30 дискутировали насчет Космоса нарочито громкими голосами, одновременно констатируя мысленно раздражительное воздействие дискуссии на Рубцова и на Космос.
В 2.30 – облегченными вздохами и пантомимическим хихиканьем проводили до угла изможденного Рубцова – и решили откровенничать и безобразить.
С 2.30 до 2.45 жгли старые открытки, произносили над огнем заклинания, хихикали и осуждали западные моды.
В 2.45 – Музыкантиха доставила внушительную груду своих фотокарточек, и под угрозой физического воздействия я вынужден был восхищаться каждой в отдельности.
С 2.45 до 3.30 – созерцали фотографии, безнравственно хихикая, пинаясь под столом ногами и осуждая аморальное поведение коридорной пары.
В 3.30 – умственно плевали на фотографии и решили незамедлительно сжечь негодные.
С 3.30 до 4.00 – жгли, меланхолически любовались пламенем, разменивались комплиментами, курили и предприняли несколько неудачных попыток завязать драку.
В 4.00 я вынужден был храбро встретить прилив материнской ласки со стороны моего оппонента и отверг ее полушутливое предложение кровью подписать совместный клятвенный контракт.
С 4.00 до 4.30 – взвешивали все способы вытягивания друг из друга крови для подписания «контракта», дружно осуждали алкоголизм и восхищались мрачностию фланирующего мимо В. Муравьева.
С 4.30 до 4.45 безуспешно пробовали стричь друг другу ногти и столь же тщетно пытались определить, чьи конечности чище и эстетнее.
В 4.45 я презрительно обнажил всю безыдейность ее предложения выйти подышать свежим воздухом и посидеть в снегу.
С 4.45 до 5.00 – освятили своим присутствием комнату Никоновой, жаловались на однообразие трофеев. Пили из горлышка лимонад, грызли яблоки, изучали траекторию летящих огрызков; при воспоминании о Мичурине продемонстрировали обоюдный скепсис.
5.00 – совершенно некстати вспомнили 15 декабря, постигли весь ужас имевшего места инцидента, обменялись мрачными взглядами и не менее мрачными идиоматическими выражениями.
В 5.15 с похвальным единодушием изъявили желание заниматься.
С 5.15 до 5.45 нехотя читали, изредка перехихикиваясь и надменно следя эволюцию трамвайного парка.
В 5.45 дружно протирали глаза и выражали ужас перед лицом Времени и Бессонницы.
С 5.45 до 6.15 флегматично хлопали глазами, курили, лениво друг друга оскорбляли, внимая треску репродукторов и будильников.
В 6.15 – по-прежнему флегматично сдули пепел со стола, пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись.
Только и всего.
И все прежние дни – так.
Так что уж и без похабных намеков, Л. С.!
27 декабря
Пусть Время туго обтягивает свои прелести!
Все равно – не прельстит! –
Последние четыре проползут бесследно! –
И этот отвратительнейший год с грохотом полетит в пизду!!
6.15 ночи.
28 декабря
«…Он! Он объяснился! Я на крыльях влетела в общежитие и весь вечер занималась с упоением…»
(Р. Гуржибекова, «Дневник», стр. 531)
«…И угораздило же меня, братцы, втюриться в эту Р. Гуржибекову… Тут, понимаете ли, Бомарше на носу, Корнель и все такое прочее… Завтра, понимаете ли, нужно на зачет тащиться с утра, и на последнюю ночь я возложил такие надежды…
И вдруг – на́ тебе!
Сижу я это, значит, у окна, рыгаю шницелем и цежу сквозь зубы: „Экгоф в роли Доримона – настоящий Доримон… Tot linguae quot membra viro…“ – вдруг вижу – едакой экстравагантной походкой и со стулом в обнимку приближается ко мне объект моей сессионной страсти… Ну я, понятное дело, без промедления пронзил взглядом ее перси с претензией на осетинскую пышность – и восхищенно процедил: „Этт, в алилуйство мать, а?“ Она, конечно же, спервоначалу побледнела, то бишь похолодела, потом это, значит, эвакуировала в толщу ланит весь запас своих эритроцитов и грузно опустилась на свою ношу…
Я, как истый сибиряк, незамедлительно смекнул, что даже самая развратная женщина, будь то хоть дьявол или студентка МГЭИ, – не будет румяниться, ежели постигнет благоуханную невинность подобной ситуации – что вот, мол, циничные взгляды подвергают массажу ее прелести и все такое прочее… Я, конечно же, без околичностей допер своим пролетарским умишком, что по нечаянности пронзил взглядом не только перси, но и то, что стыдливо прикрывается оными…
Но ведь вы сами понимаете, что у меня и в мыслях-то моих пролетарских не было охоты так глубоко пронзать… Ну, сами посудите, – начнутся вздохи и шевеления, а у меня Корнель на носу, Расин, Бомарше и все такое прочее… Я, конечное дело, унутренне исплевал высокие чувства и невозмутимо продолжал шамкать „Роксолану“, периодически рыгая шницелем… А сам все смотрю идиотски на ее эти самые-то, хе-хе-хе, и стараюсь сдерживать в себе и отрыжки шницеля, и позывы плоти… Но, в конце-то концов, – ведь я мужчина, и неуместное колыхание персей в такой опасной близости, граждане, смутит самого Кекконена… Я, понимаете ли, не мог равнодушно созерцать все эти вещички… Я стиснул зубы и, сдерживая дрожь в голосе, изрек: „Уйдите, милая, и не подымайте во мне“… так и сказал: „не подымайте во мне…“
И вот что, братцы, удивительно – она все поняла и поспешила обвертикалиться; но узрев всю прелесть ее необъятных и тем не менее удаляющихся бедер, – я вспыхнул, я прочувствовал в един секунд всю силу своих животных позывов… и я бы с удовольствием занялся самобичеванием, граждане, но – подумайте сами – завтра зачет, объяснение в деканате, Лесаж, Корнель, Расин, Д’Онэ, Дидро, Вольтер, Бомарше – и все такое прочее…»
(Ю. Романеев. «Избранные сенсации», стр. 27)
«И в 24 года – разрушена первая любовь!
Мгновения счастья утекли безвозвратно!..
Сегодняшний вечер окатил меня ушатом холодной воды.
Она сидела с Романеевым и любезничала.
И оба были красны и довольны.
За такие дела у нас в лагере морды били».
(Н. Рубцов. «А уж я ли, кажется…», стр. 31)
«Милый ты мой, у тебя просто нет чутья. Я лично вполне одобряю романеевские вкусы; посмотри-ка на нее сбоку хорошенько – уэ-э-э-э! – а ежели с тыла – так натурально Елизавета Гассекс, Амалия Вейсе и, если угодно, – госпожа Дорсенвиль! Воплощенная кротость! Хе-хе-хе! Неизменный идеал! Непреходящий кумир! Идеолог телесной шедевральности!.. Трам-пам-пам…
Дика как лань, дитя Кавказа,
Пурум-пум-пум. Пурум-пум-пум…»
(В. Скороденко. «Половая аудиенция»)
«Я встал, застегнул ширинку, в последний раз затянулся горьковатым дымом папиросы и вышел в коридор. Необычная тишина заставила меня вспомнить о дневном шуме, когда этот коридор заполняется до отказа веселыми девушками и юношами, – они разговаривают об экзаменах, о любви. Но теперь все было тихо, и только слышны были на лестнице звуки ночных поцелуев. Эти звуки обострили мое одиночество и заставили вспомнить о догорающей любви… Да! Пепел, пепел – вот все, что осталось от ноябрьского увлечения… Погруженный в такие раздумья, я еще раз проверил, надежно ли застегнута ширинка, завернул за угол и вдруг увидел ее…
Она, сука, сидела с Романеевым и о чем-то беседовала… Я хотел было свернуть вправо, но вдруг увидел, как она неожиданно встала и направилась ко мне. Радости моей не было границ, я моментально вспомнил о прошлых ссорах с ней и сразу же простил ей все…
Она тихо сказала „Здравствуй“, – и тут я как будто впервые заметил, как она прекрасна. „Какие у нее полные и вместе с тем влекущие, как призывы КПСС, округлости“, – сказал я сам себе и затем предложил ей пойти распить со мной бутылку хорошего вина. Она не отказалась и пригласила меня в свою комнату.
Но откуда мне было взять бутылку хорошего вина, если у меня всего-навсего маленькая московской? Я быстро сообразил, в чем дело, влил в старую винную бутылку всю водку, долил красной тушью и катаевским одеколоном, затем стащил у Спиро сахар и побросал кусочками. Получилось настоящее вино.
Через десять минут она уже открывала мне дверь и с радостью сообщала, что все девочки ушли на 10.45 в кино и что нам никто не будет мешать. Войдя в комнату, я осторожно закинул за петли все три крючка и закрыл дверь на ключ. Она ничего не заметила или, вернее, сделала вид, что не заметила, и это еще больше влило в меня уверенности, что она все-таки еще любит меня.
Я сел рядом с ней и через две секунды уже был опьянен ее близостью. Мы молча сидели, смотрели друг другу в глаза и упивались взаимной любовью. Мы совсем забыли про вино, к моему счастью.
Вдруг она очнулась от блаженного забытья и шепотом произнесла: „Через полчаса придут девочки из кино“, – и этими словами как будто говорила: „Чего же ты сидишь? Неужели ты меня больше не любишь?“… И как только я это услышал, я ласково обвил рукой ее прелестную талию. Она ничего не заметила или, вернее, сделала вид, что ничего не заметила, и это еще больше меня возбудило. Я схватил ее в охапку и прижал к своей груди. По небу плыли разорванные облака и ярко светил месяц.
Она всем своим нежным девичьим телом прижималась ко мне, – я ощущал усиленное биение ее сердца и расстегивал ширинку.
Вдруг она сама потянулась к кровати, вытянув свою прекрасную шейку и потянув меня за собой – и я упал на ее стройное девическое тело.
Через две секунды ее туфли и чулки уже валялись где-то в углу, а платье и рубашка где-то в другом углу. Я встал за шкаф и обезопасил свой орган резинкой, а она стояла в трусах посреди комнаты и, опустив руки, смотрела на луну… Вдруг я вспомнил, что она еще в трусах.
На небе ярко светил месяц и плыли разорванные облака. Я встал на колени и сдернул с нее трусы. Через секунду они валялись где-то в углу, а я схватил ее в охапку и потащил к постели. Я ощутил под своей грудью ее упругие девичьи груди, я впился губами в ее нежные губки и (……) ляжек. Она лежала молча, закрыв глаза, и только иногда шептала: „Милый! Кгм! Какой вы бык! Кгм!..“ Через десять минут мы уже выходили из комнаты… На душе было очень скверно, нам обоим было просто стыдно взглянуть в глаза встретившемуся Муравьеву…
Через 2 секунды я уже заходил в свою комнату, предварительно проверив, хорошо ли застегнута ширинка.
Еще через 2 секунды я уже сидел на своей кровати и затягивался горьковатым дымом папиросы».
(Л. Самосейко, «Далекие и близкие», стр. 436–444)
«За весь вечер один, только один взгляд!
И снова – неудовлетворенность!
И опять эта интуитивная боязнь за благополучие исхода!
Опять эта режущая боль в висках!
Цепь ассоциаций… цепь ассоциаций…
К черту! К черту! К черту!»
(В. Муравьев, «Глубокомыслие»)
29 декабря
О, я хорошо понимал его! Он считал ниже своего достоинства падать на глазах у толпы. Он мог бы присесть, опуститься к подножию, но мороз совершенно его закоченил. У него не сгибались конечности.
Нет, совершенно серьезно, – у него были красные руки, и он плакал… Я готов спорить на что угодно, что он действительно плакал.
И потом, – я же слышал, слышал эти истерические всхлипывания. Не мороз же выдавливал их из него! И не извержение рвоты, в конце концов, сотрясало ему плечи!.. Неужели же блевота может так бешено содрогать?!
Бросьте вы это! Он не чета вам! Он действительно орошал слезами фонарный столб и теребил его красными руками…
И вы думаете, меня смутили его всхлипывания, – и я дал ему огня?
Хе-хе-хе-хе, я слишком им восхищался, чтобы отравлять его. Я просто плюнул на соседний столб, – идиотски хихикая, потряс четвертинкой и через полминуты уже погружался в Яузский туман…
30 декабря
Да, да! Войдите! Тьфу, ччерт, какая идиотская скромность…
Ну, так как же, Вл. Бр.? Вы отказываетесь? А у вас это, между прочим, так неподражаемо: «…На-а-а зем-ле-е-э-э ве-эсь род…»
А мнения все-таки бросьте, пожалуйста… И «женскую душу», и «женскую натуру» – тоже бросьте… Да и возлагать на меня не стоит…
Другое дело – он!.. Он – исключительность, квинтэссенция благородства… Кстати – «lupus in…» и в зеленых пятнах! Ах, милый papan!
О! На вас жилет… и вы благоухаете! Фу, как противно же от вас пахнет… Да уйдите же! Уйдите! Слышите? Я не хочу вас! Не хочу!.. Мне противно на вас смотреть, papan!..
О боже мой! Сколько же можно блевать! И это – после двух крохотных винегретов! Что? Трех?.. Да бросьте вы, не морочьте мне голову… Как сейчас помню, вы проглотили два винегрета – и угрожали ножом взвизгивающей maman… Хе-хе-хе…
А я-таки был зачарован вашей позой… вы так удачно отеллировали, рараn, и так прохладно матерились… А Юрикино зловещее «Так ее!» разливало едакий благоуханный трепет по моим нервам… Слышите ли?! – нервам!! Хе-хе…
А ведь у меня были крепкие нервы… Я еще не пытался романтизировать… Я был холоден, как… гм… как трупик ощипанного котенка…
Да, кстати, какого хуя я вам толкую о романтизме… Вы мне противны, катитесь к черту! Ах нет, извиняюсь, papan, спите с богом… Хи-хи-хи… Что-о?
Что вы сказали, Т. В.? Я?! Но, собственно говоря, их у меня никогда не было и мне попросту нечего растаптывать… Почему же странно? Ведь вы же сами в некоторой мере виноваты… Да! Да! Войдите!..
Заметьте, я говорю – «в некоторой мере» и никого не виню… Ведь даже Вл. Бридкин говорил, что мне приходится тяготиться своей нежностью…
Да входите же, еби вашу мать! А! Это вы! Стоило так долго стучаться! Хе-хе-хе, ну как, что новенького? Что?! Даже откровенничать! Ха-ха! Откровенничать! Обнажаться, значит… Ну, что ж – прреподнесем, препподнесем!
Совершенно одна! Хи-хи-хи-хи!.. Да, да, конечно, это до чрезвычайности трагедийно… Единственное – старушка-мать… И не издохла?.. Да нет же, я хотел спросить: «И вы очень ее любите?»… Да неужели?! И вы – не спились, не взрезали перси?.. Ну да, конечно, конечно, «единственное – старушка-мать» и больше никого, совершенно никого… И тем не менее – уйдите!..
Да нет же! Не на хуй!.. Просто – уйдите…
Да не глядите же на меня так! Чем я, собственно, провинился?.. Бросьте это, А. Г., серьезно вам советую – бросьте!.. Ведь мы же, в конце концов, вчера снова обменялись взаимными плевками и теперь, по меньшей мере на неделю, зарядились злобой… И у меня сегодня просто нет настроения торговать звериными инстинктами… Угу! Всего!
Да, да! А. Г., вас давно сняли с веревки?
…Как! Вас и не поднимали?! Ха-ха-ха! Вы только послушайте, – как она мило острит!.. Значит, вас серьезно не снимали?.. Ах да! Как я мог снова перепутать? Эй!..
Да нет, это я не вам… угу, до свиданья…
Эй! Лидия Александровна!.. Ну, как вы там? А? Хе-хе-ххе-хе-хе! Ах, ну дайте же, я паду ниц! Что? Как это так! – не стоит! Как будто бы я не падал шестнадцатого!..
Фу! Какие у вас ледяные ноги!.. И этот ебаный буран еще раскачивает их! Чччоррт побери, ведь ровно год назад и в такой же буран ОН здесь качался!.. И ваш покойный родитель тоже… ха-ха-ха… тоже! Ах, как вы плакали тогда, Лидия Александровна, как мило вы осыпали матом вселенную и неудачно имитировали сумасшедший бред… Хи-хи… Нет, не врите… Вы не были потрясены! Вы издевались, чччерт, вы хихикали!..
Да прекратите же, в конце концов, раскачиваться… Хоть после смерти-то ведите себя прилично и не шуршите передо мной ледяными прелестями… Я не горбун Землянкин! Хе-хе!.. Вот видите – вы даже можете хорошо меня понимать!.. Когда речь заходит об августовских испражнениях, вы непременно все понимаете…
Ах! Вы уже не сможете теперь испражняться так комфортабельно и так… непосредственно… А ведь он, смею вас заверить, трепетал от умиления… И я почти завидовал ему! Слышите ли? – завидовал!! Еще месяц – и я раболепствовал бы в высшей степени… Как вы были очаровательны тогда, тьфу!..
Вы мне позволите, конечно, еще раз прикоснуться губами… Да нет же! Что еще за буран! Вы – каменная глыба! Вы – лед! И тем не менее вы продолжаете гнуться! Какой же еще, к дьяволу, буран!
Ха-ха-ха, вы притворяетесь, что не слышите меня! Вы нагло щуритесь! Вы – прельщаете!.. Хе-хе… Пррельщаете!
А водка-то льется, Лидия Александровна! Льется…еби ее мать!.. щекочет трахею… сорок пять градусов! Хи-хи-хи-хи, сорок пять градусов!.. Шатены… хи-хи-хи… брюнэты… блондины… Триппер… гонор-рея… шанкр… сифилис… капруан… фильдекос… креп-жоржет… Их-хи-хи-хи-хи!.. А Юрик-то… помните… кххх – и все!.. Кххх! – И все!!! И северное сия-яние! Северное сия-а-ание!..
31 декабря
Все грустите!.. А ведь через шестьдесят – весна… Влажность, температура, настроение – все поползет выше… Расширятся семенники… Защекочет во влагалищах… Полюбите…
Не нужно отчаиваться…
11.30 вечера.
1 января
Совершенно ни одной?
И это – «Гастр.»!
Тьфу!
Опять – получасовое хождение и проникновение за стекла.
…Насилие трупов.
…Насилие новорожденных.
…Насилие статуй.
…Половое влечение к женским теням. Испражнениям. Блевоте.
…Извержение половых секретов в зияющие раны любимого тела.
…Просто насилие.
Стоп! – Справа еще один! Витрина не блещет. Но вторгнуться необходимо. Опять ни одной. Что, не было с утра? – Хх…
И на ответ плюну. Пойду.
…Три тысячи слов с Муз.
…Тысяча – с Мур.
…Пятьсот – с Мих. и членами комнаты.
…Двести – с остальным населением земного шара.
…Ежедневная средняя.
Но, в конце-то концов, вам их раньше привозили? Или виноват склад?
Даже никто не виноват!
Значит – я!
…Испускание слез и мочи.
…Первое символизирует эмоции.
…Второе – интеллект.
…Разница – в процентном содержании циановой кислоты.
…Голова и конечности. Юрий Новиков отдает предпочтение конечностям. Последние обеспечивают большую вероятность попадания в баскетбольную корзину.
…Жидкий стул. Понос. Запор. Юрий Романеев стыдится своей гениальности.
Не может быть!
Есть?!
– Без посуды?
– Без посуды.
– Двенадцать шестьдесят.
2 января
Фи, как все это опереттично!
«Венька, ну вот признайся, что ты все-таки меня любишь».
«Ну еще бы… Сидит этакая двадцатилетняя женщина, обтянула себя нижней рубашкой и домой не отпускает… Так конечно…»
«Дурак».
«…Так поневоле влюбишься… Ты бы еще вообще разделась и держала бы при себе еще 2 часа, так я бы и без напоминаний объяснился».
«Дурак».
«Бочка».
Все равно же – неделя разрушена.
И серым Ф. больше не представится возможности обвинить меня в sex арреа-ль-ности.
После второй половины марта.
1–3 января своеобразный финал.
Без ожидания следующей «второй половины».
И без оплакивания финала.
3 января
Вот видите – вам опять смешно.
Вы не верите, что можно вскармливать нарывом. А если бы вы имели счастье наблюдать, то убедились бы, что ЭТО даже достойно поощрения.
И сейчас я имею полное право смеяться над вами. Вы не видите, вы не внемлете моим гениальным догадкам – и не собираетесь раскаиваться.
А я созерцаю и раздраженно смиряюсь.
«Значит, так надо».
«Мало того – может быть, только потому-то грудь матери окружена ореолом святости и таинственности».
Ну, посудите сами, как это нелепо!
Я пытаюсь даже рассмеяться… И не могу. Меня непреодолимо тянет к ржанию – а я не УМЕЮ придать смеющегося вида своей физиономии…
Я сразу догадываюсь – мороз, бездарный мороз. Мороз сковывает мне лицо и превращает улыбку в идиотское искривление губ.
Я воспроизвожу мысленно фотографию последнего номера «Московской правды»… обмороженные и тем не менее улыбающиеся физиономии… Проклинаю мороз и разуверяюсь в правдивости социалистической прессы.
Дальнейшее необъяснимо.
Ребенок обнажает зубы, всего-навсего – крохотные желтые зубы… Обнажение ли, крохотность или желтизна – но меня раздражает… Я моментально делаю вывод: «Этому тельцу нужна вилка. И не просто вилка, а вилка, исторгнутая из баклажанной икры».
Ребенок мотает головой. Он не согласен. Он кичится своей разочарованностью и игнорирует мою гениальность. И эта гнойная…эта гнойная – торжествует!
Я вынужден вспылить!
Как она смеет… эта опьяненная сперматозоидами и извергнувшая из своего влагалища кричащий сгусток кровавой блевоты…
Как она смеет не удивляться способности этого сгустка к наглому отрицанию!..
Но рука не подымается. Мне слишком холодно, и я парализован. Я сомневаюсь – достанет ли сил протереть глаза…
Можно и не сомневаться.
Я лежу и выпускаю дым. В атмосфере – запах баклажана. А в пасти хрипящего младенца все тот же сосок, увенчанный зеленым нарывом…
Сам! Сам встану!
Дневник
4 января – 27 января 1957 г.
II
Продолжение записок психопата
4 января
Встретив лицом к лицу, робко опустить голову и пройти мимо в трепетном восторге и смущении…
…проводить взглядом удаляющуюся фигуру – и, хихикнув, двинуться вослед…
…осторожно ступая, подкрасться – и нанести искросыпительный удар по невидимой сзади физиономии…
…не предпринимая никаких попыток к бегству, по-прежнему робко опустить голову и безропотно упиваться музыкой устного гнева…
…неутомимо льстить, лицемерить, петь славословия, свирепо раскаиваться, яростно извиняться, – пасть на колени и лобызать все что угодно…
…рабским взглядом поблагодарить за ниспосланное прощение и убедить в неповторимости происшедшего…
…на прощание – ласково солидаризироваться в вопросе о нерентабельности поэтической мысли…
…при возобновлении удаления – издалека нанести удар чем-нибудь тяжелым – и тем самым обнажить отсутствие совести и способность на самые непредвиденные метаморфозы…
…и, продолжая свой путь, заглушать тыловые всхлипывания и мстительные угрозы напевами из Грига.
5 января
Утром – окончательное возвращение к прошлому январю.
Тоска по 21-му уже не реабилитируется. Нелабильный исход – не разочаровывает.
Даже по-муравьевски тщательное высушивание эмоций и нанизывание на страницы зеленых блокнотов – невозможно.
Высушивать нечего.
Впервые после 19-го марта – нечего.
Пусто.
7 января
Помните, Вл. Бр.? – Вы говорили:
«Ерофеевы – тля, разложение, цвет, гордость. О Гущиных не говорю… Мамаша эта твоя, Борис и сестры – просто видимость, Гущины, мамашин род… Эти – просуществуют… А Ерофеевыми горжусь… Папаша в последние минуты всех посылал к ебеней матери… а тебя не упоминал вообще… Мать, наверное, говорила тебе?..
Загнулся человек… и мать не успел выжить… А надо бы, надо бы… правильно я говорю?
Ннадо… Еще налить?
Двадцать лет в лагере – это внушительно… И Юрик прямо по его стопам… Водка и лагерь – ничего нового… Совершенно ничего нового… А это – плохо… Скверно… Спроси у любого кировчанина – каждый тебе ответит: Юрий – рядовой хулиган, пьяный бык, Бридкина наместник – и больше ничего… На тебя все возлагают надежды… Ты умнее их всех, из тебя выйдет многое… Я уверен, я еще не совсем тебя понимаю, но уверен…
А за университет не цепляйся… И не бойся, что в Кировске взбудоражатся, если что-нибудь о тебе услышат… Все равно – ты уже наделал шума с этими своими тасканиями, Тамара уже смирилась, и мать – тоже…
И не бойся тюрьмы… Главное – не бойся тюрьмы… Тюрьма озверивает… А это – хорошо. Бандиты эти грубые, бесчувственные – но не скрывают этого… Искренние… А ваши эти университетские – то же самое, а пытаются сентиментальничать… Умных мало – а все умничают… Чувствовать умно надо, чувствовать не головой, но умно… А ваши эти все – холодные умники…
Тебе с ними не по пути… Они просуществуют, как твои Гущины…
Они не хотят существовать просто так… Они в мечтах – мировые гении… И, мечтая, существуют… Я знаю этих типов, я сам учился в университете…
и – знаю… Они чувствуют, – когда есть свободное время… И даже сладострастничают – только внешне… Я – знаю…
Они могут доказать ненужность того, чего у них нет… и для них это – признак ума… Главное для них – чистота… чистота своих чувствий… А их, этих чувствий, у большинства, почти у всех – немного – и содержать их в чистоте – нетрудно… Они, эти цивилизованные, будут ненавидеть тебя – говорю совершенно серьезно – ненавидеть! Все запоминай… и всем – мсти… Извини, что я, пьяный, учу тебя – вместо родителя… Ты – особенный, только на тебя и можно возлагать надежды… Главное – избегай всегда искренности с ними, – немного искренности – и ты прослывешь бездушным, грязным, сумасшедшим…
Ты! – бездушный и грязный! Хе-хе-хе-хе…
Налить еще, что ли?»
8 января
О! Слово найдено – рудимент! Рудимент!
9 января
Даже для самого себя – неожиданно:
Оскорбленный человек первый идет на примирение,
а я не удостаиваю взглядом, спокойно перелистываю очередную страницу «Карамазовых» и – не подымая головы – лениво:
Катись к черту.
И ничуть не смущает ответное скрежетание:
Ид-диот.
Все – спокойно, умеренно злобно, внешне – почти устало… без излишней мимики, а тем более – дрожи…
Удивительно, что спокойствие – не только внешнее… По-прежнему шуршат «Карамазовы» – и никакого волнения.
10 января
Через двести тридцать восемь
припп
ппом
мню
и совершенно непопулярно. Цифры и буквы останутся я вникаю и – Хорошо. Первый совершенно пятьдесят шесть. Ожидаю – (благо докани!) – и ласково бкт. Еще не БКТ просто спокойно и боковой стол у лестницы ПОМНЮ! ПОМНЮ! – нужно. Кстати, четвертое лежание и потом – морщины – это тоже хорошо, большая помощь и помнишь на кровати с опять дым, на неделю – (да меньше!) – на пол помогает – и чуть не слезы. Это – так, реверанс…
С первого не нужен верх, это потом, а в начале, в самом начале – ОТТ ФЕ – и уых! – уых! – уых! в центр, не сразу, не сразу… Я даже не шевелюсь и смотрю выделяю (да нет же! – стараюсь – а ты! – выделяю – выделяю! А если бы во втором – не надо девятнадцатой краски):
«С то-ой па-ары кык мы уви-и…»
дились с тобой в сердце радость и парам-пампам – ношу и так далее. И я просто слышу и просто запомнилось, светил нет. А был буфет и еще чего-нибудь не ждал (даже и не буфет, а немного скромничаю и в девятнадцать краснота) и не просто так, а СИДЕНИЕ В ГЛАЗАХ и произношение. Гляжу в обруазерll и ЛЕ начинает, – кончил потом с жарой и плохо (кончил, в смысле) даже ме… в смысле, даже ме… в смысле, даже ме… в см (А! ддьявол! – это всегда так, когда старая пластинка! Да подтолкни ты, ччерт!)…нил и все равно до ТЕМПЕРАТУРЫ УВАЖЕНИЕ потом, когда уже уголок – так и с КРИ (лучше буду – кри) пришел… кри мешает и заставляется… И неважно, двадцать четвертого заглядываю и с дрожью «мол, возьмите» – и можно не впускать, раз уж так раздето (уввв!) до кри еще, а больше в мартиззз – ничего.
Последнее в д-м кроме конца – одним словом! Почти до скончания –
Все! Все! И водка! И дым! И все! Домай!
Понятно – я идиот… («жет» – а прошло! – это я так – потому что нечего inform, а так…). И все стремительно до дюж-апр, ВДРУГ дрожь и – в руа-муан… И до demonstr! До demonstr! И не ЛЕ – Я! Я сам! И выход – и вниз к стулу – теплота – и хорошо – выход – ХОРОШО – потом, правда, но теперь – лик! ОВАН!
Теперьпопор.
Один плюс четыре. Я сам не знаю но видел! Видел! (Как это называется? – бардуав). Да, да! Вспомнил! Бардуав! (Это ведь я сам изменил, чтобы «уав» было, а на самом-то деле и не «уав»). Взгляды не пугают, а раздраженного в трепет только –






