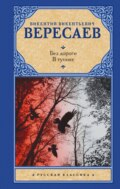Викентий Вересаев
Художник жизни
– Нет, ты христианин, ты хочешь делать добро, говоришь, что любишь людей, за что же ты казнишь ту женщину, которая отдала тебе всю свою жизнь?
– Да чем же я казню? Я и люблю, но…
– Как же не казнишь, когда ты бросаешь меня, уходишь. Что же скажут все? Одно из двух: или я дурная женщина, или ты сумасшедший… И за это я должна нести позор. Да и не позор только. Самое главное то, что ты теперь не любишь меня; ты любишь весь мир и пьяного Александра Петровича, – а я все-таки люблю тебя, не могу жить без тебя. За что? За что? (плачет).
– Ведь ты не хочешь понимать моей жизни, моей духовной жизни.
– Я хочу понимать, но не могу понять. Я вижу, что твое христианство сделало то, что ты возненавидел семью, меня. А для чего, – не понимаю.
– Маша! Я не нужен тебе. Отпусти меня. Я пытался участвовать в вашей жизни, внести в нее то, что составляет для меня всю жизнь. Но это невозможно. Выходит только то, что я мучаю вас и мучаю себя. Не только мучаю себя, но и гублю то, что я делаю. Мне всякий имеет право сказать и говорит, что я обманщик, что я говорю, но не делаю, что я проповедую евангельскую бедность, а сам живу в роскоши под предлогом, что я отдал все жене.
– И тебе перед людьми стыдно? Неужели ты не можешь стать выше этого?
– Не мне стыдно, – но и стыдно, – но я гублю дело Божие.
– Делай то, что ты проповедуешь: терпи, люби. Что тебе трудно? Только переносить нас, не лишать нас себя. Ну, что тебя мучает?
– Не могу я так жить. Пожалей меня, я измучился. Отпусти меня. Прощай.
– Если ты уйдешь, я уйду с тобой. А если не с тобой, то уйду под тот поезд, на котором ты поедешь. И пропадай они все, и Миша, и Катя! Боже мой, Боже мой! какое мучение! За что? За что? (плачет).
Простой уход для Толстого становится невозможен. Ему остается только бегство, – тайное бегство свободного человека из собственного дома. Крепкими сетями жалости и любви опутан лев, и у него нет сил разорвать эти сети. Нужно потихоньку, ночью, высвободиться из этих сетей и бежать.
В 1897 году Толстой начинает подготовлять бегство, сговаривается с друзьями. Он собирается поехать в Калугу к И. И. Горбунову, а оттуда – в Финляндию, о чем списывается со своим единомышленником, финляндским писателем Иернефельдом. Жене он оставляет письмо. В нем он пишет:
«Как индусы под шестьдесят лет уходят в лес, как всякому старому религиозному человеку хочется последние годы своей жизни посвятить Богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, теннису, так и мне, вступая в свой семидесятый год, всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения, и хоть не полного согласия, но не кричащего разногласия своей жизни с своими верованиями, со своей совестью. Если бы открыто сделать это, были бы просьбы, осуждения, споры, жалобы, и я бы остался, может быть, и не исполнил бы своего решения, а оно должно быть исполнено. И потому, пожалуйста, простите меня, и в душе своей, главное, ты, Соня, отпусти меня добровольно, и не сетуй на меня, не осуждай меня. То, что я ушел от тебя, не доказывает того, что я был недоволен тобой. Я знаю, что ты не могла, буквально не могла и не можешь видеть и чувствовать, как я, и потому не могла и не можешь изменить свою жизнь и приносить жертвы ради того, чего не сознаешь. И потому я не осуждаю тебя, а, напротив, с любовью и благодарностью вспоминаю длинные 35 лет нашей жизни. Благодарю, и с любовью вспоминаю и буду вспоминать за то, что ты дала мне. Прощай, дорогая Соня. Любящий тебя Лев Толстой».
Но он на этот раз не уехал. Письмо осталось не отправленным. Характерна запись Толстого в дневнике в день отправки письма к Иернефельду: «Внутренняя борьба. Мало верю в Бога. Не радуюсь экзамену, а тягочусь им, признавая вперед, что не выдержу. Всю ночь нынче не спал. Рано встал и много молился. Написал письмо Иернефельду. Это одно важно. А силы нет противостоять привычному соблазну. Приди и вселися в ны. Возбуди воскресенье во мне!». Как будто ясно: соблазн, это – остаться дома, не уехать. Но на запрос Иернефельда о просимой у него помощи Толстой отвечает: «теперь соблазн, который заставлял меня искать этой помощи, минован». И при личной встрече с Иернефельдом в Москве, Толстой сказал: «Да, да, соблазн минован на этот раз». – И потом, оглянувшись, с глубочайшим вздохом скорби прибавил: «Вы извините меня, Арвид Александрович, что я так живу, но, должно быть, так надо». И Черткову он пишет через четыре дня после вышеприведенной записи в дневнике: «Я плох. Я учу других, а сам не умею жить. Уж который год задаю себе вопрос, следует ли продолжать жить, как я живу, или уйти, – и не могу решить. Знаю, что все решается тем, чтобы отречься от себя, и когда достигаю этого, тогда ясно». Как видим, то для него соблазн – остаться дома, то соблазн – как раз обратное, уйти из опостылевшей обстановки. И вопроса этого он никак не может решить.
Со стороны казалось бы, – вопрос так ясен и бесспорен. Прочтите драму «И свет во тьме светит». Вы недоумеваете, – что же мешает Николаю Ивановичу поступить так, как ему приказывает совесть? Что его связывает с его тупою, хитрою и бессердечною женою? Почему он так покорно и робко отступает каждый раз перед ее напором? Ответ может быть только один: слабый, безвольный человек, совершенно ясно видящий дорогу, но не смеющий выйти из-под власти своей Ксантиппы. Между тем в ремарке этот Николай Иванович характеризуется, как «сильный, энергичный».
Дело в том, что отношения между Толстым и Софьей Андреевной вовсе не походили на отношения между Сократом и Ксантиппой, и не походили также на отношения между Николаем Ивановичем и Марьей Ивановной в драме «И свет во тьме». Драма эта представляет из себя только взволнованный набросок, сделанный художником в горячке личных переживаний. Это только схема, только голый остов, который еще должен был заполниться живою плотью и кровью, засиять внутренним светом толстовского творчества, стоящего выше личного раздражения, полного любви и всепонимания. Тогда и сущность драмы стала бы нам понятнее.
Софья Андреевна – не Ксантиппа, и отношение к ней Толстого – не отношение к своей жене Сократа, стоически-спокойно несущего посланную ему судьбою семейную казнь. Толстой горячо и нежно любит жену. В разлуке они неизменно пишут друг другу каждый день. Если два-три дня нет писем, оба они одинаково уж волнуются и беспокоятся. В каждом письме он подробно ей сообщает о своем здоровье и житье, – что сегодня у него была изжога, что покалывает в бок, что маленький угар был, что мышь мешала ему спать. Чуть он себя почувствует немного худо, – она все бросает и, сама больная, в жару, едет к нему. В 1895 году он ей пишет: «Хотел тебе написать, милый друг, в самый день твоего отъезда, под свежим впечатлением того чувства, которое испытал, а вот прошло полтора дня, и только сегодня пишу. Чувство, которое я испытал, было странное умиление, жалость, и совершенно новая любовь к тебе, любовь такая, при которой я совершенно перенесся в тебя, и испытывал то самое, что ты испытывала. Это такое святое, хорошее чувство, что не надо бы говорить про него, да знаю, что ты будешь рада слышать это. Странно это чувство наше, как вечерняя заря. Только изредка тучки твоего несогласия со мной и моего с тобой уменьшают этот свет. Я все надеюсь, что они разойдутся перед ночью, и что закат будет совсем светлый и ясный». После смерти их любимого мальчика Ванечки Толстой пишет одному из своих друзей: «Больше чем когда-нибудь, теперь, когда она так страдает, чувствую всем существом истину слов, что муж и жена не отдельные существа, а одно».