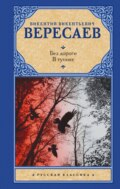Викентий Вересаев
Художник жизни
Поражает это невероятное непонимание души Толстого, причин, вызывающих его «тоскливое состояние». Конечно, это тоскливое состояние было вовсе не от болезни. Органически-болезненный переход от зрелого возраста к старости, отразившейся в «Исповеди», был назади. Толстой вступил в старость, – в ясную, просветленную и умиротворенную старость, прекраснейший удел хороших людей. В письмах, в дневниках Толстого мы постоянно встречаем отражение этого своеобразного старческого жизнеощущения, – «чувства расширения жизни, переступающей границы рождения и смерти», как выражается Толстой. Он пишет в дневнике: «Радостно то, что положительно открылось в старости новое состояние большого, неразрушимого блага. И это – не воображение, а ясно сознаваемая перемена состояния души, переход от путаницы, страдания к ясности и спокойствию. Вот именно выросли крылья. Это-то и есть молитва». И жизнь кругом захлестывает его душу волнами блаженной радости. «Вышел вечером за лес и заплакал от радости, благодарной за жизнь», – пишет он в дневнике.
Но какой-то тяжелый внешний гнет лежит на его жизни и все время мешает ему выпрямиться, мешает целостно зажить этою блаженною жизнью. И в отчаянии он пишет: «Хочется плакать над собою, над напрасно губимым остатком жизни». Он знает ясно и твердо, чего ему нужно, и в какие формы надо отлить этот остаток жизни, чтоб он не был загублен. Это – уход из томящей обстановки Ясной Поляны и бездомовное странничество по степным и лесным просторам родной земли. «Необходимость бездомовности, бродяжничества для христианина, – пишет он одному из своих друзей, – была для меня в самое первое время моего обращения самой радостной мыслью, объясняющей все, и такою, без которой истинное христианство не полно и не понятно». Любовно рисует он искупительное странничество о. Сергия, с жадным любопытством изучает историю загадочного старца Федора Кузьмича. Есть легенда, что этот старец был император Александр I, симулировавший в Таганроге свою смерть, положивший в свой гроб засеченного шпицрутенами солдата, а сам ушедший в серое народное море во искупление своих царских грехов. Толстой даже начал писать записки этого Федора Кузьмича. «Тело солдата, – рассказывает у него Кузьмич, – в закрытом гробу похоронили с величайшими почестями. Я же пережил ничтожные, в сравнении с моими преступлениями, страдания и незаслуженные мною величайшие радости».
Всякий, обладающий внутренним зрением, наблюдая Толстого в последний период его жизни, видел ясно, что он давно уже вышел духом из окружавшей его обстановки. Недавно умерший В. В. Розанов гениальным своим пером так рисует свое впечатление от Толстого. «Мне он показался безусловно прекрасен». Именно так, как ему должно быть. «Только не здесь, не в барской усадьбе. Как все это не идет к нему, отлепилось от него! Сидеть бы ему на завалинке около села или жить у ворот монастыря, – в хибарочке «старцем»; молиться, думать, говорить – не с «гостями», а с прохожими, со странниками, – и самому быть странником. В каком бы доме, казалось, он ни жил, «дом» был бы мал для него, несоизмерим с ним; а соизмеримым с ним, «идущим к нему», было поле, лес, природа, село, народ, т. е. страна и история. Он явно вышел, перерос условия видного, индивидуального существования, положения в обществе, «профессии», художества и литературы. «Исповедь» его, по которой он изо всего вышел, – была в высшей степени отражена в его фигуре, которая явно тоже изо всего вышла, осталась одна и единственна, одинока и грустна, но велика и своеобразна».
Да, именно так! Микула Селянинович в детской курточке сидит в душной спаленке. А самый близкий ему человек смотрит, дивится его «тоскливому состоянию», с усмешкою говорит: «чем бы дитя ни тешилось, только б не плакало!» И с любовною заботою: «полечись кумысом»…
Если бы Толстой был писателем, то томление по этой новой, заманчивой для него жизни разрешилось бы просто. Он написал бы историю странничества Федора Кузьмича или о. Сергия, написал бы ярко, захватывающе, – и получил бы удовлетворение. Но Толстой, – Толстой не был писателем. Он был, пользуясь удачным выражением его биографа, П. И. Бирюкова, «свободным художником жизни». И, лишенный возможности воплотить свои замыслы в жизнь, в делание, он испытывал муки художника, у которого остановлен и задавлен его творческий порыв.
V
Но почему же, почему он в таком случае не уходил?
Давно уже смутные слухи настойчиво указывали на одно определенное лицо, упорно загораживавшее Толстому дорогу к новой жизни. Теперь обе стороны ушли из жизни, теперь опубликованы многие интимные места из дневников и переписки Толстого, напечатан набросок его откровенно-автобиографической драмы «И свет во тьме светит». И нет теперь никакого сомнения, что лицом этим была его милая, любящая Кити, – его жена.
Тот же В. В. Розанов так описывает свое впечатление от Софьи Андреевны: «Вошла графиня Софья Андреевна, и я сейчас же ее определил, как «бурю». Платье шумит. Голос твердый, уверенный. Красива, несмотря на годы. Мне казалось, что ей все хочет повиноваться или не может не повиноваться; она же и не может, и не хочет ничему повиноваться. Явно – умна, но несколько практическим умом. «Жена великого писателя с головы до ног», как Лир был «королем с головы до ног».
Вот тут – вся суть этой тяжелой драмы. Жена великого писателя с головы до ног. А он, – он ни мизинчиком не писатель. О, отчего он не был писателем! Будь он Флобером, Зола, Ибсеном, Достоевским, – и как бы хорошо, как радостно и благообразно шла бы жизнь! Широкая слава, всеобщее уважение. Лавреат и почетный член академий всего мира. Колоссальные гонорары. Прекрасная барская усадьба для лета, уютный дом в Москве для зимы. Вполне обеспеченное существование. Большая, дружная семья, счастливые дети, бесчисленные, милые внучата. Всегда полный дом самых избранных гостей. Чего еще желать? О, ей, хозяйке, – ей тут работы без конца; но она на это не жалуется. Работа радостная и привычная. Сложное управление домом и хозяйством, оберегание покоя и удобств великого своего мужа, заботы и хлопоты о детях. Денег, конечно, никогда не хватает, – расходов так много! Но энергии у нее довольно. Она сама обшивает мужа и детей, сама издает сочинения мужа, – это гораздо выгоднее, чем продавать издателям. Тонет в корректурах, принимает подписку. Судится с мужиками: они так наглы, так бесцеремонно рубят ее лес; если не будет острастки, то скоро и парк начнут рубить. Мало того, что на расходы нужны деньги. Нужно еще обеспечить всех детей. А их очень много. Все они женаты, замужем. Каждому нужно по хорошему именьицу.
И вдруг он, центр и солнце этой гармонической системы, говорит: ничего это не нужно. «То, что ты называешь важными делами, я называю пустейшими из пустейших». И мало того, что это не нужно. Все это преступно. Это – разврат, это – грабительство. Нужно отказаться от неправедно нажитого богатства, отдать землю мужикам, отказаться от права литературной собственности и начать жить трудами рук своих. Все это, конечно, очень было бы хорошо и трогательно в романе. Но в жизни, в жизни! Одним махом собственными руками разрушить благополучие, создавшееся ими обоими в течение десятков лет. Ей самой сбросить с себя шелка и батисты, превратиться в деревенскую бабу, ставить хлебы и доить коров. Детям превратиться в бедняков, захудалых графчиков, и тяжелым трудом зарабатывать себе черствый кусок хлеба. А они так неподготовлены к труду, так привыкли к балам, к винту, к борзым собакам… Да что это, – сон? Блажь спятившего с ума человека, не понимающего, что он говорит?